|
РусАрх |
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
|
Источник: Гутнов А.Э. Мир архитектуры: язык архитектуры. М., 1985. Все права сохранены.
Размещение электронной версии в открытом доступе произведено http://architecture.artyx.ru. Все права сохранены.
Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2009 г.
А.Э. Гутнов
Мир архитектуры: язык архитектуры
ОТ АВТОРА
Архитектура окружает человека на каждом шагу. Мир архитектуры — это тот мир, в котором он живет и действует повседневно.
Можно сказать, каждый из нас знает архитектуру и хорошо и плохо. Хорошо, потому что в своей жизни видит и помнит множество выдающихся произведений зодчества, а плохо, потому что мало знает о том, по каким законам эти произведения создаются, почему они такие, какие они есть.
Школа учит основам литературы, музыки, танца, изобразительного искусства. Но она, к сожалению, не учит пока азам архитектуры. Наша книга представляет собой попытку восполнить такую нехватку элементарных знаний.
Конечно, это не учебник. Читатель не найдет здесь систематического изложения всех основных проблем теории и истории архитектуры. Скорее это книга для чтения, в которой автор стремился облечь рассказ об архитектуре в более или менее занимательную форму.
Читатель столкнется в книге с некоторыми хрестоматийными примерами, но, вероятно, узнает о них кое-что новое. Он встретится также с некоторыми незнакомыми терминами, названиями. Краткий словарь архитектурных терминов в конце книги должен, хотя бы отчасти, компенсировать это вынужденное неудобство.
Книга, которую читатель держит в руках, называется «Язык архитектуры». Речь в ней идет, пожалуй, о самом главном и сложном в архитектурном деле — о том, как создается архитектура и какими средствами она воздействует на человека. Это книга о двуединой природе архитектурного творчества, извечно сочетающей расчет и интуицию, логику ученого, ремесло мастера и талант художника.
Проблемы архитектуры, о которых повествует книга, непросты по самой своей сути, каким бы простым языком ни пытаться их излагать. Многие из них не имеют пока однозначных ответов и остаются полем ожесточенного творческого спора самих архитекторов. В этих случаях автор не пытался изображать, что ему известна «истина в последней инстанции», а предпочитал, по возможности непредвзято, излагать разные точки зрения.
Автор вполне сознательно стремился сосредоточить внимание читателя главным образом на проблемах отдельного архитектурного сооружения, избегая говорить о проблемах архитектуры города так же, как и о творческих судьбах отдельных архитекторов. Это темы следующих книг.
ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ АРХИТЕКТУРА
Тот, кто хоть раз бывал на острове Кижи, никогда этого не забудет. Катер плавно скользит по ровной поверхности озера. Поначалу едва заметный на горизонте ориентир стремительно приближается, и вот вдоль борта вырисовываются изящные очертания двух церквей и колокольни Кижского погоста. Потом, уже ступив на берег, по заботливо проложенным деревянным мосткам идешь неторопливо к этому деревянному чуду. Обходишь его со всех сторон — три постройки примерно одинаковой высоты с разных позиций непрестанно меняют взаимное расположение. То сливаются в одну, то вновь разъединяются на фоне бескрайнего небесного простора. И кажется, прямо от этой слегка всхолмленной земли, укрытой травяным ковром и усеянной валунами, от подернутой рябью глади озера летит навстречу облакам звонкоголосая россыпь — двадцать два купола Преображенской церкви. Как стая птиц, застывшая в полете. Как песня, которая оборвалась, но еще продолжает звучать в гулком воздухе. Это — архитектура.

Что такое архитектура
Совсем иное ощущение испытываешь, находясь в гигантском — высотой этажей в семь — вестибюле Центра международной торговли в Москве. Привычно снуют прозрачные лифты, насквозь протыкая уступчатую стеклянную кровлю. Стекло, металл, пластик отсвечивают отовсюду разноцветными бликами. Даже деревья кокетливо шелестят нарядными пластмассовыми листочками. XX век — рациональный, переменчивый, всемогущий и, увы, не лишенный рекламного духа — заявляет здесь о себе в каждой детали. Это — архитектура.
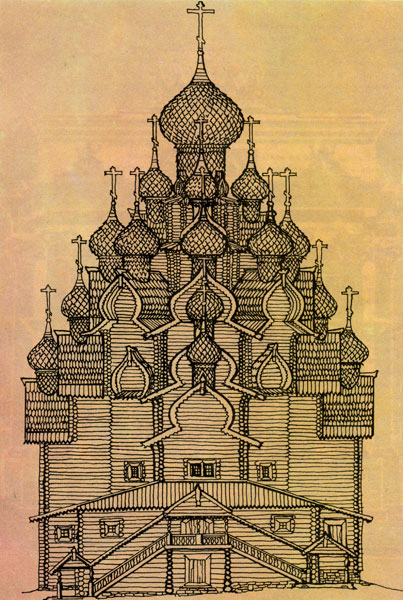
Многоглавая Преображенская церковь в Кижах
Петергоф — Петродворец под Ленинградом. Так называемый Нижний парк. Прямая линия канала упирается в далекий горизонт. Царство симметрии, регулярного порядка, осевой перспективы. Здания, деревья, даже вода — все подчинено строгому и величественному диктату геометрии. И это архитектура.
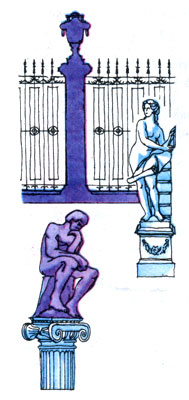
Статуи
А теперь перенесемся мысленно в старые кварталы Москвы. Столешников переулок, Петровка, Кузнецкий мост... Здесь не найдешь не то что двух одинаковых фасадов, но и, пожалуй, двух зданий одной высоты. Пестрая, живописная смесь форм, времен, стилей. Вот маленький неприметный особнячок притулился к серой громаде доходного дома, строгие линии классического ордера соседствуют с вычурной псевдоготикой, и все рядом, на одном небольшом пятачке, словно случайное нагромождение декораций за кулисами театра, имя которому — город. И, охватывая взглядом это беспорядочное, но почему-то гармоничное разнообразие, мы знаем: это архитектура.

Архитектурная мелодия Кижского погоста. Вид с моря
Доведенная до совершенства скульптурная форма, доминирующая в природном ландшафте, и наполненное жизнью внутреннее пространство сооружения, изысканно строгая геометрия планировки и случайный конгломерат несхожих домов... Что же такое, в самом деле, архитектура, если этим словом мы называем и то, и другое, и третье, и четвертое? На каком языке она обращается к человеку, о чем говорит ему?

Архитектурная мелодия Кижского погоста
Цель книги — дать ответы на эти непростые вопросы. Конечно, выразительный рисунок или красивая мелодия способны привлечь к себе внимание любого. Подобно этому, величественный архитектурный ансамбль Московского Кремля или площади Св. Марка в Венеции восхищают каждого человека, даже плохо знакомого с архитектурой. Но насколько богаче, ярче, полнее воспринимаем мы произведение искусства, если обладаем определенной подготовкой, опытом, культурой восприятия. Посещая выставки, музеи, мы учимся, часто незаметно для себя, восприятию живописи. Бывая на концертах, слушая радио или пластинку, мы вырабатываем музыкальную культуру, которая открывает нам удивительный и бесконечно глубокий мир Баха и Моцарта, Мусоргского и Прокофьева. И так же как нельзя, не обладая определенным уровнем музыкальной культуры, понять в полной мере музыку Шостаковича, нельзя без соответствующей подготовки получить истинного наслаждения от архитектурных шедевров Бруннелески или Баженова. Эта книга содержит начала знаний об архитектуре и некоторые примеры из истории архитектуры, самые необходимые для того, чтобы пробудить интерес к ней как к совершенно особенному явлению культуры и искусства, чтобы научить более полно и осмысленно воспринимать произведения архитектуры, великие шедевры ее прошлого, трудные поиски ее настоящего и будущего.
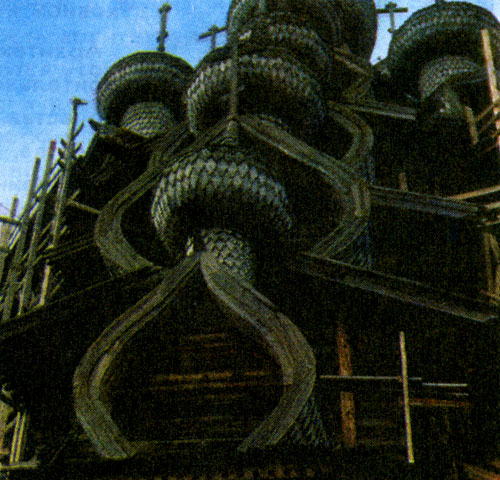
Архитектурная мелодия Кижского погоста. Купола
Архитектуру называют каменной летописью истории. И действительно, она прежде всего — часть материальной культуры человечества, которая несет уникальную информацию о жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи. Как потускнели бы наши представления об античности без развалин древнегреческих храмов, без римских форумов, без улиц и домов Помпеи. А без готических соборов и феодальных замков, узеньких улочек и рыночных площадей можно было бы только гадать о европейском средневековье.

Архитектурная мелодия Кижского погоста. Вид сбоку
Архитектуру называют застывшей музыкой. Да, она несет в себе гармонию форм, которая отражает не только духовную жизнь ушедших поколений, но и вечные тайны человеческой души. Гармонию, которая доставляет нам эстетическое наслаждение и продолжает волновать, как явление современной жизни. На дорожках Павловского парка под Ленинградом, под сводами Домского собора в Риге мы ищем и находим не абстрактную красоту линий и форм, а пространственные образы и состояния, созвучные мироощущению и духовной культуре человека двадцатого столетия.
Архитектура парадоксально соединяет в себе результат строительной деятельности и вершину художественного творчества. С одной стороны, технология, организация производства, с другой — искусство, говорящее на языке пространственных форм. Инженерный расчет, научное знание и — интуиция, творческое озарение художника.
Попытаемся извлечь нечто общее из столь разных толкований: архитектура всякий раз предстает перед нами как пространство, организованное человеком и для человека. Однако стоящая в поле опора электропередачи тоже организует пространство, и все же мы не торопимся назвать это пространство архитектурой. Вопрос очень непростой, мы еще вернемся к нему на страницах книги, а пока автор просит читателя поверить на слово. Дело здесь в том, что архитектура всегда отграничивает некоторую область пространства, приспосабливая ее для вполне определенных целей — того или иного вида деятельности: работы, зрелища, отдыха и т. п. Архитекторы любят употреблять для обозначения этого конкретного утилитарного смысла архитектуры слово «функция».

Дева перед собором
Вопрос о том, как связаны между собой функция и форма, — извечная проблема архитектурной теории. Нам пока преждевременно углубляться в эту проблему, но один важный вывод мы вправе сделать уже сейчас: воспринимаемый снаружи объем архитектурного сооружения — его внешняя форма — обязательно содержит используемое человеком, то есть функционально осмысленное, внутреннее пространство (его принято называть интерьером, если речь идет об отдельном здании). Проще говоря, в архитектуру всегда можно войти. То, что мы называем архитектурой, всего лишь оболочка, граница между внешним, открытым, и внутренним пространством, которое определяет характер функционального использования, а значит, и утилитарный смысл, человеческую полезность архитектуры.
Здесь опять требуются уточнения. Ведь войти можно и в подъезд, и в самолет, и в автомобиль. В некотором роде даже в собственный костюм, который тоже является оболочкой. Но едва ли кому-нибудь придет в голову называть архитектурой какое бы то ни было транспортное средство, а тем более костюм, будь это хоть жесткий скафандр. Причем не только потому, что внутреннее пространство в этих случаях, как правило, минимизировано до предела и жестко ограничивает характер пребывания человека (океанский лайнер до некоторой степени исключение из этого правила). Особенность любой архитектурной постройки в том, что она прочно стоит на земле в отличие, например, от машины, всегда принадлежит конкретному месту. Архитектуре свойственны устойчивость и долговечность, и эти ее свойства обеспечиваются конструкцией. Конструкция воспринимает механические, тепловые и прочие нагрузки, противостоит всем воздействиям внешней среды, которые грозят нарушить лежащее в основе сооружения сложное равновесие взаимно противоположных и дополняющих друг друга требований, материалов, сил.

Фонтаны Петродворца
Но и это не все. Архитектурное сооружение, архитектурное пространство имеет не только утилитарный смысл и конструктивную идею, но и художественное содержание. Художественный язык архитектуры весьма специфичен и непрост для восприятия — об этом тоже пойдет речь в нашей книге, — и тем не менее эстетическая неполноценность постройки чаще всего оценивается и быстрее и острее, чем ее функциональные или конструктивные недостатки. Каждый по-своему понимает совершенство архитектурной формы, однако если провести представительный опрос населения, задавшись целью найти, чего не хватает современной архитектуре, то наверняка самым распространенным будет неоднозначный по своей трактовке, но вполне определенный ответ: «Красоты».
Итак, функция, конструкция, форма. Три составляющие единого архитектурного целого. Два тысячелетия тому назад древнеримский теоретик архитектуры Витрувий в своем трактате вывел формулу этого триединства: «прочность — польза — красота». Едва ли Витрувия можно считать первооткрывателем этой истины, он просто записал то, что давно было известно поколениям древних зодчих. Но именно в записи Витрувия знаменитая триада прочно вошла в историю и теорию архитектуры, стала основой профессиональной культуры архитектора.
В этой формуле все члены равны — среди них нет главных и второстепенных. Стоит одной из составляющих потеснить две другие — и архитектура исчезает. Остается строительство, инженерия, декорация, но не высокое искусство архитектуры. В том и состоит главная сложность профессии архитектора — умение сочетать вещи, казалось бы, несовместимые: рациональность и экономичность функционального решения, надежность и изящество конструкции, гармоничность и выразительность формы. Не всегда это удается даже одаренным и опытным архитекторам.

Здание театра
Новое здание Московского Художественного театра на Тверском бульваре — одна из приметных московских новостроек. Архитекторы вложили в него много творческой фантазии и труда. В выборе отделочных материалов, цветового решения интерьеров, тщательно проработанных архитектурных деталей видно стремление воссоздать сдержанную и благородную простоту, свойственную традиционному «мхатовскому» стилю. Просторные фойе, зал большой вместимости, современная, хорошо оборудованная сцена. Но вот беда — в зале плохая слышимость. Актеры вынуждены форсировать голос, чтобы донести до зрителя смысл происходящего на сцене. Зрители находятся в постоянном напряжении, вслушиваясь в актерскую речь, которая в задних рядах партера и на ярусах кажется нечленораздельным бормотанием. Тут уж не до нюансов психологизма, не до знаменитой чеховской «лопнувшей струны». Исчезает исполненная глубокого смысла тишина, которая заставляет переполненный зал замирать, а каждого отдельного человека — ощутить себя частицей многоликой зрительской общности, охваченной единым эмоциональным порывом, единым состоянием духа. В этом новом и красивом зале, оказывается, невозможно воссоздать ту специфически «мхатовскую» атмосферу глубокой духовности, которая составляет самую суть новаторской театральной традиции, заложенной Станиславским. Невозможно, как говорится, по техническим причинам.
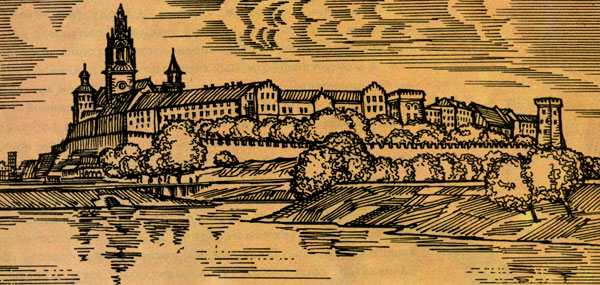
Вавельский замок гордо возвышается над древним польским городом Краковом
Поневоле вспоминается старое здание театра в проезде Художественного театра, построенное замечательным русским архитектором Федором Шехтелем. Скромное с виду, пожалуй, даже неприметное в ряду других домов, со входом прямо с тротуара, с вечной толкучкой в вестибюле и фойе. И с залом, в котором творилось чудо. В котором главными были не люстры, и не обивка кресел, и не панели стен, а действие и слово актера. Ведь в этом и есть основная функция театра — действительно художественного и демократичного (вспомним, что театр Станиславского так и назывался поначалу — общедоступным). Не случайно сам Станиславский придавал очень большое значение архитектуре театрального здания.
Вот как много зависит от архитектора. Как много он может создать и, увы, как много может разрушить. И если ведущая функция сооружения оказывается ущемленной, нарушенной, то дело не поправишь гранитными лестницами, благородной облицовкой фасада или просторным буфетом. Не поможет ни симпатичный фонтан в фойе, ни медные ручки в стиле «мхатовского» времени. Более того, вся эта «красота» незамедлительно превращается в ложную красивость, в манерную стилизацию, чуждую подлинной архитектуре, основанной на гармоническом единстве функции, конструкции и формы.
Бывает, это единство нарушается иным путем: за счет пренебрежения к форме, красоте, в угоду соображениям «пользы» и «прочности». Такие примеры окружают нас на каждом шагу. Высокая технологичность массового производства и монтажа однотипных строительных изделий послужила предпосылкой того, что палитра возможностей архитектора для поиска разнообразных формальных решений в последние годы сузилась до предела. Экономичная рациональная конструкция в современном крупномасштабном жилом доме налицо. А вот с красотой дело обстоит хуже. Невыразительные, безликие фасады, многократно повторяющиеся в застройке жилого района и даже целого города, стали притчей во языцех, объектом единодушной и серьезной критики со стороны тех самых людей, для кого они спроектированы и построены. Оказывается, невнимание к красоте оборачивается социальным дискомфортом, функциональной неполноценностью жилья, а удобство, выгода для проектировщика и строителя не всегда совпадают с удобством для жильца, с той самой «пользой», которую обозначил Витрувий в своей триаде.
Всякое нарушение этой несложной по виду и гораздо более глубокой по своему содержанию формулы губительно для архитектуры. Даже если это нарушение происходит непроизвольно или вынужденно, под давлением не зависящих от архитектора обстоятельств. Вся история архитектуры — это история поисков органического единства функции, конструкции и формы, драматическая история борьбы на пути к вершине, обозначенной триадой Витрувия. С этого мы и начнем рассказ о синтетическом искусстве архитектуры.
Ведь понять диалектику отношений пользы, прочности и красоты в архитектуре — значит понять основы ее языка, научиться читать эту удивительную книгу, которую пишет человечество на страницах своей истории.
ЧАСТЬ 1. ФОРМУЛА ВИТРУВИЯ
ГЛАВА 1. ПРОЧНОСТЬ
Преодоление силы тяжести — смысл работы архитектурной конструкции.
О чем рассказывает колоннада древнегреческого храма. Что такое архитектурная тектоника.
Как свод примиряет конфликт стойки и балки. Вершины готики — конструкция, побеждающая инертную массу камня.
Что принесли архитекторам металл, стекло и железобетон.
На каком языке говорит современная архитектура. Пирамида наоборот, или причины парадокса.

Формула Витрувия
СИЛА ТЯЖЕСТИ И СИЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ
Может быть, вам приходилось видеть, как на фасаде старого дома или в интерьере богато декорированного зала пружинящие мускулами скульптуры несут на себе тяжесть балок перекрытия? Такие скульптуры стоят у входа в Новый Эрмитаж — одно из зданий, где размещается коллекция знаменитого ленинградского музея. Это атланты. Они названы по имени мифических титанов, державших на своих плечах небесный свод в наказание за бунт против богов.

Прочность
Иногда эту нелегкую ношу берут на себя более изящные женские фигуры. Правда, они несут тяжесть не на плечах, а на голове. Их называют кариатидами (от греческого «девушки»). Наибольшую известность в истории мировой архитектуры получили кариатиды древнегреческого храма Эрехтейона, расположенного на афинском Акрополе.
Атланты и кариатиды. Несущие тяжесть. Они наглядно передают самую суть архитектуры как строительного искусства — преодоление силы тяжести.
Все мы — дети нашей планеты. Она не отпускает, властно притягивает к себе все сущее на земле. И если человек стал человеком, то во многом потому, что сумел по-своему противостоять этой силе — распрямиться, встать на две конечности, освободив две другие для борьбы и труда. Примитивные художники доисторических народов, изображая человека, всегда начинали с вертикальной палочки, к которой пририсовывали шарик головы и короткие черточки рук и ног. Когда они хотели изобразить животное, они начинали с горизонтальной черты. До сих пор точно так же поступают маленькие дети, которые еще только учатся рисовать.
Давайте вдумаемся в этот любопытный факт. В своем собственном сознании человек начинается с вертикали. С великой силы преодоления тяжести. Которая сделала его прямоходящим. Которая позволила ему поднять взгляд от земли и пытливо устремить его в небо. Которая позволила ему оторваться от этой земли и сегодня ведет его к звездам. С вертикали, символизирующей изначально присущую человеку силу противоборства с земным притяжением, начинает свою подлинную историю архитектура.
ПЕРЕКРЫТИЕ И ОПОРА
Древнейшие из дошедших до нас монументальных сооружений относятся еще к каменному веку и называются мегалитическими. От греческого «мегас» — большой и «литое» — камень, то есть сооружения из больших камней. Они встречаются в самых разных странах Европы, Северной Африки, Малой Азии, в Индии, Японии и др.
Самое простое из мегалитических сооружений — менгир — большеразмерный, грубо обработанный камень, вертикально установленный на поверхности земли. «Менгир» — кельтское слово. Наибольшее количество этих памятников сохранилось на севере Франции, в Бретани, где некогда жили племена кельтов. Самый высокий из зарегистрированных менгиров имеет высоту 20,5 метра. Это выше монументальных колонн Большого театра в Москве (14 метров) и выше современного пяти-шестиэтажного дома! Можно только догадываться о том, какого титанического труда стоила древним транспортировка и установка менгира и какое колоссальное воздействие оказывало на них это сооружение.

Перекрытие и опора
Назначение менгиров до конца неясно. По-видимому, они воздвигались в честь памятных событий, выдающихся лиц (нередко под ними находятся погребения), а может быть, и первобытных божеств. Нам важно другое: первый монументальный символ, с помощью которого человек утверждает себя на земле,— каменная вертикаль.
Более сложным мегалитическим сооружением был дольмен: два вертикальных камня, на которых покоится третий, горизонтально лежащий камень. Тяжесть, поднятая над землей. Еще далеко до атлантов и кариатид, но именно здесь начало пути: разделение элементов сооружения на несущие и несомые — опоры и перекрытие.
Постепенно конструкция дольмена усложнялась, вертикальных опор становилось все больше. Смыкаясь друг с другом, они образовывали стены погребальной камеры, перекрытием которой служила лежащая на них каменная плита. Засыпанный снаружи искусственным холмом земли — курганом, дольмен становился местом захоронения, гробницей, своего рода монументальным домом умершего — знатного лица или целого рода.
Со временем размеры погребальных камер увеличивались, перекрытия научились делать в несколько слоев каменной кладки, напуская их друг над другом, пока они не сомкнутся посередине. Такая конструкция получила название ложного свода, потому что она передает всю нагрузку на опоры вертикально, без бокового распора. Еще один шаг — и возникает первый купол — наиболее совершенная в конструктивном отношении форма покрытия гробницы — дольмена.
Вертикальные опоры, сплошные стены, несущие горизонтальное балочное перекрытие или переходящие в плавные кривые сводчатого, купольного покрытия. Разве не удивительно, что все, кажется, безграничное разнообразие форм мировой архитектуры, включая и самые современные ее достижения, всего лишь на разные лады воспроизводит эти извечные начала, заложенные еще безымянными зодчими каменного века?
СТОЕЧНО-БАЛОЧНАЯ СИСТЕМА
Самым сложным и загадочным из всех типов мегалитических сооружений является кромлех. Ученые думают, что это святилище, служившее местом жертвоприношений и ритуальных торжеств, связанных с захоронением мертвых. Некоторые особенности ориентации самого значительного из дошедших до нас кромлехов — Стонехедж (Англия) — наводят на мысль о том, что он отражает первичные астрономические познания доисторического человека и, в частности, связан с культом солнца. Есть и такая версия, что концентрические круговые «дорожки» Стонехеджа, образованные равномерно расставленными вокруг святилища камнями, могли служить для проведения конских состязаний. Ведь кромлех — самое «молодое» из мегалитических сооружений. Если менгиры датируют 5000—2000 годами до н. э., то Стонехедж относят всего к 1600 году до н. э. В это время на территории Европы уже активно шло разложение родового строя, и лошадь приобрела особо важное значение для привилегированных слоев населения. Если эти догадки справедливы, то выходит, что кромлех первое в мире многофункциональное общественное сооружение, да еще какое — и собор, и зал для собраний, и стадион, и театр, и даже обсерватория в одно и то же время.
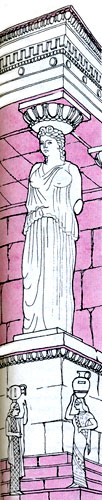
Стоечно-балочная система
Однако, для чего бы ни служил кромлех нашим далеким предкам, несомненно одно — ко времени его создания они научились значительно лучше обрабатывать каменные глыбы, придавая им правильные, относительно прямоугольные формы. Установленные по внешнему периметру Стонехеджа массивные каменные блоки образуют правильный круг и связаны воедино общей горизонтальной линией каменных перемычек. Регулярная повторяемость однотипных пролетов является здесь вполне осознанным строительным (или, как скажем позже, архитектоническим) приемом. Наружная ограда Стонехеджа ясно демонстрирует разделение конструкции на стойки и балки и в этом смысле может быть названа прототипом колоннады.
Стоечно-балочная система архитектурных конструкций получила развитие в архитектуре древних государств Востока — Египта, Персии, Индии, Китая и Японии. В каждом конкретном случае она варьируется применительно к особенностям страны и местным материалам. Сам принцип сочетания: вертикали — опоры и горизонтали — балки — при этом остается незыблемым, хотя и порождает внешне несхожие архитектурные формы.
Самое ответственное место стоечно-балочной конструкции там, где балка ложится на опору. Здесь возникает «оголовок» колонны, который как бы принимает на себя всю тяжесть перекрытия и передает ее на основание здания. Позднее эту характерную архитектурную деталь назовут капителью.
Легкие деревянные колоннады китайского и японского дома-павильона имеют так называемые «консольные капители», образованные свесами горизонтальных балок, насквозь прорезающих колонну в верхней части.

Архитектура существует столько, сколько помнит себя человечество
Массивные, достигавшие 20 метров в высоту колонны египетских храмов по форме уподоблены лотосу, распространенному в Египте растению, близкому к кувшинке. Ствол колонны напоминает стебель лотоса или связку таких стеблей; иногда он воспроизводит даже характерное утончение стебля книзу. Капители изображают бутон или распустившийся цветок лотоса.
Стройные персидские колонны имеют сложные капители, отчасти воспроизводящие египетские мотивы. Их особенность — венчающая часть, выполненная в виде парных фигур быков. Декоративный характер капители подчеркивается тем, что она как бы раздваивается, обнажая то место, где балка ложится на ствол колонны.
Такая декоративность, изобразительность свойственны всей архитектуре стран Древнего Востока, несмотря на все присущее ей многообразие национальных и исторических особенностей. Она как бы пытается спрятать, задрапировать стоечно-балочную конструкцию богатой одеждой полуфантастических форм, заимствованных у природы, словно не решается, стыдится обнажить ее строгую простоту.
Сделать этот решающий шаг, дать архитектуре собственный язык, естественно выражающий ее конструктивное содержание, выпало на долю античной Греции.
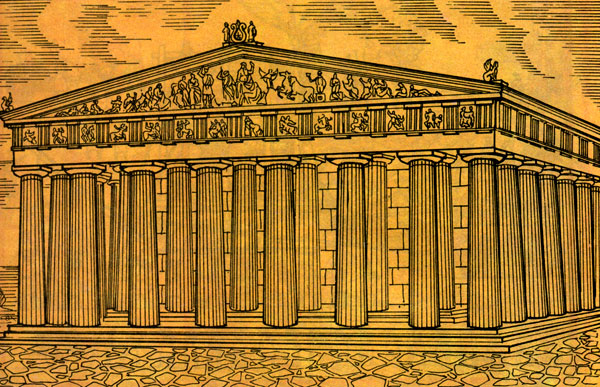
Парфенон в Афинах по праву считается шедевром архитектуры всех времен и народов
АНТИЧНЫЙ ОРДЕР
Ордер — значит порядок.
Применительно к архитектуре — порядок расположения частей сооружения.
Главное «действующее лицо» ордера — колонна с венчающей ее капителью.
На колонне лежит антаблемент — основная конструкция перекрытия. Антаблемент делится на три части — архитрав, фриз и карниз. (Увы, приходится мириться с обилием специальных терминов, но рисунок, я надеюсь, поможет читателю.) Архитрав — это главная нижняя балка, гладкий каменный блок. Над архитравом идет пояс фриза, состоящий из триглифов и метоп. Триглиф — каменная дощечка с вертикальными вырезами, метопа — плита из керамики или камня, украшенная скульптурным барельефом. Венчающая часть антаблемента — выступающий над фризом карниз. Из этих элементов складывается архитектура древнегреческого храма — колоннада, идущая по периметру всего сооружения (периптер, как говорили сами греки). Колоннада придавала зданию величественность и монументальный масштаб. В то же время она была основной конструкцией, несущей на себе перекрытие. Описание периптера завершает фронтон — выходящая на фасад треугольная плоскость, образованная торцом двускатной крыши. Обычно фронтон украшался скульптурой.
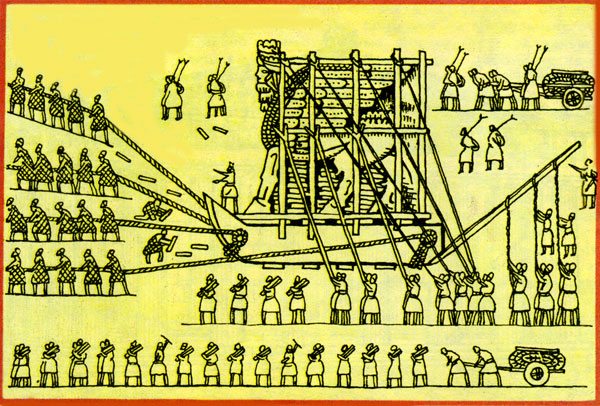
И три тысячи лет тому назад технология строительства многое определяла в
архитектуре
Классическим периптером считается Парфенон — главный храм афинского Акрополя, построенный во времена расцвета античного зодчества (V век до н. э.). Парфенон — одна из вершин общечеловеческой культуры — как мадонны Леонардо, пьесы Шекспира, фуги Баха. Однако, прежде чем подняться до вершин Парфенона, античный ордер прошел долгий путь развития, который шаг за шагом прослеживается в архитектуре древнегреческих храмов.

Построение
Наиболее древний дорический ордер дошел до нас в постройках VII века до н. э. Он отличался массивностью, строгостью пропорций, лаконизмом деталей. Особенность дорического ордера — простая, лишенная декоративности капитель, состоящая из плоской плиты — абака и подпирающего ее вала — эхина. Ранние дорические постройки воплощают в себе суровый, мужественный и рациональный дух античной цивилизации. Массивные, расширяющиеся книзу колонны стоят еще совсем близко друг к другу (отметим, значительно ближе, чем это требуется по чисто конструктивным соображениям). Капитель имеет преувеличенно большой вынос, и эхин подходит к абаку под острым углом. Как бы с большим усилием, напрягая все свои «мускулы», несет такая колонна непомерный груз тяжелого антаблемента.

Так представлял себе Витрувий все то, чем должен в совершенстве владеть
архитектор: и циркуль и молоток...
Постепенно, однако, характер дорического ордера меняется. Колонны становятся выше и стройнее, расстояния между ними увеличиваются, капители поддерживают антаблемент спокойно, без избыточного напряжения. Все отношения достигают строгой уравновешенности, гармонической простоты. На долгие годы эта запечатленная в камне гармония станет каноном в архитектуре разных времен и разных народов.
Конечно, само по себе хрупкое равновесие совершенства, достигнутое в Парфеноне, довольно быстро нарушится. Как нарушается и равновесие самой эпохи расцвета древнегреческого рабовладельческого общества. Навсегда уйдет в прошлое «золотой век» Перикла. Дорический ордер уступит пальму первенства более изящному, ионическому, с ощутимыми признаками восточного влияния. Спиралевидные завитки — волюты — его тонко проработанных капителей сродни древнеперсидским и финикийским архитектурным мотивам. В более позднюю эпоху эллинизма тенденция к размельчению и сложной декоративности усилится.
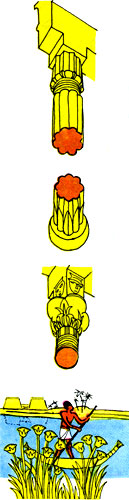
Древнеегипетская колонна напоминает огромный каменный цветок
В торжественной и грубоватой архитектуре античного Рима, воспринявшей многие традиции древнегреческой, получит гипертрофированное развитие коринфский ордер, который отличается особым декоративным богатством. Римляне впервые соединят ордер со стеной. Ордерные членения стены, решенная в ордере аркада станут главными мотивами архитектуры Возрождения, а затем и классицизма. Даже готика и барокко, в общем чуждые рационалистическому духу античности, не обойдутся без активного использования и переработки элементов античного ордера. Так называемая «современная архитектура» XX века при всем своем внешнем несходстве с античными прототипами отталкивается от ордерной системы членений даже тогда, когда пытается опровергнуть или интерпретировать их совершенно по-новому.
Эллинистические мотивы в архитектуре стиля «модерн» на рубеже нынешнего века, освоение классического наследия в советской архитектуре 30—50-х годов, неоклассицизм в американской архитектуре 60-х годов, наконец, последние примеры пресловутого «постмодернизма» с прямым цитированием элементов классического ордера... Кажется, этим возвратам, этой странной ностальгии по архитектуре двухсполовино-тысячелетней давности не будет конца.
В чем причина?
Почему канонизирован именно античный ордер? Почему европейская архитектура выбрала для себя именно этот язык? Почему он стал поистине международным, тогда как все прочие остались всего лишь диалектами? Почему Парфенон, а не знаменитый египетский храм в Луксоре или не дворец в Персеполе?
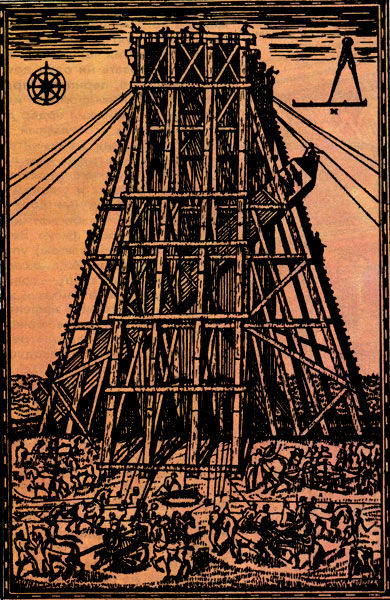
Непросто сдвинуть с места то, что было сделано на века строителями Древнего
Египта
ЧТО ТАКОЕ ТЕКТОНИКА
В попытках вскрыть истоки этого феномена написана, наверное, не одна сотня томов. Причин называют много, и все они по-своему важны.
Прежде всего сама уникальность времени — зрелой поры рабовладельческой демократии в Афинах. Вспомним проницательное замечание Энгельса о том, что мы вынуждены будем «снова и снова возвращаться в философии, как и во многих других областях, к достижениям того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили ему в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ».
Несомненно, периптер отразил в монументальных пространственных формах идею демократического коллектива. Греческий ордер дает человеческую шкалу размеров, а его главный элемент — колонна — в известной степени монументализирует человека. Во всяком случае, и греки, и их позднейшие интерпретаторы устанавливают определенное соответствие между телом человека и стволом колонны. Не случайно, сопоставляя пропорции дорического и ионического ордеров, часто прибегают к сравнению пропорций мужской и женской фигур. Вертикальные желобки на теле колонны (каннелюры) уподобляют складкам ниспадающей одежды. А само слово «капитель» происходит от латинского caput — голова. Здесь уместно еще раз вспомнить об атлантах и кариатидах.
Конечно, подобный эффект очеловечивания, гуманизации архитектуры, возникший на почве рационалистических начал древнегреческой философии, во многом объясняет непреходящее, вневременное значение античного ордера. Однако в этой главе (а она, напомним, о конструктивном начале архитектуры) мы сосредоточим внимание на другой, менее умозрительной, но не менее важной причине.
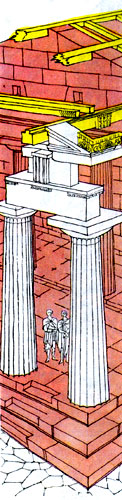
Древнегреческий ордер — каменная конструкция из стоек и балок — доведен до
художественного совершенства
Исследователи греческой архитектуры давно обратили внимание на сходство античного ордера с деревянным прототипом стоечно-балочной конструкции. Существует целая теория (восходящая, кстати, к самому Витрувию), которая объясняет происхождение форм ордера подражанием системе деревянных конструкций. При этом прямо называются адреса: дорический ордер интерпретирует конструкции из крупного леса с покрытием двускатной кровлей, которые могли быть созданы в северной части Греции — Фракии. Ионический же ордер, как полагают, подражает деревянной конструкции из мелкого леса с покрытием плоской кровлей, которая сформировалась в более бедной лесами приморской Ионии.
Во всяком случае, колонна действительно походит на деревянный столб с зарубками, сделанными топором. Эти зарубки воспроизводятся в камне, как каннелюры. Капитель «изображает» деревянную подушку, на которую опирается главная балка — архитрав. Триглифы воспроизводят торцы поперечных балок перекрытия или их декоративную деревянную обшивку.
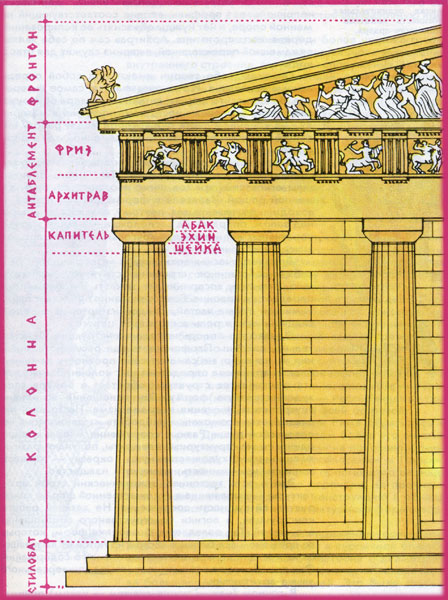
Дорический ордер и его элементы — фрагмент Парфенона
Казалось бы, все логично. Однако, говорят оппоненты, все формы ордера можно вывести из требований самого строительного искусства, из логики самой каменной конструкции. Действительно, дорическая колонна имеет профиль, вполне соответствующий каменной опоре, и нет нужды объяснять ее копированием деревянного прототипа. Архитрав сам по себе является каменной перекладиной, а карниз служит для отвода воды.
Очевидно, обе теории имеют под собой определенные основания. И это, оказывается, самое интересное. Выходит, что формы античного ордера обнаруживают свою универсальность по отношению к материалу — в конечном счете они воспроизводят работу стоечно-балочной конструкции, как каменной, так и деревянной.
Догреческая архитектура подражала природе, стремилась к ее изображению. Так, многоколонные залы египетских храмов легко ассоциируются со священной рощей. Капители в форме цветков лотоса не доходили до перекрытия, поэтому, казалось, оно парит над залом, опираясь на расположенные выше этих декоративных капителей прямоугольные блоки, продолжающие колонну.

Завитки-волюты — главная отличительная особенность капители конического ордера
Древнегреческая архитектура «изображает» самое себя — собственное строение, структуру, конструкцию. Капитель воспринимает тяжесть антаблемента и передает ее колонне. Все сооружение предстает перед нами как сумма частей, каждой из которых отведена специфическая роль в структуре целого.
Однако это отнюдь не голая конструкция. Действительно, колонны Парфенона толще расчетного значения, и, конечно, не сама по себе прочность каменных блоков архитрава определяет шаг колонн. Взаимодействие элементов структуры обретает в ордере свою художественную форму. Эти отношения исполнены внутреннего движения и драматизма. Настолько, что оказывается возможным уподобить их движениям человеческой души. Разные сооружения, использующие одни и те же структурные элементы, получают разную эмоционально-художественную окраску — торжественность и интимность, величие и изящество.
Это и есть тектоника, тектонический строй архитектуры — выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения. Не деталей работы конструкции, а логики конструктивного соотношения его частей. Так появляется символика форм, которые со временем все больше абстрагируются от вызвавшего их к жизни конкретного строительного содержания. Они приобретают самоценность языка, универсального языка архитектуры.
В точном (или — лучше скажем — узком) понимании слово «тектоника» не имеет смысла за пределами опыта античной архитектуры и ее многочисленных перепевов. И уж, во всяком случае, ортодоксальное использование этого термина предполагает, что его содержание имеет в своей основе стоечно-балочную конструкцию.

Капитель коринфского ордера увита листьями аканфа
Есть, однако, возможность и более широкого толкования тектоники — как художественного выражения внутреннего строения, структуры сооружения. Многим такая трактовка кажется наиболее привлекательной. И для нее есть свои основания — ведь греческий периптер, вызвавший к жизни понятие тектоники, является, пожалуй, первым в истории архитектуры монументальным сооружением, где конструкция и внутреннее строение — это практически одно и то же.
В этом смысле тектоника как форма, отнесенная к структуре, к логике строения (частью которой является, конечно, и конструкция), приобретает характер универсальной и глубокой категории, приложимой к архитектуре во всех ее проявлениях и на все времена.
ЛЕТЯЩИЕ КУПОЛА
Античный ордер со всей остротой обнажил «конфликт» вертикальной опоры и горизонтальной балки. Однако если в чисто художественном плане ордерная тектоника создала прочную базу для решения ключевых проблем на долгие годы вперед, то этого не скажешь о собственно конструктивной стороне дела. Перспективы применения стоечно-балочной конструкции, как в деревянном, так и в каменном исполнении, отнюдь не безграничны. Они сдерживаются прежде всего сравнительно небольшим размером перекрываемого пролета. Для сооружения, рассчитанного на условия сравнительно малочисленных греческих полисов, эта проблема не возникала. Но в многолюдном императорском Риме (миллион человек — неслыханная по тем временам цифра) она встала со всей остротой.
В поисках решения строители Рима обратились к опыту стран Древнего Востока, тем более что многие из них находились к тому времени на положении римских провинций. Оттуда, из Месопотамии и Персии, переняли римляне конструкцию простейшего цилиндрического свода. И не только переняли, но прочно и уже навсегда ввели сводчатую конструкцию в обиход строительного искусства и архитектурного формотворчества.
При этом римские строители применили оригинальную технику монолитного бетона в кирпичной опалубке. Бетонный купол римского Пантеона с диаметром основания 43 метра стал первой в истории человечества большепролетной конструкцией. Это было совсем не похоже на скромные кирпичные и каменные своды древневосточного образца — «весомо, грубо, зримо», как и все, что делали римляне в расчете на два века. Однако эти последующие века, в изобилии воспроизводя сводчатые и купольные конструкции, казалось, напрочь отказались от римской технологии их возведения. И только изобретение железобетона — материала с совершенно новыми пластическими свойствами — заставило по-новому оценить римский опыт, увидеть в нем предвосхищение великой конструктивной идеи, которая получила подлинное развитие лишь две тысячи лет спустя после своего возникновения.
Но это произойдет еще не скоро. А пока что на обломках Римской империи берет разбег новая, византийская архитектура. Византийская школа вводит серьезные усовершенствования в конструкцию сводчатого покрытия. Византийские своды не отлиты в опалубке подобно римским, а сложены из кирпича или камня без использования вспомогательных деревянных конструкций — кружал. Благодаря пересечению двух цилиндрических сводов образуется крестовый (или перекрестный) свод. И наконец — купол на парусах. Парусами называют сферические треугольники, возникающие при переходе от прямоугольного плана перекрываемого помещения к окружности купола.
Сферическая поверхность купола, продолжая устои стен, замыкает внутреннее пространство византийского храма и одновременно дает ему внешнюю форму. Достигается удивительное соответствие внутреннего и внешнего — здание развивается изнутри кнаружи. Равновесие сил, гармония царят повсюду — глаз охватывает все элементы конструкции — и свод, и подпирающие его массивные устои.

Округлые стены
Известный историк архитектуры Огюст Шуази так подытоживает свои ощущения: «Внутри византийского здания получаешь впечатление не только единства, но также своеобразного спокойствия и безмятежности; это не что иное, как чувство совершенного удовлетворения при виде здания, в котором ощущается полная устойчивость». А вот мнение Ле Корбюзье, великого архитектора нашего столетия: «Византия пленяет нас также чувством меры. Умение соразмерять, распределять ритмические количества, одушевленные одним ровным дыханием, связывать все единым, неуловимым соотношением, уравновешивать, решать уравнение...»
Это «ровное дыхание» византийского зодчества распространяется из Малой Азии в Центральную Европу и Францию, в Сирию и на Кавказ, в придунайские земли и Россию. Парящий над Константинополем купол собора святой Софии отбросил тысячи отсветов на эти далекие земли. И вот уже тянутся к небу купола Софии Киевской и Софии Новгородской, сотни, тысячи летящих куполов Русской земли. В белокаменной архитектуре неброских российских соборов живет и получает развитие идущая от Византии гармоническая уравновешенность масс, органическое единство внутренней пространственной структуры, конструкции и внешней формы.
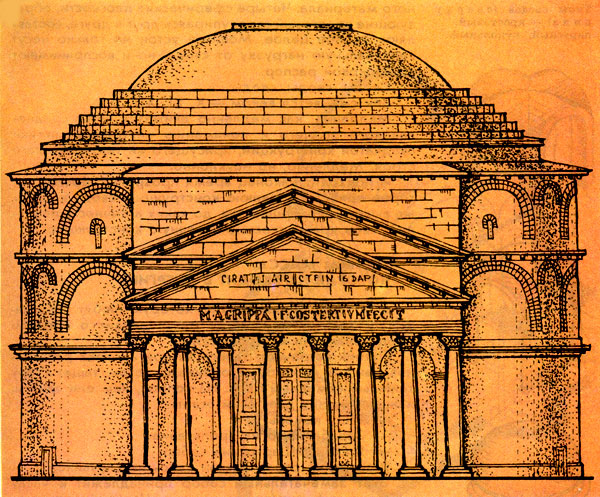
Пантеон в Риме
В то же самое время, когда архитектура переживает бурный расцвет на византийском Востоке, над Западной Европой еще господствуют беспокойные сумерки раннего средневековья. Строят здесь мало, из монументальных сооружений — только церкви.
Эта эпоха в архитектуре получила название романской, поскольку исторически она тесно связана с национальным самоопределением народов континентальной Европы и, в частности, с формированием из единого латинского языка группы романских языков — испанского, португальского, французского и др. Романская архитектура вслед за древнеримской и византийской остается архитектурой сводов и массивных стен.

Типы сводов (сверху вниз) — крестовый, парусный, купольный
Ее конструкции монолитны, однородны по характеру распределения усилий. Они словно вырублены, наподобие пещерных храмов, в сплошном массиве инертного материала. Четыре сферические плоскости, образующие крестовый свод, упираясь друг в друга, составляют единое целое. Мощные устои не только несут вертикальную нагрузку от свода, но и воспринимают его боковой распор.
Своды, своды, своды.
Век сменяется веком — X, XI, XII.
Медленно, как медленно движется чутье средневекового зодчего к пониманию внутренней логики сводчатой конструкции, присущего ей тектонического строя. Медленно, но неуклонно.
И приходит наконец время прозрения. Время, которое привело древнюю конструкцию свода к таким же высотам совершенства, до каких античность подняла в свое время стоечно-балочную конструкцию.
ГОТИКА: МАССА, КОТОРАЯ ПЕРЕХОДИТ В ЭНЕРГИЮ
Есть такая старая притча, которую любят пересказывать архитекторы, когда речь заходит о высоком предназначении их профессии.
Путник встречает одного за другим трех работников, каждый из которых, обливаясь потом, тащит в гору тяжелый каменный блок. На вопрос, чем они заняты, каждый из них дает свой ответ:
— Тащу камень.
— Зарабатываю на пропитание.
— Я строю Шартрский собор. Шартрский собор назван здесь не случайно. Этот замечательный собор принадлежит к числу мировых архитектурных шедевров. Начатый строительством в 1194 году и завершенный немногим позднее 1220 года, он знаменует подлинный расцвет французской готики. Взгляните на его устремленные ввысь ажурные каменные вертикали. Как разительно они не схожи с вросшими в землю романскими постройками. Хотя, если мы посмотрим на план, увидим все тот же незамысловатый крест латинской базилики, покрытый сводом.
Романская и готическая архитектура решали, по сути дела, одну и ту же техническую задачу. Но сколь различны архитектурные средства! Переход от одного стиля к другому напоминает прыжок: постройки, начатые в романском стиле, доканчиваются в готическом. Что же случилось за несколько десятилетий — срок, исчезающе малый не только для истории человечества, но и для истории архитектуры.
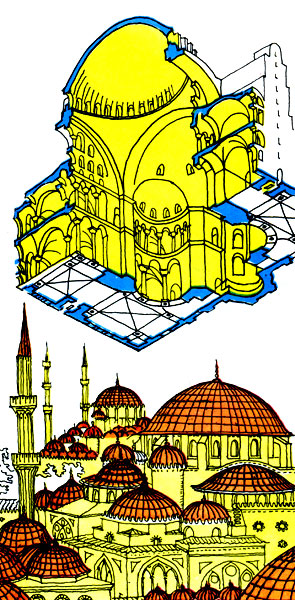
Купола св. Софии Константинопольской создают необыкновенный эффект парящего
перекрытия в интерьере гигантского собора
Готика ввела всего два принципиальных новшества в конструкцию сводчатого покрытия.
Во-первых, своды стали выполняться на нервюрах — каменных тягах или ребрах, несущих независимые друг от друга части свода — распалубки. Нервюры служат своего рода арматурой свода, его активным остовом и воспринимают основные рабочие усилия конструкции. Поэтому они выполняются из тщательно подобранных тесаных камней в отличие от распалубок, для которых используются маломерные камни. За счет введения нервюр конструкция свода становится легче и надежнее. Она получает гибкость, не свойственную тяжелой романской кладке крестового свода, работающего как одно монолитное целое. Раньше незначительная осадка или отклонение опоры вызывали губительные трещины покрытия. Теперь они не страшны: связевая конструкция нервюрного свода гораздо легче справляется с деформацией.
Во-вторых, боковой распор передается не на устои свода, а на контрфорсы — специальные опоры, вынесенные за пределы внутреннего пространства сооружения. Для передачи этих усилий служат специальные подпорки, выполненные в форме арочных конструкций — аркбутаны. Поскольку силы распора гасятся этой «приставной» конструкцией, внутренние опоры и стены несут лишь вертикальную нагрузку от перекрытия. Это позволяет сделать устои сводов тонкими, а впоследствии вообще превратить их в пучок нервюр, идущих таким образом без перерыва от вершины свода до основания опорного столба. Массивные романские стены тоже оказываются ненужными, они расчленяются громадными проемами. Стена как таковая исчезает, сохраняются лишь простенки сравнительно небольшого сечения.
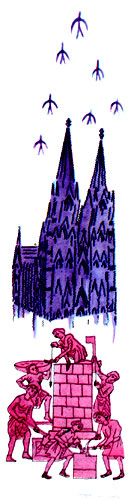
Каменные громады готических соборов устремлены к небу
Итак, всего два изобретения — нервюры и вынос бокового распора. Но теперь конструктивная идея обретает законченную форму выражения. Все усилия четко локализованы. Несущая, рабочая часть конструкции (нервюры сводов, внутренние опоры, контрфорсы и аркбутаны) полностью отделяется от заполнения (распалубок сводов, проемов наружных стен). Готика открыла каркас.
Это открытие замечательно не только тем, что позволило экономить дефицитный в средние века строительный материал. (Дефицитный потому, что доставка камня к месту строительства обходилась особенно дорого из-за бездорожья и пошлин — каждый феодал требовал уплаты за провоз по «своей» территории.) Готический каркас взял от материала все, что тот способен дать, — камень работает в нем на пределе своих возможностей. Если античный ордер демонстрирует нам прекрасную игру богатой каменной мускулатуры, то готика сбрасывает все покровы с каменной конструкции, обнажая первородное совершенство ее скелета.
Открытие готического каркаса замечательно еще и тем, что оно наглядно демонстрирует значение конструкции в архитектурном формотворчестве. Вполне естественное стремление увеличить пролет сводчатой конструкции с минимальными затратами строительного материала приводит к решительному обновлению всего образного строя.
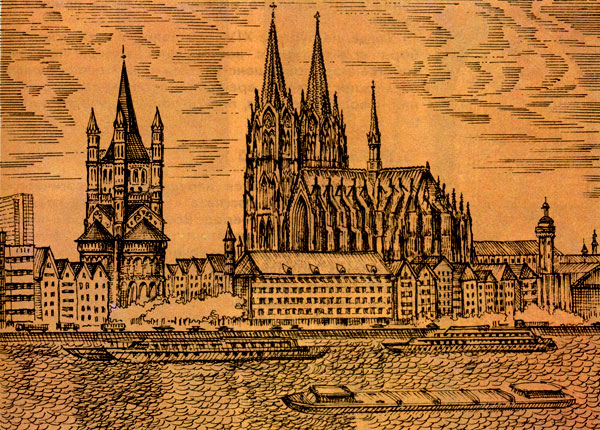
Романский (слева) и готический стили соседствуют в Кёльне, на берегу Рейна
Ажурная вязь каменной конструкции, словно преодолев земное притяжение, устремляется к небу. Стрельчатая форма арок, позволяющая уменьшить боковой распор сводов, еще больше подчеркивает это безудержное стремление ввысь. Вертикаль торжествует. Она подчиняет себе весь строй сооружения. Никогда еще сила преодоления тяжести не утверждала себя с такой непосредственностью и эмоциональной мощью. Ни один памятник мировой архитектуры не может сравниться в этом с готическим собором. Разве что первобытный менгир или современный небоскреб.
Заметим, кстати, что небоскреб (речь о нем пойдет отдельно) — от начала и до конца порождение каркаса. Конечно, многоярусные металлические этажерки мало напоминают каменное кружево готики, но первое слово было сказано именно тогда. И слово «витраж», которым называют сегодня стеклянные панели заполнения многоэтажного каркаса, оно тоже пришло из готики.
Тогда, на рубеже XIV—XV веков, в готическом соборе архитектурная конструкция познала пределы собственного совершенства. Она полностью исчерпала возможности своего времени и остановилась в ожидании нового материала, позволяющего двинуться дальше.
МЕТАЛЛ И СТЕКЛО
Здесь нам придется нарушить хронологическую последовательность рассказа и перенестись сразу на несколько столетий вперед. Все это время, начиная с эпохи Возрождения, архитектура не стояла на месте. Она занималась решением важных социальных и художественных проблем. Функциональная организация архитектурных сооружений, их внешний облик изменились очень сильно, порой до неузнаваемости. Появились совершенно новые типы сооружений. Обо всем этом будет сказано в других главах. Однако на развитии конструктивных приемов возведения зданий такого рода перемены сказались сравнительно мало: стены из кирпича или мелкого камня с декоративной облицовкой камнем, цилиндрические и крестовые своды, купола — все это восходит к средневековым или даже римским образцам. Решающие сдвиги в этой области наметились к середине XIX столетия.

Арочные окна
В 1982 году был объявлен Международный конкурс на мемориал в честь Хрустального дворца в Лондоне, разрушенного пожаром в 1936 году. Первую премию на этом конкурсе завоевали молодые советские архитекторы Бродский и Уткин. Несколько стеклянных плоскостей, вертикально расставленных на небольшом участке, должны, по их замыслу, вызвать воспоминание о гигантском сооружении, которое как мираж возникло в 1851 году в лондонском Гайд-парке всего за четыре месяца. Что же это за сооружение, об увековечении которого архитекторы думают спустя почти полвека после того, как оно перестало существовать?

Церковь в Кондопоге
Некоторое представление об этом дают следующие данные: общая площадь — 71885 квадратных метров, длина фасада — 564 метра, высота — около 20 метров, толщина стен — 20,3 сантиметра. Здание было выстроено в качестве выставочного павильона. Рекордные по тем временам (и продолжающие удивлять до сих пор) сроки строительства объясняются тем, что были использованы сборные элементы стандартных размеров — чугунные секции, деревянные арки и др. Они были изготовлены заранее в нужном количестве (мы бы сейчас сказали «заводским способом»), так что непосредственно на стройплощадке оставалось лишь смонтировать их. Это был первый широкомасштабный опыт сборного домостроения. Но не только.

Белокаменная София Новгородская
Создателем Хрустального дворца был английский садовод и архитектор Джозеф Пэкстон. Имея опыт в строительстве оранжерей, он смело ввел в конструкцию сооружения металл и стекло, увеличив оконные переплеты до невиданно больших размеров. Примеры применения металлических конструкций и покрытий со стеклянным заполнением уже были известны к тому времени. Но чтобы весь фасад, да еще столь крупного общественного здания был стеклянным — такое было впервые. Этот прием на несколько десятилетий опередил свое время. Как призрак будущего на фоне академических устремлений XIX века явился лондонцам Хрустальный дворец, отчрыв новую страницу не только в технологии строительства, но и в архитектуре.

Древний храм Армении - Звартноц
Металл начинает появляться на стройке с конца XVIII века. Сначала робко — чугунные опоры и балки в сооружениях промышленного назначения. В 1786 году во Франции строится первая крыша с применением стропил из кованого железа. В 1811 году при перестройке здания Хлебного рынка в Париже возводится металлический купол, равный по размеру знаменитому куполу собора св. Петра в Риме. Однако широкое применение металлических конструкций сдерживается их дороговизной в условиях полукустарного производства.

Древний храм Грузии - Джвари
С развитием железных дорог появляется потребность в большепролетных конструкциях, где преимущества металла перед кирпичом и камнем становятся решающими. Начиная с 1816 года, когда был построен первый железный мост через Темзу, металлические мостовые фермы получают все большее распространение. Для их изготовления используется прокатный металл, который начинает находить разнообразное применение в строительстве, особенно для перекрытий больших пролетов.
Металл хорошо сочетается с прозрачным стеклянным заполнением, которое дает много света, так необходимого при больших размерах перекрываемых помещений, и в то же время подчеркивает изящество конструкции. Еще в 1829—1830 годах в Париже строится Орлеанская галерея, ставшая впоследствии образцом для многочисленных стеклянных крыш, подобных тем, которые можно видеть в Московском ГУМе или Петровском пассаже.
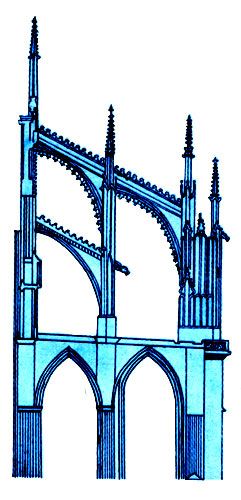
Аркбутаны передают распор свода готического собора на массивные устои —
контрфорсы
Хрустальный дворец Пэкстона придает новый масштаб этим поискам, перенося их на почву строительства крупных сооружений — преимущественно выставочных зданий и многочисленных железнодорожных вокзалов. Так называемые Галереи машин на парижских международных выставках 1855, 1867, 1878-го и, наконец, 1889 года демонстрируют увеличение пролета металлической конструкции почти в два раза (с 57,9 до 115 метров) за какие-нибудь 35 лет.
Характерно, что сначала металлические фермы покрытия устанавливаются на металлических колоннах. Однако уже в 1868 году на строительстве лондонского вокзала Сент-Панкрас (пролетное строение в 73 метра) происходит важное усовершенствование. Дугообразные металлические балки покрытия изгибаются, доходя до самого низа. Основой всей конструкции становится цельная рама металлического каркаса. Тот же принцип воспроизводится в Галерее машин 1878-го, а затем и 1889 года.
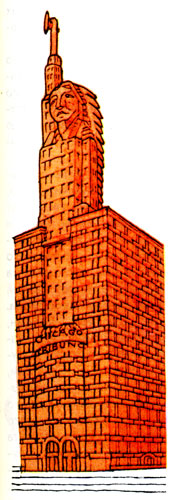
Были и такие попытки сделать еще более необычной и без того необычную
архитектуру небоскреба
Наглядное представление об архитектуре зданий подобного типа можно получить, побывав на перроне Киевского вокзала в Москве. Ажурная вязь очертаний и богатая деталировка устремленного ввысь покрытия вызывают ассоциации с готикой. Динамичная мощь и ясность инженерного замысла принадлежат новому времени.
Приблизительно в то же время металлический каркас получает распространение в промышленном строительстве. Колонны и балки, которые раньше были лишь металлическим обрамлением для каменных и кирпичных стен, становятся единой, конструктивно связанной системой. Наружные стены не являются больше несущими элементами — они превращаются в заполнение каркаса. На Парижской выставке 1867 года впервые демонстрируются жилые дома с рамной металлической конструкцией и стенами из пустотелого кирпича толщиной всего 12,7 сантиметра. В США первая каркасная металлическая конструкция появилась еще ранее — в 1848 году.
Так металлический каркас выходит из каменных пеленок. Металл побеждает камень по всем позициям. И в конструкции сводчатых покрытий, где удается менее чем за полвека в несколько раз превзойти размеры пролетов, считавшиеся рекордными еще со времен античного Рима. И в стоечно-балочной конструкции, где открываются фантастические перспективы для многоэтажного строительства.
В 1889 году, словно подводя итог этому победному шествию металлической конструкции и символизируя ее значение для наступающего XX века, в Париже строится Эйфелева башня. Уникальная по сложности монтажа стальная конструкция выведена до рекордной отметки — 312,6 метра. (Каменная конструкция достигла «всего» 148 метров в пирамиде Хеопса, 157 метров — в колокольне готического Кёльнского собора и 143 метров — в соборе св. Петра в Риме.)
Непривычные линии Эйфелевой башни поначалу казались многим уродливыми. Но для будущих поколений она становится прекрасной и органичной, повторяя тем самым драматическую судьбу новой архитектуры, рожденной металлом.
БЕТОН И МЕТАЛЛ
Возможности металлической конструкции поистине беспредельны. Однако и у металла есть свои слабые места. Он требует защиты от коррозии. Еще сложнее защитить его от быстрой деформации при пожаре. Но главное — в больших количествах он является дорогостоящим и дефицитным материалом. Ведь теперь дело касается уже не создания отдельных уникальных сооружений, а по-настоящему массового строительства. До сих пор экономия металла считается одним из главных факторов снижения стоимости строительства и эффективности инженерных решений.

Стеклянные пассажи удивляли посетителей торговых рядов в Москве (ныне ГУМ)
необычностью форм и смелостью инженерного решения
Поэтому неудивительно, что в то время, пока шло успешное освоение металлических конструкций, здания в основном все же строились из мелкоразмерного камня или кирпича. Поскольку кладка велась на растворе, эксперименты с поисками хорошего вяжущего состава были обычным делом. Именно здесь и поджидали строителей интересные новшества.
В 1774 году англичанин Джон Смитон при строительстве Эддистонского маяка обратил внимание на то, что негашеная известь, смешанная с глиной, твердеет под воздействием воды. Добавив к этой смеси песок и дробленый доменный шлак, он получил бетон, возродив тем самым утраченную традицию древнеримского строительства. Бетонный фундамент маяка оказался на удивление прочным. Опыт Смитона начали повторять, меняя состав компонентов и тип вяжущего материала.
В 1824 году другой англичанин, Джозеф Аспдин, подверг обжигу при высокой температуре смесь известняка и глины, а затем размолол в порошок получившийся при этом клинкер. Этот порошок и был тем, что теперь называют портландцементом. С применением этого вяжущего материала качество бетона резко улучшилось. На берегах Темзы хватало необходимого сырья, и массовое производство портландцемента было налажено в короткие сроки. Литой камень получил широкий доступ на стройку. Из бетона стали возводить фундаменты, ограды, а затем и перекрытия. В 1867 году был построен первый железнодорожный мост из монолитного бетона.
Однако, обладая высокой прочностью на сжатие, бетон, как и камень, плохо работает на растяжение. Поэтому с появлением конструкций из монолитного бетона сразу же возникла мысль соединить его с металлом. Первые опыты в этом направлении датируются 1830 годом. Но лишь в 60-х годах был достигнут успех. Французский садовник Жозеф Монье, желая изготовить прочные кадки для деревьев, свернул металлическую сетку и залил ее бетонной смесью. Так прозаически родился железобетон — основной строительный материал нашего времени.
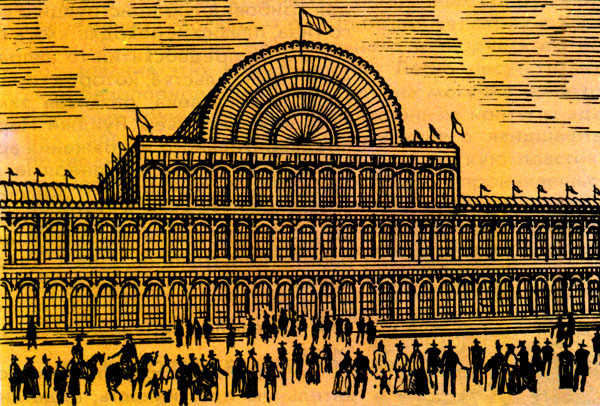
Хрустальный дворец в Лондоне — начало архитектуры стекла и металла (1851 г.)
Вместе с XX веком начинается победное шествие железобетона по стройкам Европы и Северной Америки. Сначала промышленные сооружения — элеваторы, электростанции, железнодорожные склады, гаражи. Потом — конторы, общественные здания и жилые дома. Внешний облик первых железобетонных построек никак не отражает особенностей нового материала. Но очень скоро декоративная имитация традиционных архитектурных форм, как ненужная мишура, облетает с лаконичных бетонных фасадов. Уже в ранних постройках (1904—1905 гг.) одного из пионеров железобетона — французского инженера и архитектора Огюста Перре — тонкий железобетонный каркас с квадратными рамами и большими остекленными проемами полностью определяет архитектурную композицию здания. Этот прием на долгие годы становится стереотипом архитектурного решения многоэтажных домов из железобетона, выполняемых в различных модификациях каркасной или панельной конструкции. Тех самых, которые теперь из-за их повсеместного распространения стали пренебрежительно называть «коробками».

Маяк
Швейцарский инженер Роберт Майар заставил работать железобетон совсем по-иному. Он использовал его не в ячеистой прямоугольной конструкции рамного типа, а в тонкой монолитной плите, дающей полную свободу в выборе точек опоры. В 1908 году Майар создал грибовидную конструкцию с колоннами зонтичного типа, плавно переходящими в плиту перекрытия. Тем самым он предвосхитил то направление железобетонного строительства, которое гораздо позже, уже в 50-е годы нашего века, развивал замечательный итальянский инженер Пьер Луиджи Нерви. Используя метод предварительного напряжения арматуры, он не только усовершенствовал инженерные решения большепролетных перекрытий, но и получил замечательные архитектурные эффекты. Мощные тектоничные опоры, ажурные реберные покрытия до предела обнажают работу конструкции. Она с такой классической полнотой и почти скульптурной выразительностью раскрывает строительные возможности материала, что поневоле перекликается с античностью и готикой.
Вообще железобетон быстро обнаруживает удивительную пластичность, податливость к образованию новых форм. Параболические своды, примененные французским инженером Э. Фрейсине при строительстве ангара в Орли близ Парижа (1916 г.), кладут начало целому поколению тонкостенных железобетонных покрытий. Причудливость форм при этом поистине не знает предела. Она порождает совершенно новые ассоциации и образы, не имеющие прецедентов в архитектуре прошлого.
Седлообразная железобетонная оболочка аэропорта имени Дж. Кеннеди в Нью-Йорке напоминает гигантскую птицу с широко раскинутыми крыльями. Ее создатель архитектор Ээро Сааринен утверждал, что первоначальный замысел формы возник у него при виде случайного выреза апельсиновой кожуры. С освоением железобетона творческая фантазия инженеров и архитекторов все чаще отталкивается от природных форм в поисках внутренней логики строения и конструктивной целесообразности построек. Универсальный и податливый материал успешно воспроизводит конструктивные принципы паутины и стебля растения, скорлупы ореха и кукурузного початка, открывая простор для экспериментов архитектурной бионики. О них еще пойдет речь в этой книге.
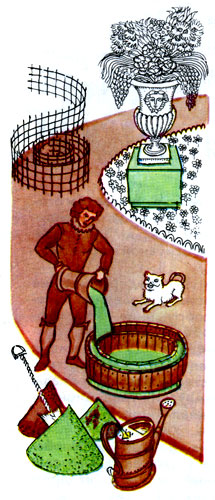
Цветник
Датчанин Йорн Утцон, участвуя в архитектурном конкурсе на здание оперы в Сиднее, взял за основу романтическую и довольно формальную идею парусов, летящих над океаном. Нашумевший проект получил первую премию и был осуществлен в натуре, несмотря на большие технические трудности. Этот печальный пример оторванного от реальности формотворчества может, с другой стороны, служить примером поистине неограниченных возможностей скульптурной лепки формы, которые дает архитектору монолитный железобетон.
Одно из самых красивых и необычных сооружений современной Москвы — олимпийский велотрек в Крылатском — образец рационального и творческого использования этих возможностей. Легко несут гигантское безопорное покрытие стадиона могучие железобетонные арки. Изящные, распластанные контуры здания словно вырастают из окружающего ландшафта, продолжая и органически дополняя мягкую пластику его форм. Глядя на такую постройку, проникаешься верой в то, что новая архитектура все-таки найдет свою версию ясного, доступного общему пониманию тектонического языка, который, как нам сегодня кажется, был свойствен прошлым эпохам зодчества и который, к сожалению, пока еще слишком часто подменяется невнятной архитектурной абракадаброй.
ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Металл, бетон и стекло обступают нас со всех сторон. Эта новая архитектура выглядит совсем не похожей на каменную и деревянную архитектуру прошлого. Чаще всего это различие оценивается не в пользу новой архитектуры. Новые здания кажутся многим непонятными и раздражающими, гораздо понятнее и милее старенькие дома с колоннами. Мы отказываемся воспринимать язык новой архитектуры, хотя прекрасно понимаем, что новые материалы и конструкции подразумевают и новый язык. Чего тут больше — архитектурного неумения, неопытности (все-таки новая архитектура еще совсем молодая) или нашей собственной непонятливости? Скорее всего именно второго — ведь никто не учит нас разбираться в архитектуре, как, например, в музыке или живописи.
А может быть, слишком велико для нас разнообразие форм и проявлений новой архитектуры? Дом с колоннами, рассуждаем мы, дело ясное. Колонны повыше и потолще — значит, и здание важное, представительное. Колонны помельче, поближе к человеческому масштабу — значит, и здание попроще, интимнее. А тут сразу и нагромождения — соты жилых домов, и стерильные металлические скелеты, как тонкой кожей обтянутые стеклом, и криволинейные скорлупы бетонных оболочек... И все это рядом друг с другом. Почему, например, один дом — с криволинейными очертаниями плана и горизонтальными полосами стекла на фасаде, а соседний — совершенно глухой параллелепипед, но зато с вынесенной наружу цилиндрической стеклянной лестницей? Попробуй-ка разобраться в этой мешанине пространственных форм, символов и отношений. Не лучше ли громогласно объявить все это заведомо лишенным смысла? Едва ли кто-нибудь захочет произнести такую тираду вслух, но почти каждому приходилось говорить что-нибудь в этом роде про себя.
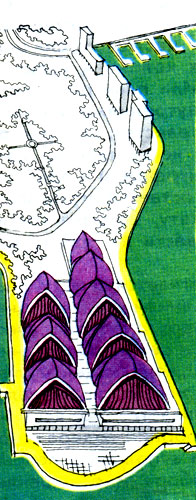
Оперный театр в Сиднее (Австралия)
Попробуем поэтому прежде всего как-то отрешиться от этой ошеломляющей пестроты. Постараемся окинуть одним взглядом все многообразие того, что мы называем новой (или современной в широком смысле слова) архитектурой. Это нужно, чтобы увидеть общие контуры явления и понять главное. Чем же отличается язык современной архитектуры металла, бетона и стекла от языка дерева и камня, к которому приучил нас вековой опыт архитектуры прошлого? Что в нем действительно нового, а что является просто непривычной комбинацией уже известных признаков и отношений.
Архитектура прошлого, классическая архитектура — это архитектура больших масс и громоздких конструкций. Она имела дело с камнем — инертным и тяжеловесным материалом. Для того чтобы перекрыть пространство нужных человеку размеров, приходилось, как мы видели, вовлекать в работу огромный массив этого материала (церковь св. Софии в Константинополе, римский Пантеон и др.). Причем основная часть этого массива приходилась на активные, несущие элементы конструкции.

Небоскребы Марина-сити в Чикаго напоминают гигантские кукурузные початки
Вспомните греческий периптер: сравнительно легкий архитрав покоится на мощных, напружиненных колоннах. А ведь за ними — еще и несущая стена целлы. Вспомните размеры опорных колонн и толщину наружных стен русской церкви. Или план романской базилики, где площадь, занятая внутренними опорами свода, едва не больше того пространства, которое он перекрывает. Готика не является исключением: хотя опорные части конструкции — контрфорсы и аркбутаны — вынесены наружу, их масса остается огромной.
Не правда ли, похоже на ракету, которая тратит почти всю свою массу, чтобы вывести на орбиту маленький спутник.
Классическая архитектура облегчается кверху, следуя распределению масс в каменной конструкции. Можно выразить ту же мысль по-другому: классическая архитектура крепко приросла к земле. Основание постройки всегда мощнее вершины, венчающей заключенное в ней пространство. Этот принцип пирамидального построения масс просматривается во всем — утонение колонн и облегчение пропорций ордера кверху, треугольник фронтона, форма купольного покрытия, понижение боковых нефов собора по отношению к главному, наклон аркбутанов — примеры можно множить.
Парадоксально, но египетская пирамида, по сути дела, вовсе не имевшая внутреннего пространства и потому не ставшая по-настоящему архитектурой, может служить символом всей классической архитектуры.
И разве не удивительно, что классическая архитектура больше чем за две тысячи лет в каком-то смысле так никуда и не ушла от этой искусственной горы инертного материала. Искусственной горы, которая принимает естественную форму устойчивого равновесия. Правда, эта гора уже не безмолвствует, как у древних египтян. Она расчленена на противопоставленные друг другу элементы. Их отношения между собой и есть тектоника: классическая архитектура излагает нам драматический сюжет их противоборства. Но, увы, всегда с единственно возможным и заранее известным исходом — в рамках все той же неизменной формулы устойчивого равновесия.
Новой архитектуре нет нужды придерживаться этой формулы. Она имеет дело с материалами, многократно превосходящими камень по своим конструктивным характеристикам. Металлический или железобетонный каркас способен нести нагрузку нескольких десятков этажей при одинаковом сечении вертикальных стоек по всей высоте здания. Монолитная железобетонная плита, тонкостенная оболочка или металлическая вантовая конструкция перекрывает сто- и двухсотметровые пролеты всего на четырех, трех, двух, даже одной точке опоры. На плане любого здания современной конструкции сечение опор занимает ничтожно малую часть перекрытой площади. Большая часть веса конструкции сосредоточивается уже не в несущих, а в несомых или самонесущих ее элементах. Пирамида переворачивается.
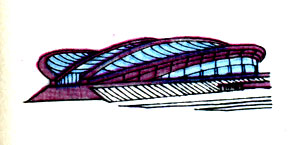
Велотрек в Крылатском (Москва)
Классическая архитектура, собрав все силы, медленно отжимает свою тяжесть от земли и держит ее на собственных плечах (снова атланты!). Новая архитектура стремительно поднимает свой вес и легко несет его на высоко поднятых руках. Ей незачем рассказывать о том, как она это делает. Она это показывает.
Бразильский архитектор Оскар Нимейер так и поступает. Он проектирует здание музея в Каракасе в виде перевернутой пирамиды. С точки зрения человека, воспитанного на традиционной архитектуре (а мы все на ней воспитаны), пирамида, преспокойно стоящая на собственной вершине, то есть определенно вниз головой, — бессмыслица, невозможная вещь. С точки зрения архитектуры металла, бетона и стекла — это совершенно естественно и нормально. Это символ ее изменившихся возможностей.

Скульптура
Неудивительно, что в странном, перевернутом мире новой архитектуры случаются многие вещи, которые на первый взгляд могут показаться ненормальными.
Горизонтальная плоскость, которая должна, по всем правилам, опираться по периметру, оказывается свободно висящей в пространстве. Советский архитектор Константин Мельников в двадцатые годы построил в Москве в Сокольниках причудливое здание клуба имени Русакова. Три глухих объема мощно выдаются вперед, гигантским карнизом нависая над главным фасадом (вот она — перевернутая пирамида!). Консольный вынос зрительного зала казался тогда ниспровержением основ. Сегодня это обычная, сравнительно часто применяемая конструкция, ее можно видеть во многих кинотеатрах, построенных в Москве за последние годы.
Американский архитектор Франк Ллойд Райт в 1937 году построил знаменитую виллу «Падающие воды». Железобетонные консоли ее террас, повисшие над водопадом, производили впечатление экзотического чуда. Сегодня мы спокойно проходим под консольными козырьками не меньших размеров, которыми оборудуются входы ничем не выдающихся гостиниц и административных зданий.
Привычка стирает остроту первого впечатления, но все же глазу трудно примириться с тем, что железобетон, имеющий фактуру и вес камня, ведет себя подчас как металл. Этот парадоксальный эффект «бетонной антигравитации» выигрышно подчеркивается ограждающими конструкциями из стекла.
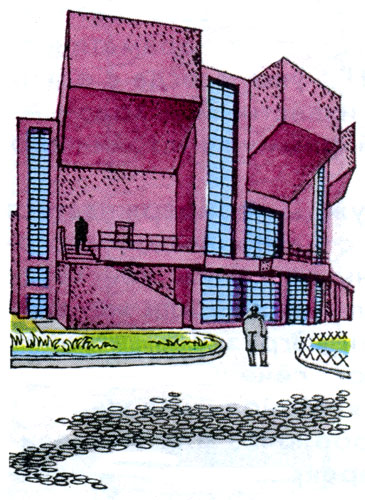
Клуб имени Русакова в Москве. Архитектор Константин Мельников
Широкое применение стекла начинает необратимое перерождение последнего оплота традиционной архитектурной конструкции — несущей стены. И в самом деле, если целые этажи спокойно повисают в воздухе, то почему бы этого не сделать стене. И вот на протяжении всего нескольких десятилетий стена, которая веками была символом непоколебимой прочности, становится ареной непрекращающихся трансформаций. Она оказывается поднятой на опоры, полностью отделяется от несущей конструкции, превращается в призрачный стеклянный витраж, произвольно декорируется. Мы уже видели, как с ее поверхности исчезают не только отдельные окна, но и оконные переплеты, как она превращается в сплошное поляризованное зеркало, в котором отражаются облака, деревья, соседние дома. Кажется, еще шаг — и она вовсе исчезнет...
В этих «нетектонических» приемах новой архитектуры очень много нарочитых противопоставлений традиционной каменной тектонике. Всякое новое явление привлекает к себе внимание при помощи парадоксов. Но ведь эти парадоксы новой архитектуры в конечном счете апеллируют все к тем же лежащим в глубинах человеческой психики механизмам пространственного восприятия, к категориям тяжелого и легкого, высокого и низкого, плотного и прозрачного и т. п. И хотя новая архитектура пытается подойти к ним по-своему, с другой стороны, все эти исходные соотношения остаются в силе. Неизменной остается и конечная цель. Меняется лишь аппарат, метод доказательства. Теорема доказывается «от противного». Все та же теорема — извечное противоборство силы тяжести и силы преодоления, косной материи и человеческой энергии.
Значит, преемственность в развитии классической и новой архитектуры несомненна. Не поверхностная, формальная, а глубинная, сущностная. Что же нам мешает ее обнаружить? Может быть, нам просто не хватает исторической перспективы, чтобы осмыслить масштабы происходящих перемен?
Приглядимся внимательнее. Сопоставим факты.
Железобетонные и металлические каркасы неограниченно развиваются в пространстве. Поднимаются ввысь на сотни метров. Углубляются в землю на десятки метров. Предстают в виде объемов самой разнообразной конфигурации — параллелепипедов, многогранников, цилиндров, мембран и т. д. Включают внутрь здания большие свободные пространства. Объединяются в функционально связанные системы с помощью специальных коммуникационных устройств.
Большепролетные пространственные конструкции становятся все более легкими и экономичными. Уже существуют конструктивные системы — вантовые конструкции немецкого инженера Фрея Отто, геодезические купола Бакминстера Фуллера, способные перекрывать целые участки городского пространства. Быстро прогрессируют пневматические пленочные покрытия.
Архитектура настойчиво демонстрирует свою неразрывную связь с техническими устройствами. Элементы инженерного оборудования — воздуховоды, электроника, ремонтные устройства, лифты и эскалаторы — играют все более заметную роль в облике здания. Отдельные сооружения в инженерном плане все больше кажутся искусственно разрозненными участками единой технической инфраструктуры.
В то же время новая архитектура настойчиво ищет контактов со старым городским окружением. Как бы предчувствуя неотвратимую перспективу своего полного слияния с ним, она нащупывает границы разумного компромисса.

Вилла «Падающие воды». Архитектор Франк Ллойд Райт
Все это разные аспекты пространственного осмысления архитектурной конструкции. Может быть, здесь и «зарыта собака». Может быть, металл, бетон, стекло — это не просто средства создания сооружений, а набор синтетических материалов (пока еще самый первый и самый несовершенный) для конструирования пространства. Может быть, смысл происходящей перемены как раз и заключается в переходе от концепции сооружения к концепции пространства. И истинные возможности новой архитектуры не могут быть до конца раскрыты вне этого перехода.
Масштабы такой перестройки грандиозны и требуют не одного столетия. В физике это можно было бы сравнить с отменой одного из фундаментальных законов сохранения и возникновением новой физической реальности.
Если это действительно так, то становится ясно, почему бросается в глаза очевидная парадоксальность новой архитектуры и ее несходство с классическими прототипами. И почему мы видим в ней такое множество мелких течений, но никак не можем разглядеть главное русло. И почему нам так трудно понять язык тех обрывочных пока сообщений, с которыми она к нам пытается обратиться.
Главная мысль
Работа строительной конструкции, преодолевающей силу тяжести, инерцию косного материала, — основа архитектурной выразительности.
Длительная эволюция архитектурных конструкций, появление новых строительных материалов — металла, стекла, железобетона — сильно изменили внешний облик современной архитектуры по сравнению с классическими образцами.
Но принципиальная основа универсального языка архитектуры не изменилась — это тектоника, то есть художественное выражение конструктивной сущности сооружения.
ГЛАВА 2. ПОЛЬЗА
Из чего состоит «нутро» дома и что бывает, если он вдруг становится прозрачным.
Что общего между обыкновенной печкой и кондиционированием воздуха.
Гас ли нереален «солнечный дом»?
Чудесные превращения стены, или почему архитектурная «кожа» здания стала эластичной.
Кмк окно побеждает стену и как дверь побеждает перегородку.
Свободному фасаду — свободный план.

Польза
ДОМ НАИЗНАНКУ
Париж с давних пор слывет столицей европейской моды. Причуды парижских модельеров одежды известны всему миру. Однако кое в чем с ними могут поспорить и архитекторы. В начале 70-х годов в центре Парижа на месте одного из старых, обветшавших кварталов было решено построить новое сооружение — центр искусств. Этот своеобразный музейный и информационно-выставочный комплекс позднее получил имя инициатора его создания — президента Франции Жоржа Помпиду.
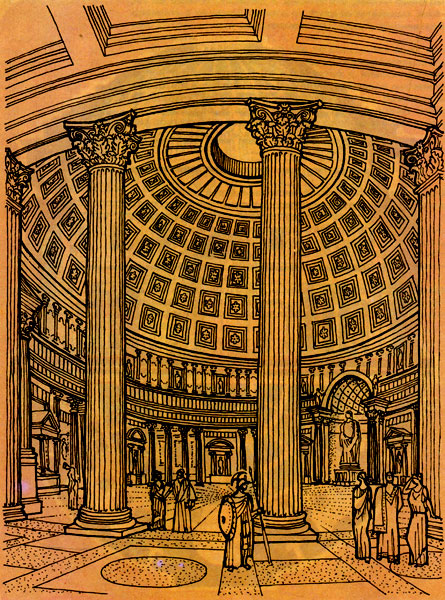
Интерьер Пантеона в Риме
Международный конкурс на проект необычного здания привлек несколько сот участников из многих стран мира. Это была настоящая «выставка достижений» мировой архитектуры — лучшие зодчие разных школ и разных поколений соревновались за право на строительство. В числе 25 проектов, отмеченных строгим международным жюри в качестве относительно лучших, и наш советский проект, выполненный архитекторами Ю. Платоновым, А. Корбутом и др. А победителем стал проект международного коллектива — итальянца Пиано и англичанина Роджерса.
И вот в самом сердце Парижа появилось сооружение, способное удивить даже наиболее искушенных и видавших виды ценителей архитектурной моды. Представьте себе гигантский стеклянный параллелепипед, заключенный в паутину ажурной металлической конструкции. Главный фасад по диагонали пересекает коленчатая прозрачная труба эскалатора. Другой фасад образован целым лесом труб различного диаметра, раскрашенных в яркие цвета. С этой стороны центр искусств больше похож, пожалуй, на внутренность телевизора, чем на архитектурное сооружение.
Постройка Пиано и Роджерса вызвала много споров — одни осуждали ее, другие пытались ей подражать. Как раз в это время появилось целое направление в современной архитектуре Запада — так называемый «хай-тек» (сокращенное «высокая технология»), — построенное на использовании в архитектуре элементов инженерного оборудования и конструкций, выполненных на высочайшем уровне технического качества. Своего рода эстетизация техники, передовой промышленной технологии, превращение архитектуры в продукт современного машинного производства.
С таким взглядом на архитектуру, конечно, можно поспорить. Высокий уровень технологии строительного производства действительно создает новые, не существовавшие ранее возможности архитектурной выразительности. Вспомним уходящую в небо бетонную иглу Останкинской телебашни в Москве, изящный висячий мост через Даугаву в Риге, словно высеченную в скалах плотину Нурекской гидроэлектростанции, наконец, разноцветное кружево трубопроводов Нижнекамского нефтехимического комбината... Все это очень не похоже на «обычную» архитектуру, но по-настоящему волнует и потому в чем-то меняет наше традиционное представление о красивом и некрасивом в архитектуре. Кстати, ведь и Эйфелева башня, ставшая впоследствии знаменитой, поначалу казалась уродливой. И не кому-нибудь, а самым большим знатокам искусства, лучшим писателям, художникам, архитекторам Франции (среди них были Э. Золя и Ги де Мопассан), которые выступили с публичным протестом против ее строительства. Еще не минуло столетия с той поры, а башня, построенная инженером Эйфелем, уже давно стала символом Парижа — её изображают на картинах, о ней слагают стихи.

Центр искусств имени Ж. Помпиду в Париже. Эскалаторы на фасаде
Так что техника всегда прокладывает новые дороги в восприятии мира, в художественном творчестве. Но лишь настолько, насколько она «очеловечивается», то есть осмысляется, одухотворяется самим человеком, насколько ему удается привнести в нее собственное человеческое начало, включить ее в неразрывную цепочку исторической общекультурной традиции. Без этого техника мертва и сама по себе не способна быть объектом художественного восприятия. Высокий уровень технологии еще не гарантирует высокого архитектурного качества, оно появляется там, где срабатывает мастерство архитектора, способного вдохнуть в свое произведение жизнь. И значит «хай-тек» «хай-теку» рознь и, во всяком случае, не может служить рецептом для создания современной архитектуры.
В нашу задачу, однако, не входит подробный разбор «хай-тека» и других направлений архитектурного «авангарда» — это дело специалистов — историков и теоретиков архитектуры. И пример с центром искусств имени Ж. Помпиду понадобился нам не для того, чтобы давать оценку архитектурным достоинствам этого интересного и спорного сооружения — время покажет, насколько успешно решили свою задачу Пиано и Роджерс. Зададимся другим вопросом: каким образом, за счет чего им удалось придать обыкновенному дому столь необычный облик?

Так представляют себе археологи строительство первобытного жилого дома в долине
реки Иордан
Ответ может показаться парадоксальным — они сделали дом, так сказать, «прозрачным» и показали нам его истинную «начинку», его нутро. Они вывели на фасад не только конструкцию сооружения — к этому мы уже привыкли, — но и все системы, необходимые для его нормальной эксплуатации. Трубы водоснабжения и удаления отходов, воздуховоды вентиляции, разводка электрики и слабых токов — все то, что скрывается обычно в недрах здания, в толще конструкций и технических этажей, — все вдруг оказалось открытым для обозрения. Вертикальные коммуникации — эскалаторы и лифты, которыми пользуются посетители и сотрудники центра, тоже вынесены наружу и вливаются в общую симфонию труб, по которым циркулируют вода, воздух, отходы, электричество, обеспечивая нормальное функционирование здания.
Центр искусств интересен для нас тем, что он обнажает сложный процесс функционирования, не прячет его, как это обычно делается, а, напротив, выставляет напоказ. Он вынуждает нас со всей очевидностью понять, что архитектура — это не только скульптурная пластика формы (красота) и не только устойчивая конструкция (прочность), но прежде всего удобство, определенный комфорт пребывания человека (польза!).
ТАНЦУЕМ ОТ ПЕЧКИ
Никто не знает и уже не в состоянии узнать, где и когда человек построил свой первый дом. По дошедшим до нас остаткам и изображениям древних жилищ мы можем лишь догадываться о том, как он выглядел. В. Глазычев в своей книге «Зарождение зодчества» дает такое описание реконструированного археологами жилого дома в долине Вади-эн-Натуф (верхнее течение реки Иордан), построенного ни много ни мало 11 тысяч лет назад. Круглое углубление в каменном основании, гибкие жерди, вставленные в заранее выдолбленные отверстия и сходящиеся наверху. Затем жерди — главные ребра этого примитивного каркаса — переплетались более тонкими прутьями и обмазывались глиной. В середине основания этого круглого дома — место очага, над ним — отверстие.
Впереди еще долгие тысячелетия, открытия и разочарования, величие египетских пирамид и совершенство афинского Акрополя, монументальность Рима и неистовый порыв готики, но там, в далеком Вади-эн-На-туфе, уже сделан решающий шаг, уже ведет отсчет времени великое ремесло архитектуры. Кров над головой, защиту от непогоды и опасности, тепло и прохладу человек находит не под деревом и не в пещере, а в специально построенном постоянном доме.
С той самой далекой поры открыт счет изобретениям, позволяющим усовершенствовать функции дома, сделать его комфортабельным и уютным. Шатровая форма с отверстием наверху обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и быстрое удаление дыма. Очаг постепенно видоизменяется, все меньше напоминая первобытное кострище, но по-прежнему сохраняет доминирующее положение в планировке дома. В странах с умеренным и холодным климатом необходимость долго хранить тепло в помещении привела к изобретению печи.
Печь стала неотъемлемой частью русской избы. «Высокая ее теплоемкость, — пишет Ю. С. Ушаков, — обеспечивала равномерный обогрев избы в течение суток, позволяла долго поддерживать в горячем состоянии пищу и воду, сушить и обогревать одежду, а зимой спать на полатях около печи». Труба с задвижкой давала возможность регулировать естественную вытяжку теплого воздуха. Давно исчезли трубочисты, и обитателю современной квартиры в многоэтажном доме, вероятно, кажется, что труба стала анахронизмом. Но это не так, каждая квартира сохраняет самую настоящую трубу — вертикальный вентиляционный канал, который идет из кухни в чердачное помещение и на кровлю.

Русская изба
Конечно, в крупном современном здании, особенно общественного назначения, где собирается много народу, естественной вытяжки может оказаться недостаточно. На помощь приходит техника — мощные воздушные насосы вытягивают «отработанный воздух», а по другим трубам (их называют воздуховодами) гонят в помещение свежий воздух. Так работает приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. На улице современного города все труднее найти чистый воздух для притока — его приходится очищать с помощью специальных фильтров, увлажнять, нагревать или охлаждать до определенной температуры — одним словом, доводить до необходимой «кондиции». Система вентиляции усложняется за счет этого еще больше — теперь ее называют уже системой кондиционирования воздуха. Она становится неотъемлемым элементом оборудования архитектурного сооружения, особенно в странах с жарким климатом.
Кондиционирование воздуха требует специальных помещений для установки соответствующего оборудования и, главное, целой системы вертикальных и горизонтальных каналов, обеспечивающих приток и вытяжку воздуха. Густой сетью они оплетают все помещения, заставляя наращивать сечение стен и толщину перекрытий. Общая длина воздуховодов при этом измеряется уже сотнями, а то и тысячами погонных метров. Вот как «подросла» и усложнилась печная труба — целое предприятие, небольшой завод по производству чистого воздуха прячется в недрах современного дома.
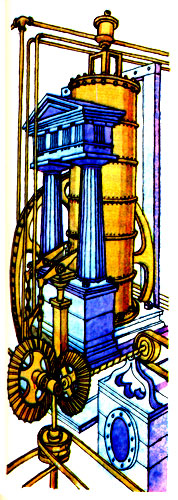
На заре индустриальной эры. Техническая эстетика еще прячется за классическими
архитектурными формами
А ведь это только одна из систем инженерного оборудования здания. Надо еще подать на каждый этаж холодную и горячую воду, обеспечить канализацию и удаление твердых отходов, электрическое освещение и телефонную связь. Крупные конторские здания оборудуются нередко специальной пневмопочтой — деловые бумаги тоже путешествуют по трубам, их несет поток воздуха. Представьте себе всю эту «симфонию труб» в масштабах крупного многоэтажного сооружения. Добавьте к этому потоки людей, снующих по лестницам, едущих в лифтах и на эскалаторах, и сравнение здания с океанским лайнером не покажется большим преувеличением. Теперь нетрудно понять, что здание центра искусств имени Ж. Помпиду показывает нам еще далеко не всю «подводную» часть этого гигантского инженерного «айсберга».
СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ
Но и того, что мы увидели, вполне достаточно, чтобы осознать серьезность положения. Ведь эту «махину» необходимо обеспечить энергией. Иначе остановится приток тепла и чистого воздуха в рабочие помещения. Застынут в неподвижности лифты и эскалаторы, а это значит, что в высотном доме люди окажутся практически отрезанными друг от друга и от земли. Коридоры и другие помещения, лишенные естественного света, погрузятся в кромешную тьму. Именно так все и произошло, когда несколько лет назад из-за аварии прекратилась подача электроэнергии в центральный район Нью-Йорка — Манхаттан. Ущерб, нанесенный аварией, трудно измерить — это не только материальные убытки, связанные с вынужденным простоем сотен учреждений, но и стрессовое состояние сотен тысяч людей, неожиданно лишившихся привычной безопасности и комфорта.
Итак, не только «труба», но и «полено», которое приходится подбрасывать в «печку» современного дома, достигло поистине фантастических размеров. Городской дом, а точнее, все их множество — городское хозяйство стало одним из главных потребителей энергии. Численность населения и территория городов продолжают увеличиваться, растет и энергопотребление каждого дома, каждой квартиры — все больше видов услуг, все больше специальных приборов и устройств становятся на службу нашего комфорта. А ведь ресурсы, которыми оплачиваются эти удобства, — топливо, добываемое из недр планеты, да и энергия рек — отнюдь не безграничны. Вот почему об экономии, разумном расходовании энергии все чаще можно услышать не только от производственников, экономистов, но и от строителей, архитекторов.

Гелиоархитектура - проект тепличного комплекса
Поневоле задумаешься о том, какими экономичными, эффективными в эксплуатации были дома наших далеких предков, как умело использовали они естественные свойства взятых у природы строительных материалов. Как долго, например, сохранял тепло деревянный рубленый дом — северная русская изба и как быстро остывал глинобитный дом жителей Средней Азии, даруя им столь необходимую в жарком климате ночную прохладу. Сегодня ставший универсальным для всех климатических поясов бетонный дом не так хорошо хранит тепло на севере (надо больше топить) и не так хорошо отдает его на юге (надо тратить дополнительную энергию на кондиционирование).
Возникает вопрос: а нельзя ли в некоторых случаях найти энергию, необходимую для отопления и вентиляции дома, так сказать, «на стороне», то есть там, где она сегодня пропадает зря? Например, нельзя ли использовать для этой цели прямое солнечное излучение, которое падает на поверхность дома, расположенного в районах жаркого, солнечного климата. Расчеты показывают: для того чтобы обеспечить нормальный температурно-влажностный режим жилого дома полезной площадью 120—150 квадратных метров, необходимо 30—40 квадратных метров поверхности солнечных батарей. Это в южных районах с относительно высокой среднегодовой температурой и большим количеством солнечных дней в году. Задача создания «гелиодома» отнюдь не выглядит нереальной. Сегодня инженеры и архитекторы разных стран ведут настойчивые поиски в этой области, экспериментально опробуют различные конструкции.
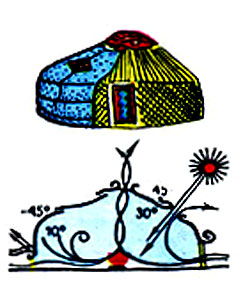
Юрта — по-своему комфортабельное жилище кочевника
Скорее всего такой «солнечный дом» будет выглядеть не совсем обычно, ведь он по принципу своего устройства напоминает космический корабль, который несет на себе собственную, автономную систему энергетического обеспечения. Давайте немного пофантазируем и представим себе целые города, покрытые серебристо-зеркальной паутиной солнечных батарей — целыми полями, с которых мы научимся снимать богатый «энергетический урожай», достаточный для удовлетворения разнообразных нужд городского хозяйства. Подумать только — не нужны больше котельные и теплоэлектроцентрали, трансформаторные и распределительные подстанции. Чего стоит одна лишь экономия на использовании дефицитной городской земли, на прокладке дорогостоящих инженерных коммуникаций. Конечно, такое возможно не сразу и не везде. Но и в районах с умеренным климатом солнечные батареи могут стать важным подспорьем, взять на себя заметную часть общего топливно-энергетического баланса города.
РОДОСЛОВНАЯ СТЕНЫ
Итак, архитектура — это прежде всего пространство, организованное в соответствии с нуждами и потребностями человека. То есть полезное, или, как принято говорить, функциональное, пространство, освоенное человеком, отвоеванное им у природы. Архитектура появляется как раз на грани внешнего и внутреннего. Сначала это была граница между внутренним, очеловеченным пространством дома и внешним, враждебным человеку пространством природы. Позднее ситуация усложнилась: скопления домов, комплексы сооружений стали формировать под открытым небом рационально организованную среду архитектурного ансамбля или целого города. Переход от внутреннего к внешнему стал более постепенным, размытым. И все-таки граница между «внутри» и «снаружи» продолжает играть в архитектуре первостепенную роль и в эстетическом, и в конструктивном, и в чисто функциональном смысле.
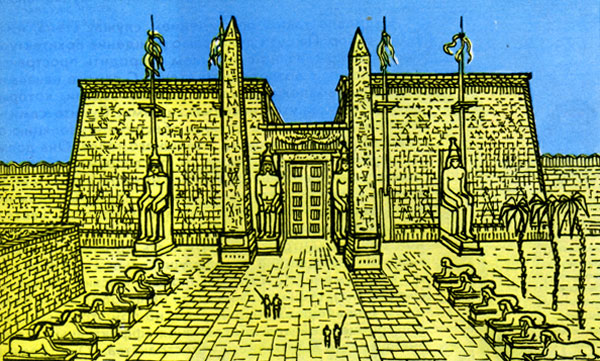
Храм Амона в Луксоре (Древний Египет). Аллея сфинксов и пилоны главного входа
Издревле таким ограждением служат стена, изгородь, забор. По сути дела, само рождение архитектуры неразрывно связано с умением огородить пространство и, значит, с возведением стены. С самого начала на нее были возложены такие разные задачи, которые во многом кажутся несовместимыми. Судите сами — первым делом стена должна обеспечить изоляцию от внешних осадков, холода, излишнего тепла. Она должна укрыть человека также от посторонних взглядов, чужих ушей и вообще от всякого нежелательного вторжения. Она, следовательно, должна служить надежной преградой одновременно для влаги, воздуха, света и звука. В то же вр емя она должна быть достаточно прочной для того, чтобы поддерживать кровлю, и по возможности защищена от разрушительных воздействий огня и времени. Но и этого мало. Как и всякая оболочка (мембрана), стена должна стать непреодолимым барьером для внешних воздействий, но при этом быть легкопроницаемой для обеспечения эффективных связей внешнего и внутреннего пространства. Она должна пропускать воздух, необходимый для поддержания нормального температурного и влажностного режима внутри дома (не случайно мы говорим, что правильно выполненная деревянная или кирпичная стена хорошо «дышит»). Она должна пропускать дневной свет и солнечные лучи, позволять при желании видеть и слышать, находясь внутри дома, то, что происходит за его пределами. Кажется, невозможно совместить в одной конструкции столько противоречивых функций. И все-таки стена в большей или меньшей степени решает все эти проблемы.

Подвальные помещения
Мы, как правило, склонны недооценивать изящество и сложность внутренней организации самых простых с виду, привычных для нас материалов и конструкций, прошедших длительный путь эволюции. Часто ли мы вдумываемся в то, каким уникальным «ограждением» одарила человеческий организм природа. А ведь наша кожа является поистине уникальным материалом — устойчива ко многим кислотам и пропускает воздух, влагонепроницаема и обеспечивает удаление из организма избыточной влаги — обладает высокой прочностью и одновременно высокой чувствительностью. Подобно этому, и архитектура далеко не сразу осмыслила уникальность собственной «кожи». Прошли тысячелетия, прежде чем она стала рассматривать стену как одно из главных средств художественной выразительности.
Еще с глубокой древности зодчие знали и активно использовали архитектурную мощь гладкой каменной стены. Но поначалу это была в большей степени скульптурная пластика архитектурного объема, чем архитектура стены в полном смысле этого слова. Престижные архитектурные ансамбли тех далеких времен, будь то пирамиды Древнего Египта или древнегреческие храмы, были рассчитаны главным образом на восприятие снаружи. Это была архитектура внешнего вида, архитектура экстерьера.
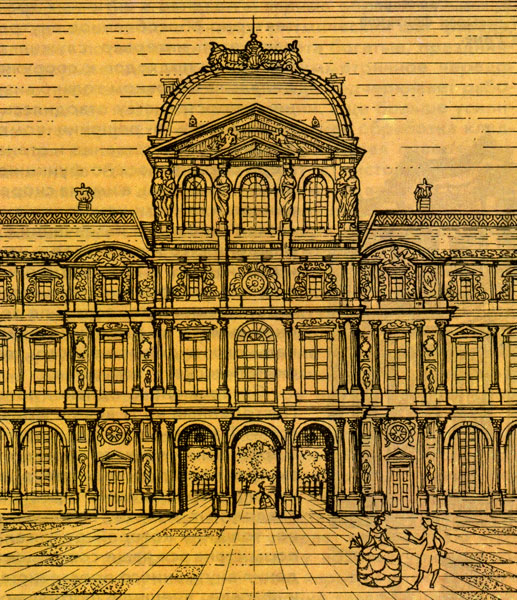
Лувр в Париже. Центральная часть западного фасада
Египетская пирамида имела гигантские размеры, плохо поддающиеся даже воображению современного человека. Например, знаменитая пирамида Хеопса поднимается на высоту около 150 метров, сторона ее основания составляет 230 метров. Этот гигантский массив камня, измеряемый миллионами кубических метров, скрывает всего лишь небольшие погребальные камеры и связывающие их узкие коридоры, которые должны были остаться недоступными для человека. Эти внутренние помещения не составляли и десятой доли процента от общего объема сооружения.

Внутреннее строение здания
В храмовых комплексах Древнего Египта, так же как и позднее в античных храмах, существовало архитектурно обособленное внутреннее пространство. Однако этот интерьер служил прямым продолжением наружных подходов к сооружению, от которых он отделялся в основном только визуально. И здесь внутреннему пространству отводилась подчиненная, второстепенная роль в решении комплексной архитектурной задачи. Соответственно и стена не выполняла в полной мере специфическую функцию архитектурной оболочки — мембраны, а имела скорее формально-художественное и отчасти конструктивное значение. Что же касается основного назначения стены, как наружного ограждения, то в этом своем качестве она существовала и развивалась в архитектуре жилого дома и других городских построек, то есть главным образом в сфере строительного ремесла и по тем временам чаще всего оказывалась за рамками архитектуры как профессионального художественного творчества, как высокого синтетического искусства.
Со временем, однако, положение стало меняться. Построенный во II веке в Древнем Риме храм всех богов — Пантеон принято считать одним из первых примеров органического соответствия внешнего облика и внутреннего пространства в архитектуре. Гигантский купол, перекрывший пространство площадью 1500 квадратных метров, покоился на цилиндрической стене, толщина которой достигала шести метров. С этой поры стена все чаще совмещает в себе функции ограждения внутреннего пространства, несущей конструкции и фасада, внешней формы архитектурного сооружения.

Церковь Сан-Карло у четырех фонтанов в Риме
ОКНО
По-настоящему, в полный голос «заговорила» стена в эпоху Возрождения. Новый тип городского дома— палаццо — резиденция богатых семей и видных священнослужителей — поднимает свои высокие этажи над крышами окружающих домов средневековой застройки. Внутренняя структура дома заметно усложняется, собственно жилые помещения дополняются многочисленными службами и парадными залами для пышных приемов. Это не может не отразиться на фасадах. Стена перестает быть глухим массивом инертного материала — она получает детальную и строгую пластическую обработку. Главным элементом, основой симметричного членения стены становится окно — пожалуй, не менее давнее архитектурное изобретение, чем сама стена (помните отверстие в примитивном сводчатом покрытии дома в Вади-эн-Натуф). Но до сих пор окно выполняло роль светового проема, не претендуя на ведущее положение на фасаде. А теперь заключенные в богатые архитектурные обрамления оконные проемы четко отбивают ритмический шаг фасада, заливают потоками дневного света богатые, празднично оформленные интерьеры. Симметричное чередование простенков и окон на фасаде подчеркивает работу стены как несущей конструкции. Еще больше усиливает этот эффект руст — специальная обработка кладки, при которой грубая колотая лицевая поверхность каменного блока контрастирует с чисто вытесанной окаймляющей дорожкой. Причем на верхних этажах глубина рельефа становится меньше по сравнению с мощным рустом цоколя, благодаря чему стена кажется особенно устойчивой и монументальной.
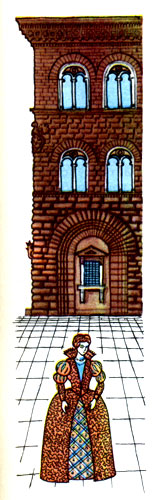
Палаццо Медичи — Рикарди, Флоренция. Фрагмент фасада
Все это можно увидеть на фасаде трехэтажного палаццо Медичи — Рикарди, построенного во Флоренции в середине XV века по проекту Микелоццо ди Бартоломео. Богатый карниз, большие полуциркульные окна, рустованный цоколь стали не только прототипами для множества дворцов итальянского Возрождения, но прочно вошли в архитектуру других времен и народов.
Однако, прежде чем покинуть Италию, задержимся еще на два столетия и заглянем в Рим. В 1662—1667 годах Франческо Борромини возводит здесь свою последнюю постройку — церковь Сан-Карло у четырех фонтанов. Волнистая поверхность фасадной стены с богатым рельефом деталей создает контрастную игру светотени, необычную динамику архитектурной формы. Борромини, начавший свою карьеру архитектора с работы каменщиком на постройке главной церкви католического Рима — собора св. Петра, обладая необычайно развитым чувством формы, был своего рода скульптором в архитектуре. За это он и при жизни, и долгие годы после смерти подвергался обвинениям в эксцентричности и нарушении «хорошего архитектурного тона». Но этот небольшой фасад с волнообразной стеной еще не раз напомнит о себе многие десятилетия и даже столетия спустя. Вся поверхность стены трактована как одно целое — проемы, ниши, простенки, балюстрада, карниз — все сливается в единый архитектурный орнамент. Это характерная черта пришедшей на смену Возрождению архитектурной эпохи барокко — времени господства абсолютизма, феодальных монархий Европы, времени строительства гигантских дворцовых комплексов, затмевающих по своим масштабам все когда-либо созданные светские постройки. Затейливая вязь барочного фасада обволакивает нескончаемые, имеющие сложную конфигурацию корпуса Лувра и Версаля — городской и загородной резиденций короля Франции.
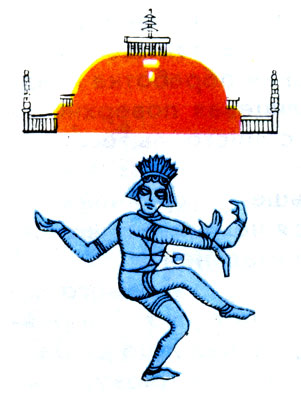
Масса и внутреннее пространство в древних сооружениях: ступа в Санчи, Индия
С первой трети XVIII века архитектура барокко получает своеобразное развитие в России времен Петра I и Екатерины II. Замечательный образчик русского барокко — Зимний дворец, построенный в Петербурге «обер-архитектором» российского императорского двора Франческо Бартоломее Растрелли. Разнообразные сочетания выступов фасада, портиков, подчеркнутые динамичными линиями карниза и балюстрады, придают удивительную мягкость, живописность фасаду, образованному сплошными рядами оконных проемов. Скульптурная пластика фасада умело декорирует утилитарную функцию стены, которая вынужденно следует регулярной череде бесчисленных комнат и залов царского дворца.
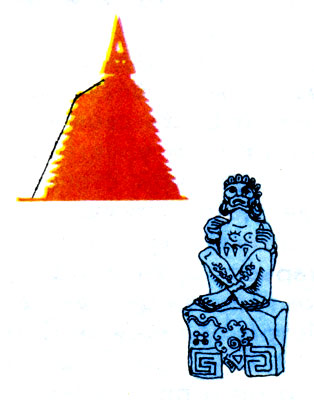
Храм майя в Тикале, Мексика
Строительство Зимнего дворца продолжалось всего восемь лет и было закончено в 1762 году. Годом раньше родился великий русский архитектор Андреям Захаров, которому предстояло почти полвека спустя дать совсем иную архитектурную трактовку стены в еще одном замечательном здании на той же Дворцовой площади. Протяженные фасады здания Адмиралтейства решены им в гораздо более строгой, классической манере, развивающей традиции Возрождения. Механистический характер внутренней планировки, основанной на неизбежной для столь крупного административного здания повторяемости большого числа однотипных помещений, преодолевается совсем по-другому, чем в Зимнем дворце. Монотонный ряд окон главного и бокового фасадов оживляется сильными акцентами в виде шести и двенадцатиколонных портиков, а также отдельными элементами скульптурного убранства. Эти приемы, свойственные высокому русскому классицизму, умело поддержал еще один замечательный зодчий — Карл Росси в архитектуре корпусов Главного штаба и двух министерств, довершивших в 1818—1829 годах формирование ансамбля Дворцовой площади дугообразной застройкой ее южной стороны.

Пирамида Хеопса, Древний Египет
И все же, как ни меняла свое обличье стена начиная с эпохи Возрождения и вплоть до середины XIX столетия, она представляет собой все тот же более или менее декорированный, равномерно перфорированный окнами каменный массив несущей конструкции. Сохраняется единство функциональной, конструктивной и эстетической составляющих: функции, конструкции и формы. Однако по мере приближения к рубежу XX века эта твердая, проверенная временем почва, казалось, стала уходить из-под ног.

Пантеон в Риме
ЭВОЛЮЦИЯ СТЕНЫ
С одной стороны, появляются новые типы гражданских и промышленных зданий — магазины, склады, предприятия, конторы. Нужны большие прозрачные витрины в первых этажах, залитые светом рабочие помещения. Это заставляет искать такие решения конструкции стены, при которых поверхность окна увеличивается за счет уменьшения простенков.
С другой стороны, появляются новые виды конструкций — металлический, а затем и железобетонный каркас. Они резко уменьшают рабочее сечение опор несущей конструкции и в конечном счете позволяют совсем отделить ее от стены. События развиваются с такой калейдоскопической быстротой, что архитекторы не всегда успевают осмыслить происходящее и оказываются в хвосте этих стремительных перемен.
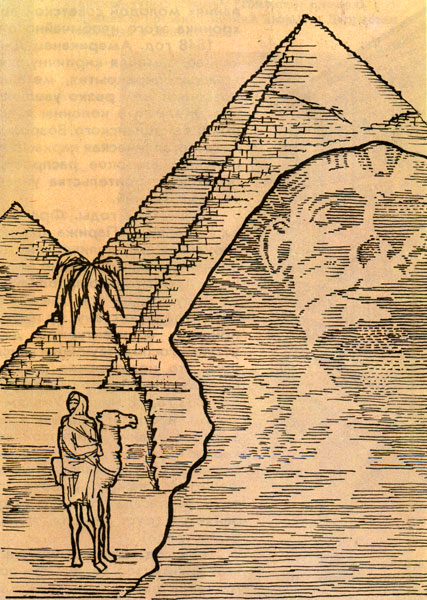
Сфинкс у пирамиды Хеопса в Гизе, Древний Египет
Некоторое время поиски архитектурного решения ведутся в поверхностно декоративном плане. Наиболее распространенной тенденцией становится стилизаторство в духе прошлых эпох. Дошедшие до наших дней постройки в псевдорусском «стиле», псевдоготические башенки и скульптуры на фасадах многоэтажных доходных домов, «венецианские» окна и восточные орнаменты причудливых особняков «мавританского» стиля хорошо передают ощущение растерянности и разброда, в котором находится архитектура конца XIX века.
Конструктивные новшества поначалу используются только для архитектурных подделок такого рода.
Однако со временем новое функциональное содержание и новые принципы конструкции дома все-таки пробивают себе дорогу на его фасад. Новая трактовка стены утверждает себя повсеместно — в Западной Европе, в Северной Америке, наконец, в первых начинаниях молодой советской архитектуры. Вот короткая хроника этого необычайно динамичного периода.
1848 год. Американец Джеймс Богард изобретает каркас, заменяя кирпичную кладку, несущую междуэтажные перекрытия, металлическими опорами. Это позволяет ему резко увеличить поверхность остекления. Железные колонны и арки фасада выполнены в стиле венецианского Возрождения. К 70-м годам XIX века металлическая каркасная конструкция такого типа получает широкое распространение в американской практике строительства универмагов, складов и конторских зданий.
1871—1872 годы. Француз Жюль Сонье возводит неподалеку от Парижа здание шоколадной фабрики с каркасной металлической конструкцией. Кирпичная кладка наружных стен не несет конструктивной нагрузки и служит только заполнением каркаса. Это позволило получить на всю высоту здания совершенно плоскую, гладкую стену, не перегруженную, как это было принято, архитектурной декорацией. Единственная уступка господствующим вкусам, без которой не обошлось это новаторское решение, — облицовка фасада разноцветными керамическими плитками.
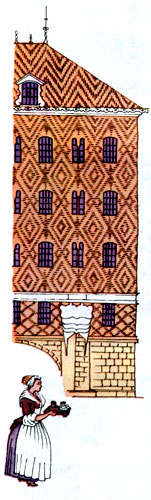
Шоколадная фабрика близ Парижа — первое каркасное здание. Фрагмент фасада. 1872 г.
1883 год. В Чикаго Уильям ле Барои Дженни проектирует и строит первый в истории небоскреб—10-этажное здание страховой компании. Металлический каркас позволил довести проемы до размеров, обеспечивающих максимальный уровень естественной освещенности в каждом рабочем помещении. Декорация в отделке фасада становится скромной, но все еще сохраняется (руст цоколя, портики входов, венчающая балюстрада).
1889 год. Следующий шаг в том же направлении этот архитектор делает при постройке восьмиэтажного магазина фирмы «Лейтер». Каркасная конструкция выражена на фасаде с такой последовательностью и чистотой, что полностью подавляет остаточные элементы стилизаторства. Эти элементы исчезнут с фасада окончательно еще через десять лет, когда Луис Салливен построит в Чикаго совершенно новое по облику здание универсального магазина. Так еще в конце XIX века усилиями чикагской архитектурной школы были отработаны основные элементы стеклянных небоскребов будущего XX столетия.
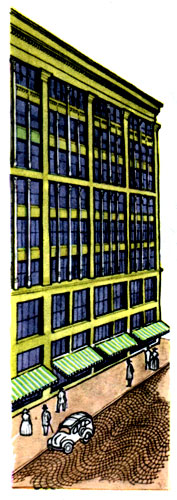
Магазин фирмы «Лейтер». Чикаго, США, 1889 г.
Независимым путем к таким же результатам приходят европейские архитекторы. В 1897 году в Брюсселе открывается Народный дом, построенный архитектором Виктором Орта. Изгибающийся фасад с широким применением стекла и металла впервые в европейской практике не имеет подражаний какому-либо историческому стилю.
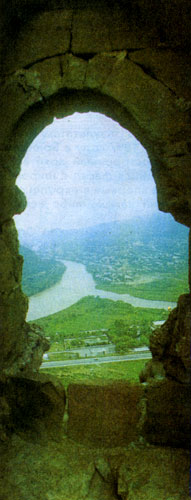
Проем в стене — один из главных мотивов архитектуры: Джвари (Тбилиси)
1903 год. Французский инженер-архитектор Огюст Перре в доходном доме на улице Франклина в Париже убедительно демонстрирует возможности железобетона в жилищном строительстве. Здесь есть и сплошной стеклянный витраж между изящными бетонными опорами нижнего этажа, и обнаженные железобетонные стойки каркаса на верхнем этаже, и рельефная пластика фасада, лишенного всякой декорации.

Площадь Ленина в Ереване
1911 год. В здании небольшой фабрики «Фагус» в Берлине немецкий архитектор Вальтер Гропиус решительно отделяет несущие колонны каркаса от ограждающей конструкции, располагая их внутри здания, за стеклянной плоскостью фасада. «Роль стен, — пишет сам Гропиус, — сведена к роли простого ограждения, натянутого между вертикальными колоннами каркаса для защиты от дождя, холода и шума».

Зимний дворец
1923 год. Голландцы ван Дусбург и ван Эстерен в неосуществленном проекте жилого дома решают фасад горизонтальными лентами остекления, и этот прием получает повсеместное и широкое распространение. Уже через три года Ле Корбюзье и Жаннере демонстрируют принцип ленточного окна в застройке рабочего поселка Пессак близ Бордо. Примерно в это же время проектируют ленточные окна на фасадах жилых домов советские «конструктивисты» — архитекторы М. Гинзбург, И. Милинис (жилой дом на Новинском бульваре, построен в 1928 году), М. Барщ, В. Владимиров и др. (жилой дом на Гоголевском бульваре, построен в 1929 году).

Дворцовая площадь в Ленинграде
Тогда же, в двадцатые годы, один из самых талантливых и остро мыслящих лидеров новой архитектуры — француз Ле Корбюзье — четко сформулировал как один из ее главных принципов функциональную независимость каркаса и стены и как непосредственное следствие этого — так называемый свободный (то есть независимый от несущей конструкции) фасад.
СВОБОДНЫЙ ФАСАД
В то, время главные триумфы и свершения новой архитектуры были еще впереди. Людвиг Мис ван дер Роэ еще только мечтает о башне из стекла и стали, изображая ее на своих эскизах. И лишь через четверть века, в 1951 году, он воплотит свою мечту в жизнь, «натянув» идеально плоскую стеклянную оболочку фасада на два одинаковых параллелепипеда многоэтажных зданий Лейк Шор Драйв в Чикаго. Тем самым, вынужденный во время второй мировой войны эмигрировать из фашистской Германии, немецкий архитектор возвращает Америке передовые позиции в архитектурной трактовке высотного здания, утраченные ею со времен «чикагской школы» и работ Луиса Салливена конца XIX века. Специалисты отметят, что геометрически строгие, аккуратно расчерченные металлическими тягами стеклянные объемы чикагских небоскребов Миеса ван дер Роэ сильно напоминают получившие широкую известность, но неосуществленные новаторские проекты замечательного советского архитектора Ивана Леонидова, выполненные еще в 1927 году (Институт имени Ленина в Москве) и в 1934-м (Дом Наркомтяжпрома). Но так уж повелось в архитектуре, что ни одна по-настоящему конструктивная, содержательная идея не остается на бумаге. Рано или поздно она находит свое место в жизни, даже если на это не хватило сил, времени и возможностей у ее первого автора.

Собор св. Петра в Риме
Горизонтальное ленточное окно в те годы еще не перешло из арсенала приемов пионеров современной архитектуры на столы огромной армии рядовых проектировщиков. И вряд ли кому-нибудь приходило в голову называть этот прием пренебрежительно-насмешливо «тельняшкой» (дом в полосочку), как мы это делаем сегодня, сетуя на то, что он применяется слишком часто и не всегда к месту. Прежде чем это случится, будет еще немало подлинных открытий и заблуждений. Но главное уже сделано и сказано тогда, в далекие двадцатые годы.

Солнцезащитные устройства на фасаде здания в Чадигархе. Индия. Архитектор
Корбюзье
Стена стала свободной. Сбросила с себя вековой гнет конструкции. Обрела собственную сущность наружного ограждения — климатической и визуальной защитной оболочки здания. Архитектурная «кожа» отделилась от конструктивных костей сооружения.
Впервые за всю историю мировой архитектуры стена получила возможность быть такой тонкой и легкой. Толщина навесных панелей наружных стен при использовании эффективных утеплителей достигает 15—20 сантиметров даже в районах с суровым климатом. И это далеко не предел. Архитектура продолжает эксперименты с материалом наружного ограждения — в ход идут металл, пластмасса, синтетическая пленка.
Полностью решена проблема освещенности. Стеклянная стена буквально залила светом интерьер современного сооружения. Преграда между внутренним и внешним пространством становится иллюзорной, почти неощутимой. Прозрачные стены раздвигают тесные пределы сооружения, визуально включают в него окружающий ландшафт. Одно из главных достоинств современного сооружения — обилие света в помещениях — порой даже переходит в свою противоположность. Возникает опасность перегрева прямой солнечной радиацией. Но архитекторы тут же находят оригинальный и многообещающий ответ. Прямо перед стеклом выстраиваются монументальные, причудливые решетки солнцезащиты. Толщина стены, позволявшая оконному проему в прежние времена «ломать» падающий под углом солнечный луч, заменяется теперь устройством специального «солнцелома». И снова архитектура в выигрыше — достаточно взглянуть на то, какой неожиданный и сильный художественный эффект получил от использования солнцезащиты все тот же Корбюзье в своих постройках на солнечном юге Франции (в Марселе) и в новом индийском городе Чандигархе. А как своеобразны, не похожи на все прочие постройки советских архитекторов в Средней Азии — их просто невозможно представить себе без солнцезащитных устройств на фасадах.

Стеклянная стена буквально залила светом интерьер современного сооружения
Пропуская потоки света в помещение, стеклянная стена не только дает идеальный обзор изнутри наружу, но, к сожалению, открывает для обозрения снаружи все, что находится внутри. Архитектура научилась справляться и с этой, казалось бы, принципиально неразрешимой проблемой. Читателю приходилось, наверное, видеть «зеркальные» противосолнечные очки. Они сделаны из особого поляризованного стекла — свет беспрепятственно проходит сквозь него в одном направлении, зато в противоположном оно светонепроницаемо. Фасад из поляризованного стекла обеспечивает комфорт и изоляцию помещений и в то же время создает необычный эффект зеркальной облицовки.
Вообще, чем больше архитекторы экспериментируют со свободным фасадом, тем более безграничными кажутся возможности художественной выразительности, которые он дает архитектуре. Широчайший диапазон выбора материалов, практически любая фактура, любой цвет, любая форма ограждающей поверхности сооружения. Эта свобода настолько велика, что позволяет не только создавать совершенно новые, оригинальные архитектурные формы, но и легко воспроизводить практически любые элементы старой архитектуры, притом в самых неожиданных сочетаниях. Монументальная классическая колонна вызывающе соседствует с зеркальным остеклением, грубая каменная кладка — с тонким металлическим профилем и т. п. Иногда это позволяет лучше связать новую архитектуру с окружением, сложившимся в иные исторические эпохи. Отталкиваясь от подобных ситуаций, некоторые современные архитекторы на Западе пытаются возвести такой прием намеренного смешения архитектурных форм в ранг обязательного художественного правила, особого направления в архитектуре. Для него даже придумано специальное название — «постмодернизм», то есть то, что приходит на смену ставшей привычной «современной» архитектуре. Кажется, круг архитектурных поисков начинает замыкаться.
Но об этом мы еще поговорим. А сейчас, оглядываясь на долгий путь развития архитектуры, нельзя не удивиться чудесному исчезновению, так сказать, растворению во времени массива капитальной стены. И не менее чудесному «возвышению» окна, которое из простой «дыры в стене» превратилось в саму стену, совершенно переродив ее смысл и форму. Заметьте, все эти превращения, столь сильно отразившиеся на эстетической, художественной стороне архитектуры, можно сказать, определившие ее новое, современное лицо, возникли в процессе решения чисто функциональных задач, которые побуждали ее меняться часто вопреки желанию архитектора-художника. Причем если эти перемены и стали возможны, то исключительно благодаря изобретению новых инженерно-конструктивных решений.
Значит, действительно есть глубокая сущностная взаимосвязь между функцией, конструкцией и эстетикой в архитектуре, и прав Витрувий со своей хрестоматийной формулой «польза — прочность — красота». Нам еще не раз придется в этом убедиться, причем с какого бы элемента триады мы ни пытались подступиться к рассказу об архитектуре. Рассмотрим, теперь уже более кратко (многое нам будет понятно благодаря предыдущим рассуждениям), еще один пример того, как побудительный мотив пользы стимулирует развитие новой конструкции и порождает в результате новое понимание красоты.
ДВЕРЬ В СТЕНЕ
Дверной проем, по-видимому, еще более древний элемент сооружения, чем окно, — чтобы оказаться внутри дома, надо в него войти. Дверь в некотором роде даже древнее самой древней постройки, ибо первое жилище человека — пещера — тоже имело свое входное отверстие.
Архитектура очень рано осмыслила значение двери, входа, как «контрольно-пропускного пункта» на границе между внутренним пространством сооружения и его окружением. Причем не только чисто утилитарное, но и художественно-образное, идеологическое значение. И не только осмыслила, но и научилась этим пользоваться.
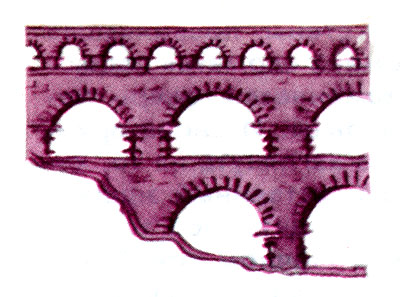
Арочные отверстия в ограждение
Ведь вход может подавлять, принижать человека, вызывать у него благоговейный ужас перед тем, что скрывается внутри, а значит, перед «хозяином» дома. Именно такие чувства внушали поражающие воображение пилоны входа в древнеегипетский храм — монументальное земное жилище сурового, недоступного человеческому пониманию бога.
Совсем по-иному приглашали в свои святилища гораздо более демократичные боги Древней Греции, и это вполне соответствовало социально-политической структуре, философии и этике античного общества. Колонны портика торжественно расступались, обрамляя вход, расположенный на главной оси храма и отмеченный симметричным треугольником скульптурного фронтона.
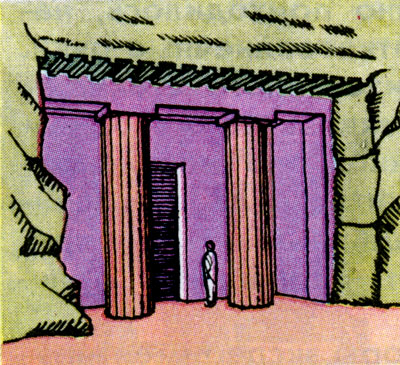
Дверь в стене
По сути дела, вся древняя архитектура могла бы считаться архитектурой входов. Наиболее значимое сооружение древности — храм — будь то египетский, греческий или римский — всегда имел главный фасад, представлявший собой не что иное, как торжественно развернутую пространственную композицию входа. Уникальное значение входа, его особая символическая роль в архитектуре древности проявлялась в том, что часто он получал возможность самостоятельного существования, в качестве отдельного архитектурного сооружения. Пропилеи, триумфальные арки, «золотые» ворота становятся одним из наиболее распространенных и значительных городских монументов. И не только в Европе, на долгие века сохранившей в этом отношении влияние древнеримских образцов, но и в самобытной архитектуре Древнего Китая, Японии, других стран Востока.

Китайский стиль
Вход продолжает занимать очень важное, а часто и определяющее место на фасаде сооружения в классической архитектуре. Пышные порталы готических соборов, вслед за ними изящные аркады эпохи Возрождения. Симметрия входов становится одним из главных приемов композиционного построения гигантских по размерам дворцовых ансамблей барокко и классицизма. Портик входа на долгие времена остается определяющим признаком всякого общественного сооружения. Вспомним хотя бы такой знакомый фасад Большого театра в Москве. Да и на более скромном фасаде многоэтажного жилого дома первым делом читается укрупненный масштаб парадного подъезда.
И все-таки по мере приближения к нашему времени акцентировка входа становится менее заметной. Мы уже знаем, что вся наружная стена постепенно теряет свою монументальность, и это не может не сказаться на судьбе входа. Здание становится все более открытым, меняется сам характер взаимосвязи сооружения с окружающим его пространством. Интерьер переходит вовне постепенно и незаметно, так что для фиксации этого перехода монументальными формами уже нет достаточных логических оснований. Попытайтесь отыскать стеклянную дверь входа на нейтральном фасаде современного административного или гостиничного здания. Вам помогут в этом лишь скромная вывеска и в лучшем случае — «козырек», защищающий от солнца и осадков. Причина тому — не только облегченная конструкция «свободного фасада», но и не менее драматические перемены, которые происходят во внутреннем пространстве сооружения.

Парадный вход жилого дома в Ростоке (ГДР) — стиль модерн, 1904 г.
СВОБОДНЫЙ ПЛАН
Каждый производственный процесс имеет свою технологию — определенную последовательность операций и условий, необходимых для того, чтобы получить нужное изделие. В основе любого жизненного, бытового процесса также лежит определенная, ставшая привычной технология. Мы входим в свой дом, снимаем верхнюю одежду, приветствуем домашних, проходим в свою комнату, затем моем руки, садимся за стол и т. д. Каждая из этих операций требует для своего выполнения определенных условий, а часто и специального помещения. Так в нашей квартире появляются прихожая, спальня, туалет, кухня, гостиная.
Порядок этот не назовешь новым, мы не случайно так к нему привыкли. Даже в самой древней по происхождению и простой по устройству русской избе-четырехстенке уже есть разделение на собственно избу (главное жилое помещение) и прихожую — сени. А потом появляются еще горница, светелка, чулан — всего до десятка разных помещений. Да что там изба! Даже примитивный город-дом американских индейцев пуэбло имеет довольно сложное членение плана на изолированные жилые ячейки и миниатюрные «залы собраний». Что же говорить о куда более сложной внутренней планировке древнеегипетских, греческих, римских домов, особенно если речь шла о жилище богатых людей и дворцах древних властителей. Название одного из таких дворцов — Лабиринт — стало нарицательным обозначением путаницы бесчисленного множества помещений, из которой нельзя найти выход без посторонней помощи.

Зебра
Внутренняя планировка здания создается системой стен, отделяющих помещения друг от друга, и проемов, связывающих их между собой. Снова стена, и снова дверь, только теперь уже внутри помещения. Как и наружные, внутренние стены первоначально были жестко фиксированы конструкцией здания. И точно так же их ждало раскрепощение. По мере усложнения утилитарных, функциональных требований к плану их труднее становилось совмещать с конструктивными схемами зданий, которые быстро развивались в направлении все большей унификации. Эта конфликтная ситуация заметно обострилась в последней трети XIX века в результате появления большого числа новых типов сооружений — складов, магазинов, контор, клубов и т. п. Вынужденное конструктивными соображениями одинаковое расположение внутренних стен на каждом этаже многоэтажного дома часто не отвечало требованиям гибкой, постоянно совершенствующейся функциональной технологии и конкретным пожеланиям заказчика.

Пример свободного плана. Университетский центр в Хельсинки
Трудно точно определить, когда именно внутренние стены стали в полной мере независимы от несущей конструкции. Это связано с внедрением в практику строительства металлического и железобетонного каркаса, с архитектурным осмыслением колонны и балки в архитектуре жилого и общественного здания. В числе первых примеров такого отношения к внутренней планировке называют жилой дом на улице Франклина в Брюсселе, построенный архитектором Виктором Орта в 1893 году. Через 10 лет, в 1903 году, на другой улице, носящей по странному совпадению тоже имя Франклина, но теперь уже в Париже, француз Огюст Перре убедительно демонстрирует возможности свободной расстановки перегородок в здании с железобетонным каркасом. Во всяком случае, когда Ле Корбюзье в середине 20-х годов провозгласил архитектурный лозунг свободного плана, это было не откровением, а констатацией происходящих перемен.

Так выглядели некогда Красные ворота в Москве
Свободный план не только обеспечил подлинную свободу поискам наилучшего планировочного решения и его гибкой трансформации в процессе эксплуатации здания, он привнес в архитектуру интерьера необычайную свежесть и новизну. Прежде глухие внутренние стены превращаются в легкие экраны-выгородки, чем-то напоминающие бумажные ширмы японского народного дома. Они могут нарочито не доходить до потолка, произвольно изгибаться, прерываться или иметь открытые проемы в самых неожиданных местах. Все здание трактуется как единое, целостное пространство, расчлененное только в тех местах, где это необходимо по функциональным соображениям. Такого ощущения единого, перетекающего пространства впервые в полной мере добился, пожалуй, Франк Ллойд Райт, замечательный американский архитектор. Построенные им в таком духе еще в самом начале нынешнего столетия загородные жилые дома своей необычностью произвели огромное впечатление в Европе и заметно повлияли на все дальнейшее развитие мировой архитектуры. Наиболее последовательно интерпретировал принцип свободного плана для многоэтажного здания уже упоминавшийся нами Людвиг Мис ван дер Роэ. В американский период своего творчества он доводит до предела чистоту принципа — в планах его небоскребов жестко фиксированы лишь наружное ограждение и доведенные до минимума нейтральные элементы конструкции, лестнично-лифтовые узлы, вертикальные каналы инженерных коммуникаций. «Кожа и кости» — как выражается сам архитектор.
С тех пор свободный план продолжает оставаться доминирующим принципом организации интерьера общественного здания. Этот принцип повлиял и на характер внутренней планировки жилого дома. Раздвижные перегородки, встроенная мебель, асимметричное расположение оконных и дверных проемов в интерьере комнаты — все это элементы свободного плана, прочно вошедшие в повседневную, самую обыденную практику современного жилищного строительства.
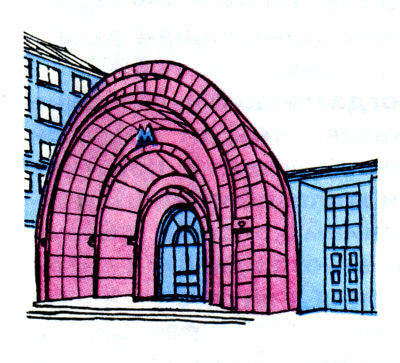
Вместо прежних в новой Москве появились другие «Красные ворота» — вход в
станцию метрополитена (ныне «Лермонтовская»)
Итак, не только явный утилитарный эффект. И не только подкупающая простота конструкции. Но еще и отношение к пространству. Подобно тому как эволюция наружной стены сделала фасад сооружения окном, широко раскрытым во внешний мир, современное развитие плана сделало внутреннее пространство сооружения единым. Окно победило стену, дверь победила перегородку. Открытый проем, обеспечивающий сквозную проницаемость интерьера, стал ведущим мотивом объемно-планировочной композиции всего сооружения. Нетрудно видеть, что свободный фасад и свободный план — две взаимодополняющие стороны единой концепции пространства в современной архитектуре. И становление этой концепции, так сильно изменившей художественный язык и мир образов, создаваемых архитектурой, неразрывно связано с решением самых что ни на есть функциональных вопросов. Нет, не случайно «польза» занимает свое место в триаде Витрувия.

Арка Константина в Риме
Главная мысль
Чтобы создать необходимые условия для жизни человека, архитектурное сооружение должно ответить множеству утилитарных требований, таких, как температурный и влажностный режим, воздухообмен, звукоизоляция, освещенность, удобная связь помещений и т. п.
Вся сумма этих требований составляет функциональную программу — обязательную основу любого архитектурного проекта.
В архитектурном триединстве пользы, прочности и красоты именно функциональные требования полезности чаще всего являются самым революционным, подвижным элементом, направляющим развитие и новое понимание двух остальных — конструкции и формы.
ГЛАВА 3. КРАСОТА
Почему тяжела шапка Мономаха и кое-что по поводу красоты и богатства.
Как орнамент был объявлен преступлением.
Когда архитектура изображает архитектуру.
Застывшая музыка организации пространства.
Магические соотношения целого и части.
Спектакль, который называется «Архитектура».

Красота
ТЯЖЕЛАЯ ШАПКА МОНОМАХА
Человек стремится сделать красивой любую вещь, которая выходит из-под его рук, — одежду, домашнюю утварь, мебель, оружие. Это стремление к красоте, способность и потребность воспринимать прекрасное настолько свойственны людям, что некоторые специалисты по древнейшей истории считают их изначальными признаками становления человека как социального существа. Человек стал человеком, говорят они, когда научился чувствовать красоту, когда его действиями стало руководить не только утилитарное начало, но и «бессмысленная» тяга к прекрасному.
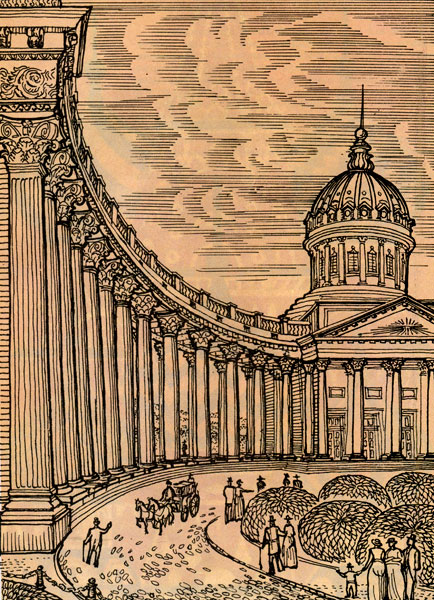
Казанский собор в Ленинграде. Архитектор А. Воронихин
В Оружейной палате Московского Кремля, ленинградском Эрмитаже, в любом историко-художественном музее мира есть множество примеров тому, как далеко может завести это неистребимое стремление к красоте, как оно трансформирует, иногда полностью перерождает действительный смысл предмета. Знаменитая шапка Мономаха — головной убор русских царей — тяжела не только в переносном смысле этого слова, она украшена настолько обильно, что весит несколько килограммов, и ее действительно нелегко носить на голове. Наряды, в которых невозможно ходить, посуда, на которой неудобно есть, оружие, которым нельзя сражаться, — многозначительные и по-своему печальные символы власти и богатства.
Красота издавна идет рука об руку с богатством. Украшение всегда дорого ценится, богатство стремится утвердить себя красотой. И все-таки то, что дорого, не всегда красиво, а красота, художественное достоинство вещи непропорциональны ее материальной стоимости. Благородная простота, сдержанность в украшении — главные признаки того, что мы называем высокой художественной культурой. Подлинную красоту не приделаешь снаружи наподобие аляповатого украшения. Она возникает изнутри, пронизывает насквозь, выражая внутреннюю сущность предмета.
Стремление украсить свой дом кажется настолько же древним, насколько и естественным. На Руси бревенчатая рубленая изба дает удивительные примеры изящной декоративной резьбы по дереву. Резными деталями украшены свесы карнизов, фронтоны, обрамления окон. При этом мастера умело учитывали особенности климата. В средней полосе применялась глубокая резьба — глубокий рельеф, выполненный с помощью долота и рассчитанный на богатую игру светотени при ярком солнечном освещении. Иное дело в северных районах, где меньше солнечных дней, — там чаще встречается прорезная или пропилочная резьба, которая особенно хорошо смотрится силуэтно, на просвет.
Еще более пышно, чем дом простого смертного, стремились наши предки украсить храм — «дом бога». А вслед за церквами декоративная обработка фасадов стала очень распространенным, если не обязательным, приемом для наиболее значительных общественных зданий. Димитровский собор во Владимире построен в конце XII века. Вся верхняя наружная часть стройного четырехстолпного (то есть с четырьмя внутренними опорами) одноглавого храма почти сплошь покрыта причудливой каменной резьбой. Около шестисот камней с изображениями святых, сказочных зверей, растительных форм. Нижняя часть выполнена из гладких камней и подчеркнуто отделена от верхней аркатурным поясом — рельефным изображением аркады на изящных декоративных колонках. Массивное, вырастающее из самой земли основание завершает декоративное изящество здания, придает ему воздушность, устремленность к небу. Этот прием создает совершенно особый монументальный эффект и не имеет прямых прототипов ни в русской, ни в европейской архитектуре.

Царь гневается
А кому не знаком праздничный декоративный наряд Василия Блаженного — собора Покрова на рву, воздвигнутого на Красной площади в честь присоединения к России Казани. Глядя на это буйство форм и цвета, поневоле веришь старинной легенде о том, что грозный царь Иван Васильевич повелел ослепить построивших храм зодчих, чтобы никогда и нигде не смогли они возвести здание подобной красоты. Три столетия спустя в Москве появилось сооружение иного назначения, но тоже поражающее богатством и необычностью декоративного убранства фасадов. И по странной игре случая (а может быть, в этом закономерно проявилось влияние восточных архитектурных мотивов) оно тоже связано с Казанью. Казанский вокзал, построенный замечательным русским советским архитектором Алексеем Викторовичем Щусевым в 1912 году (окончательно завершен в 1940 году), отличается особым изяществом, сочностью и изобретательностью прорисовки архитектурных деталей.
Русская архитектура не является исключением в смысле активного использования декоративных приемов — в большей или меньшей степени это свойственно архитектуре всех времен и народов. Богатые скульптурные рельефы покрывали обелиски и пилоны древнеегипетских храмов, сооружений Ассирии, Вавилона, других восточных деспотий. Древние греки украшали многофигурными скульптурными группами фронтоны своих храмов, использовали рельеф и орнамент для декоративной обработки деталей ордера. Между прочим, греческий храм, по мнению многих специалистов, имел яркую раскраску — колонны светло-желтых тонов, детали антаблемента и фон фронтона — красного и синего цвета. Общее впечатление от этой архитектуры, по-видимому, было совсем иным, чем-то, которое может возникнуть на основе дошедших до нас руин и остатков, утративших свою подлинную фактуру, мы видим монохромную, черно-белую копию цветного оригинала. Представим себе слепящее солнце, глубокую синь неба, яркие одежды, загорелые тела, пеструю раскраску зданий — и мы поймем, что при всем благородстве и гармоничности форм древнегреческой архитектуры декоративное начало было очень важной ее составляющей.

Чаепитие
Совершенно исключительное место занимает орнамент в архитектуре стран исламского мира и Средней Азии — разноцветные изразцы, вычурная резьба покрывают стены мечетей, медресе, сказочные минареты Каира и Стамбула, Кордовы и Исфагани, древних памятников Самарканда и Хивы. Этот эффект нарисованной, словно нереальной архитектуры, дематериализации архитектурной массы с помощью орнамента с еще большей силой проявляется в архитектуре Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. Фантастические храмы Камбоджи — Ангкор Ват и Ангкор Том — украшены тысячами скульптурных изображений, которые кажутся живым растительным ковром, словно обступившие архитектуру со всех сторон джунгли окончательно и бесповоротно захватили ее в плен.
Примерно в то же самое время, в XII веке, на другом конце земли, на севере и западе Европы, люди, непохожие на кхмеров, возводили сооружения, которые могли бы поспорить с Ангкор Ватом по своей бьющей через край декоративной мощи. Ажурные конструкции готических соборов словно обтянуты резным кружевом каменных скульптурных узоров. Собор Парижской богоматери, с восхищением пишет великий французский писатель Виктор Гюго, в бесконечном разнообразии разворачивает перед глазами «свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого».
Гладкие массивные стены главного собора Флоренции — Сайта Мария дель Фьоре, — построенного первым архитектором итальянского Возрождения Филиппо Брунеллески, украшены с неуемной, какой-то языческой по духу жизнерадостностью — они расчерчены цветными полосками и квадратами мраморного орнамента. Суть дела от этого не меняется — скульптурные детали, цвет, орнаментальный рисунок приходят на помощь архитектуре, но под этой оболочкой зримо проступают контуры единого архитектурного целого. «Ствол дерева, — говорит об этом Гюго, — неизменен, листва прихотлива... Из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника». Художником в данном случае и с полным основанием Гюго называет архитектора.
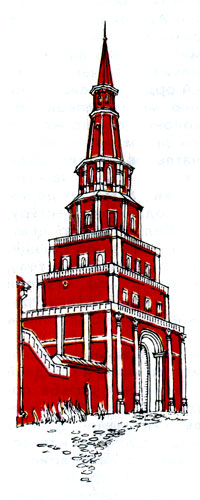
Башня Казанского кремля
Существует, однако, самая большая опасность для архитектора, как и для всякого художника,— оказаться в плену у самого себя, у собственного прошлого. Полбеды, когда это происходит с одним, пускай даже гениальным художником; беда, когда это захватывает целый период художественного творчества.
Пожалуй, впервые идея использовать архитектуру для декорирования архитектуры получила широкое распространение в Древнем Риме. В постройках римлян возрождается античный ордер, но лишь как средство декоративной, пластической обработки стен, как своего рода орнамент на архитектурные темы. Следующая, наиболее мощная волна такого возрождения дала название целой эпохе в искусстве. Возрождение — само это слово звучит как ностальгия по прошлому — возрождение давно ушедших демократических идеалов античности, запечатленных с особой силой в скульптуре и архитектуре Древней Греции.
Конечно, как и всякое крупное явление в культуре, стиль итальянского Возрождения не исчерпывается копированием архитектурных форм античности. Он дал миру великих зодчих, великие памятники и великие архитектурные идеи. Но все же его отправной точкой и краеугольным камнем стала декоративно-орнаментальная трактовка античного ордера, его использование для художественного осмысливания совершенно иных, чем в античности, функциональных задач и конструктивных решений.
И снова раскручивается знакомая нам упругая спираль диалектического развития зодчества. Мы уже прошлись по ее виткам, следя за эволюцией функционального и конструктивного начал архитектуры. Теперь обратим внимание на то, как менялось отношение к архитектурной форме и средствам художественной выразительности в архитектуре.
ОРНАМЕНТ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Последний мастер Возрождения стал первым мастером нового стиля, получившего легкозвучное имя «барокко» (по-итальянски — «странный», «причудливый»). Великий скульптор Микеланджело буквально лепит архитектуру на стенах своих зданий. Изображение архитектуры на долгие века становится главным художественным приемом зодчества.
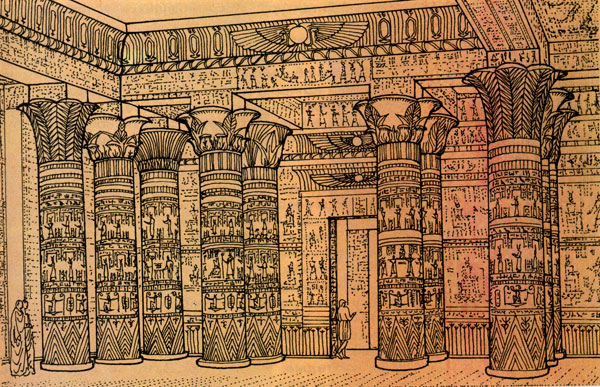
Интерьер храма Изиды в Филэ. Египет
Архитектор все более изощряется в искусстве украшения, фасадные декорации все более условны. Все тоньше ниточка, связывающая их с далекой античностью, все больше их несовместимость с непрерывно обновляющейся логикой функции и конструкции. Разрыв с классической традицией неизбежен, в конце XIX века он приобретает характер стремительно надвигающегося взрыва. И если, как мы убедились, пафос этой революции — в новой концепции архитектурного пространства, в конструктивном плане — в осмыслении возможностей новых конструктивных материалов — бетона, стекла, металла, то в сфере эстетики это отказ от декорирования, от подражательства, попытка найти новый язык художественных форм. Общий смысл охватившего архитектуру современного движения — очищение от лжи — функциональной, конструктивной, художественной, правдивое выражение содержания архитектуры в изменившихся условиях общественного развития.
Один из первых толчков к новому осмыслению художественной формы в архитектуре дала деятельность английского общества «Искусства и ремесла», которое выдвинуло принцип целесообразности формы и правдивости в использовании материалов. Как это ни парадоксально, но первый лозунг о функциональной обусловленности форм был выдвинут против засилья «машинизации», за возвращение к ручному труду. В тот переломный период, на рубеже веков, архитектура шла рука об руку с прикладным искусством, заимствуя у него элементы новой конструктивной эстетики. Вдохновитель общества — художник-прикладник Уильям Моррис. Его коллега Ч. Макинтош строит в 1897—1899 годах Художественно-промышленную школу в Глазго, которая по лаконизму и естественности своих форм, логике внутренней организации вполне может быть признана одним из прототипов современной архитектуры — архитектуры XX века. Новая архитектура черпает вдохновение не в подражаниях классике, а в рациональном построении и правдивой простоте сельского жилого дома, коттеджа, такого, как Красный дом в Кенте, построенный еще в 1859 году архитектором Филиппом Уэббом.

Храм Анкгор — Ват. Камбоджа
Отказ от псевдоисторизма и ложного декора становится главной идеей приверженцев нового направления не только в Англии, но и на Европейском континенте. Во Франции, Бельгии, Голландии это направление получает название «Ар нуво» — «новое искусство», в Германии «Югендстиль» — «стиль молодых», в Австрии оно связано с обществом «Сецессион», что означает «раскол» — разрыв с традиционализмом. Предоставим слово самим провозвестникам и пионерам современной архитектуры. Оптимизм, острое чувство нового оживают в этих энергичных призывах почти столетней давности.
Уильям Моррис, Англия: «Я надеюсь, что настоящее строительное искусство может скорее возникнуть из простых, непритязательных построек, чем из экспериментаторства с различными стилями» (1891 г.).

церковь Покрова на Нерли
По другую сторону Атлантики ему вторит Луис Генри Салливен, лидер чикагской школы в США: «Здание, абсолютно лишенное орнамента, может производить впечатление величественности и благородства благодаря своим массам и пропорции. Я не уверен, что орнамент способен существенно повысить эти основные качества... Поэтому мы должны волей-неволей избегать многих нежелательных украшений и понять путем сравнения, насколько эффективнее замысел естественный, энергичный и здоровый» (1892 г.).
Петере Беренс, Германия: «То, что находится в становлении, формируется изнутри, а не отыскивается произвольно, не составляется играючи из старого... Мы много работали и многое оценили, нам опостылела игра в старину. Работая, мы научились понимать наше время, нашу жизнь; что нам маскарады с одеждами давно ушедшей и непонятной нам жизни» (1900 г.).
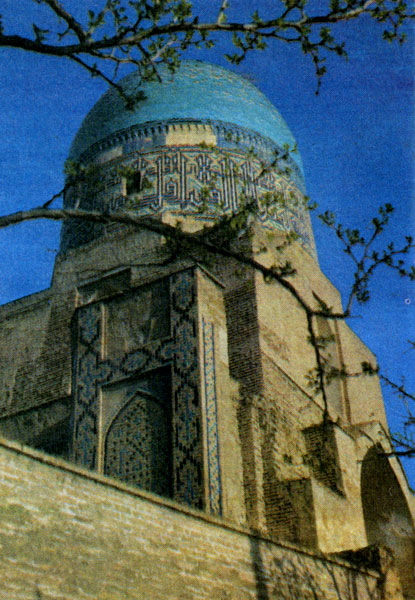
Шах-и-Зинда в Самарканде
Анри ван де Вельде, Бельгия: «Пришло время, когда стала очевидной задача освобождения всех предметов обихода от орнаментов, лишенных всякого смысла, не имеющих права на существование и, следовательно, лишенных подлинной красоты» (1901 г.).
Хендрик Петру Берлаге, Голландия: «По моему глубокому убеждению, значительным может быть лишь то искусство, которое в будущем будет следовать принципу: строить честно и просто» (1910 г.).

Фрагменты застройки набережной Невы
И наконец, один из лидеров первого поколения уже сформировавшейся современной архитектуры — стиля «модерн» первого десятилетия XX века — венский архитектор Адольф Лоос: «Потребность первобытного человека покрывать орнаментом свое лицо и все предметы своего обихода является подлинной первопричиной возникновения искусства... Первый человек, малюя орнамент на стенах своей пещеры, испытывал такое же наслаждение, как и Бетховен, сочиняя свою Девятую симфонию. Если первооснова искусства остается неизменной, то его проявления меняются с ходом времени: современный человек, ощущающий потребность размалевывать стены, — или преступник, или дегенерат...» (1908 г.).
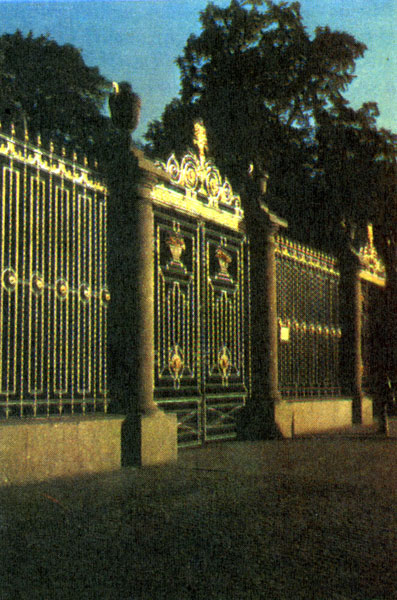
Решетки Летнего сада в Ленинграде
Ни больше ни меньше. Лоос настолько откровенен и категоричен, что стоит послушать его дальше: «Мне говорили: «Каждый век обладает своим стилем, неужели только у нас не будет своего стиля?» Говорят о стиле, а подразумевают орнамент... Подлинным величием нашего времени является именно то, что оно уже не способно придумывать новые орнаментации. Мы преодолели орнамент, мы научились обходиться без него...» Снова и снова повторяет он эту мысль: «Наши храмы уже больше не раскрашиваются в красные, синие, белые и зеленые цвета. Нет, мы теперь научились ощущать красоту голого камня». И наконец, приходит к главному своему выводу: «...дом не имеет ничего общего с искусством, а архитектуру, следовательно, нельзя причислить к области искусства? Да, именно так». Наверное, немногие современные архитекторы согласились бы сейчас с Лоосом без всяких оговорок. Не больше их было и тогда.

Собор Парижской богоматери
Сегодня мы знаем, что это были лучшие, наиболее творческие силы архитектурной профессии. И хотя в 20-е годы нашего столетия, словно опровергая пророчества Лооса, академизм в духе позднего классицизма еще имел широкое распространение в практической архитектуре, пионеры «современной архитектуры» сумели утвердить стиль аскетичных геометрических форм, отражающих внутреннее строение сооружения и природу строительного материала. Архитектурная декорация, вообще всякий орнамент, казалось, навсегда были изгнаны с чистых поверхностей архитектурного объема.

Девушка в старинной ванне
ЛОГИКА «КОРОБКИ»
Началось время расцвета ярких творческих индивидуальностей: в Америке — Франка Ллойда Райта, во Франции — Ле Корбюзье, в Германии, а потом в США — Вальтера Гропиуса и Миса ван дер Роэ, в Финляндии — Алвара Аалто. Это была эпоха великих мастеров, как назовут ее потом архитектурные критики. У нас, в молодой Стране Советов, только что вступившей на путь социалистического строительства, это был героический период советской архитектуры, время Весниных и Мельникова, Голосовых и Леонидова, смело и по праву занявших место в авангарде мировой современной архитектуры.
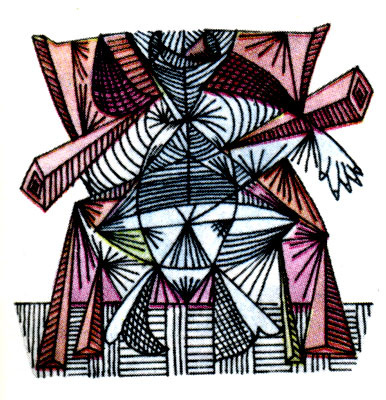
В то время как художники-кубисты искали конструкцию художественной формы,
архитекторы-функционалисты пытались найти художественную форму конструкции
Задача строительства новой жизни, курс на индустриализацию, техническое перевооружение экономически отсталой тогда страны выдвигали на первый план вопросы рациональной организации пространства, современной и экономичной конструкции. Об этом свидетельствуют сами названия архитектурных направлений, около которых группируются советские архитекторы 20-х годов — рационалисты, конструктивисты. Об этом же говорит в 1924 году (правда, не так категорично, как Адольф Лоос в 1910-м) один из лидеров советских конструктивистов, М. Я. Гинзбург: «...Машина с крайней активностью своих частей, с абсолютным отсутствием «неработающих» органов совершенно естественно приводит к полному пренебрежению декоративными элементами, для которых нет более места, приводит именно к идее конструктивизма, столь распространенного в наши дни, который должен уже в самом своем существе поглотить свою антитезу — «декоративное».
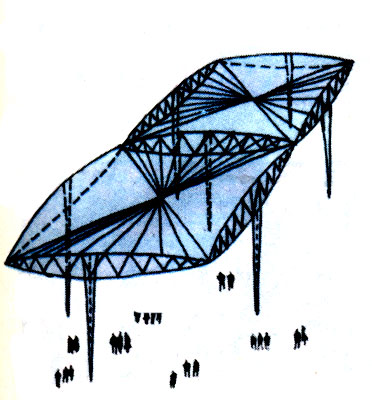
Художественная форма конструкции
Рационализм, технологически четкая схема сооружения, воплощенная в современной инженерной конструкции, действительно не нуждаются в декорировании, приукрашивании. Архитектура освобождается от всего лишнего, наносного, случайного, чтобы обрести новое свободное дыхание. В то же время оптимистическая вера в машину привносит в архитектуру и иную свободу — свободу от поисков художественного образа. По мысли функционалистов, он должен получаться сам собой, как естественный результат рациональной организации.
Увы, так получается далеко не всегда. Сбросив с себя внешние одежды декора, представ перед зрителем в обнаженном виде, архитектура в каждом конкретном случае со всей очевидностью демонстрирует не только свои достоинства, но и изъяны. Она лишается своей тайны, чего-то сокровенного и волнующего, что неизменно сопутствует ощущению прекрасного. Аскетические формы домов, сочетания лишенных деталировки, ничем не приукрашенных параллелепипедов, кубов, цилиндров кажутся удручающе примитивными. Их трудно ассоциировать не только с уже привычным обликом архитектурного сооружения, но и с внутренним эмоциональным состоянием человека, к которому обращается всякое искусство.
Тонко чувствующий архитектор-художник остро ощущает это вынужденное обеднение эстетического языка, утрату необходимой сложности и разнообразия. Стремясь компенсировать потерю, он придает своим постройкам характер искусственно усложненных, изысканных кубистических композиций, требующих для своего восприятия специальной художественной подготовки. Однако такое формальное экспериментаторство больше соответствует духу салонной авангардистской живописи, чем лозунгам функциональной и конструктивной правды, начертанным на знаменах «современного движения». К тому же оно по плечу лишь небольшой группе действительно выдающихся мастеров и поэтому неизбежно приобретает элитарный характер.
Наряду с этим множится число построек среднего и невысокого качества, спекулирующих на лаконизме и машинной эстетике современных форм, сводящих их к примитивному и бездушному стилю домов-коробок. Получается, что этот стиль оказывается не менее удобным для эпигонства, для коммерческой, антихудожественной архитектуры, чем позднеклассические подражания. Отсутствие пространственной идеи, художественного замысла гораздо легче спрятать за нехитрые штампы «современной» архитектуры, чем за сложную, богато деталированную архитектурную декорацию — ее рисование требует по крайней мере времени и твердых профессиональных навыков.

Орнамент
И хотя логика «коробки» вырастает из объективных условий развития общества — современной жизни и в первую очередь современной технологии, само это общество, то есть конкретные люди, так сказать, «потребители» архитектуры, долго, как бы нехотя и с недоверием, примиряются с новой архитектурой. Уж слишком непривычными, подчас упрощенными, для многих вообще не претендующими на красоту кажутся сооружения современного стиля. Это интуитивное неприятие новой архитектуры настолько активно, что время от времени провоцирует более или менее продолжительные возвраты к старой архитектурной традиции.
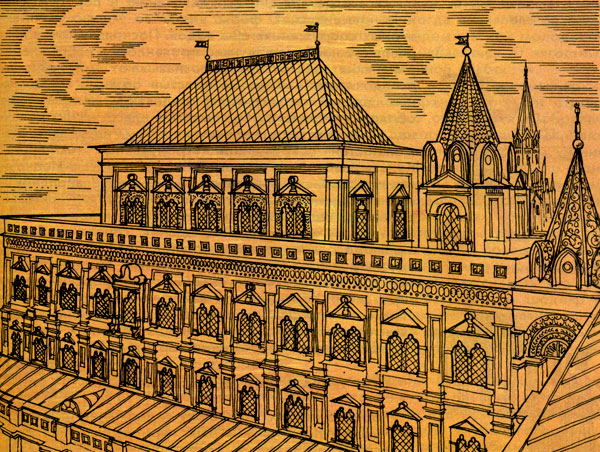
Орнамент в архитектуре. Теремной дворец в Московском Кремле
Тяга к деталям, к использованию и переосмыслению классических форм видна во многих архитектурных сооружениях 60-х годов. Поскольку такое направление наиболее активно проявилось в работах американских архитекторов, его называют американским псевдоклассицизмом. На простые объемы современных зданий архитекторы надевают декоративные оболочки — своего рода подобие классических колоннад и аркад, выполненные, впрочем, на уровне возможностей современной строительной технологии. Культурный центр имени Линкольна в Нью-Йорке — характерный пример такой архитектуры, апеллирующий к традиционным вкусам «потребителя», — симметричные фасады с гипертрофированными портиками на всю высоту многоэтажного здания, сочетание белого мрамора с анодированным «под золото» металлом, ярусные залы, отделанные красным плюшем в интерьере. Однако чисто внешний, бутафорский характер такого обращения к классической традиции настолько очевиден, что оно очень быстро исчерпало свои возможности, составив лишь короткий эпизод в бурной истории современной архитектуры.
ШАГ НАЗАД, ДВА ШАГА ВПЕРЕД
Гораздо глубже по своему содержанию и продолжительнее по времени был период освоения классического наследия в советской архитектуре 30—50-х годов. Возврат к классике был если не единственно возможной, то, во всяком случае, естественной формой протеста против эстетической неполноценности машинной архитектуры. Попыткой вернуть архитектуре ее традиционную «понятную» красоту. В некотором роде это действительно было возрождение — возрождение детали, объемной пластики, богато декорированного фасада. Колонны и арки, пилястры и фронтоны, карнизы и балюстрады — весь арсенал греко-итальянской классики неожиданно оказался в ходу, да так, что сегодня почти в каждом нашем городе остался заметный след этой, как ее потом не без основания стали называть, «украшательской» архитектуры (высотные здания и павильоны ВДНХ в Москве, Крещатик в Киеве, проспект Ленина в Минске и др.)
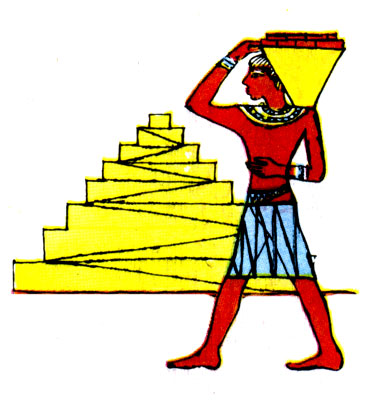
Стиль архитектуры и стиль одежды. Древний Египет
Процесс этот развивался стремительно, в драматической борьбе идей, где рушились не только убеждения, но и человеческие судьбы. В творческом отношении его возглавили архитекторы старшего поколения, сформировавшиеся еще до революции, — И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, А. В. Щусев. Все эти, можно сказать, «живые классики», несмотря на свой солидный академический опыт, в первые годы Советской власти не избежали влияния конструктивистской моды. Неудивительно, в те годы, пожалуй, и нельзя было строить иначе. Однако позднее, когда оказалось возможным вернуться к рецептам академической молодости, они изо всех сил стремились избавиться от тягостных воспоминаний об этой «нечаянной слабости».
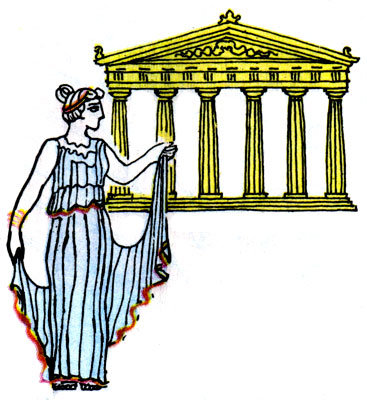
Стиль архитектуры и стиль одежды. Древняя Греция
Алексей Викторович Щусев — одна из самых ярких фигур в русской советской архитектуре. Он строил много и по-разному, нередко обращался к образам древнерусского зодчества, которое хорошо знал и любил. Мы уже упоминали построенное Щусевым здание Казанского вокзала в Москве. Подлинный мастер архитектурной стилизации, он построил в Тбилиси и Ташкенте интересные сооружения классического характера, но не чуждые национальным традициям грузинского и узбекского зодчества. Щусевский конструктивизм порой считают непоследовательным и поверхностным, например здание Наркомзема на улице Кирова в Москве. Однако справедливости ради надо сказать, что лучшее творение Щусева, его бессмертный шедевр — Мавзолей В. И. Ленина — динамической уравновешенностью и строгим лаконизмом своих форм свидетельствует о том, что поиски 20-х годов не прошли для мастера даром.

Стиль архитектуры и стиль одежды. Готика
Иван Александрович Фомин имел совершенно особенное отношение к классике, которое в какой-то мере делало его фигурой, стоящей над бурными спорами приверженцев традиционализма и безоговорочных «новаторов». Заимствуя у классики общий принцип компоновки архитектурного сооружения как единого организма и идею ордера как инструмента дисциплины и порядка, Фомин выступал за поиск новых форм, против пышной декоративности. Он изобрел даже «свой» ордер — спаренные полуколонны без баз и капителей с мощной плитой перекрытия вместо расчлененного, сложнопрофилированного антаблемента. И здесь налицо следы влияния функционально-конструктивистского периода, за которым Фомин признавал большие заслуги. Монументальный лаконизм фоминской «классики» хорошо виден в здании на улице Дзержинского в Москве. Он как бы не вмещается в рамки реальной действительности и достигает подлинно римских масштабов в рисунках и конкурсных проектах зодчего.

Стиль архитектуры и стиль одежды. Барокко
Иван Владиславович Жолтовский глубже кого бы то ни было знал и, возможно, тоньше всех чувствовал классическую архитектуру. При этом отличался удивительной последовательностью в своем творчестве. С самого начала и до конца своей многолетней деятельности он не выходил из круга архитектурных идей и тем итальянского Возрождения. Жолтовский стремился по-своему осмыслить их применительно к новым общественным условиям и возможностям строительства. Это творческое изобретательское начало парадоксально проявляется даже в тех случаях, когда архитектурные «цитаты», заимствованные в Италии, кажутся почти дословными, как, например, в известном доме на Моховой улице в Москве. Это «почти», за которым стоит своеобразная и глубокая философия архитектуры, составляет самую сильную сторону творческой индивидуальности Жолтовского. И как раз это неуловимое «почти» оказалось очень сложно, если не невозможно, передать его многочисленным ученикам, несмотря на общепризнанный педагогический талант мастера.
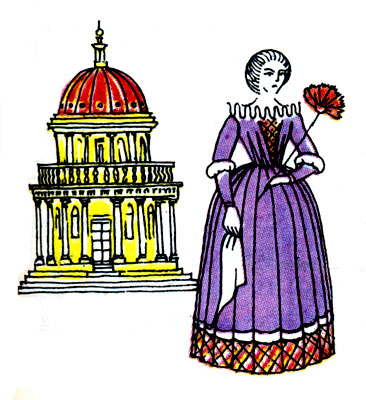
Стиль архитектуры и стиль одежды. Классицизм
«Скольких это мое искусство сделает дураками!» — так по преданию воскликнул Микеланджело, глядя на то, как молодые художники копируют его только что законченную работу — роспись потолка в Сикстинской капелле Ватикана. Так имел бы право, наверное, сказать или подумать и Жолтовский. Да, склонность мастера к ретроспекции позволила ему с особым блеском продемонстрировать глубокое понимание природы архитектуры, филигранную технику анализа и синтеза ее художественной формы. Но только ему и, может быть, очень немногим из талантливейших его последователей. Зато в неумелых руках иных его подражателей оставалась, как правило, лишь внешняя оболочка доктрины — она сводилась к обыкновенному эпигонству, а поскольку адресом для подражания служило итальянское Возрождение, то чаще всего — к откровенному декорированию. Вступив на такой путь, легко утратить чувство меры, — всегда отличающее настоящего мастера от посредственного исполнителя. Так и случилось. Именно линия Жолтовского в большой мере определила тот путь, по которому пошло освоение классического наследия в советской архитектуре в послевоенные годы и который уже в конце 50-х годов привел к новому конфликту между архитектурными формами и общественными потребностями.
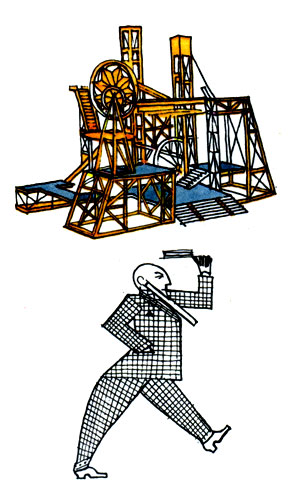
Стиль архитектуры и стиль одежды. Конструктивизм
Многие архитекторы более молодого поколения, начинавшие как ярые конструктивисты, оказались в первых рядах поборников классики, и помог им в этом Жолтовский. Были такие, кто пробовал найти промежуточную позицию, своего рода симбиоз классики и современной архитектуры, высказывая тем самым сдержанный протест против рабского копирования форм и засилья декораторства. Были и такие среди архитекторов 20-х годов, кто, как Константин Мельников и Иван Леонидов, не смог приспособиться к новой моде на старину и отказаться от своих взглядов. Для них период освоения классического наследия стал временем вынужденного творческого простоя, после которого уже не удалось оправиться.

Собор св. Анны в Вильнюсе
В 1947 году, в самый разгар «украшательства», замечательный советский архитектор Александр Александрович Веснин принципиально и твердо отстаивал свою творческую позицию: «Синтез искусств мы считаем могучим средством создания полноценного архитектурного произведения... Мы, однако, против декорирования архитектуры архитектурой. Скульптура и живопись, примененные в архитектуре, никого не обманывают. Архитектурная же декорация всегда выступает с претензией на реальную функциональную или конструктивную роль, и если она этой роли в действительности не играет, она оказывается внутренне фальшивой». Тонкий художник, блистательно работавший в театре, Александр Веснин лучше, чем кто бы то ни было, понимал возможности и существо декорации в отличие от настоящей архитектуры. Время полностью подтвердило справедливость его слов.
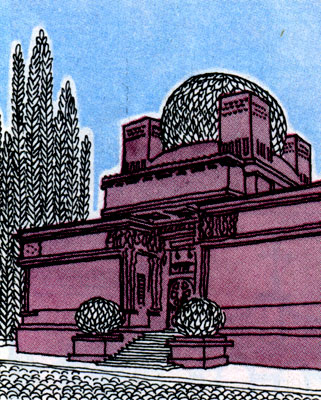
Особняк в Праге, стиль модерн, 1899 г.
За пышно декорированными фасадами постепенно накапливались реальные функциональные и технологические проблемы, которые нельзя было совместить с архитектурной ложью украшательства. Перестройка архитектуры в конце 50-х годов происходила не столько под лозунгами современной архитектуры, сколько в плане решения вопросов экономики и технологии строительства. Функционально-конструктивная сущность архитектуры, еще недавно так сильно потесненная красотой, снова взяла свое, более того, перешла в решительное наступление.
С фасада архитектурных сооружений исчезли псевдоклассические украшения. За долгие годы своего безраздельного господства в архитектуре эти внешние атрибуты красоты не только скомпрометировали себя, но и подорвали кое у кого доверие к художественному началу архитектуры как искусства. Дома-коробки вернулись в наши города как победители. Правда, теперь они стали выше, просторнее, во многом совершеннее, чем их полукустарные предшественники. Но вот с капризной красотой не все ясно.
Не случайно иной житель нового современного дома проявляет время от времени пугающую самодеятельность — то покрасит ограждение своей лоджии или кусочек стены, то соорудит необычную цветочницу.
И хотя таким путем делу не поможешь, но само по себе желание украсить жилище свидетельствует об остром дефиците красоты в архитектуре. О том, что врожденное, хотя, может быть, и не получившее необходимого воспитания чувство красоты далеко не всегда находит соответствующее удовлетворение. И, попадая в новый жилой район, в окружение расчерченных в клеточку одинаковых фасадов, нет-нет и подумаешь о карнизах и капителях с каким-то неясным сожалением.
Как это ни удивительно, но колонны и капители снова заявили о себе в некоторых работах западных архитекторов последнего времени. Американец Чарлз Мур построил необычный фонтан в Новом Орлеане, на площади Италии. По заказу общины итальянских эмигрантов он создал замысловатую эклектическую композицию — нечто вроде огромного макета в натуральную величину — с использованием целого набора элементов классической архитектуры. В проекте гигантского небоскреба фирмы АТТ в Нью-Йорке, автором которого является известный американский архитектор Филипп Джонсон, воспроизводится классическое членение сооружения на базу, основное тело и венчание, отчетливо просматривается огрубленный портик и фронтон. Правда, если раньше подобные псевдоклассические декорации разрабатывались совершенно серьезно, то у Мура и Джонсона — с изрядной долей иронии, даже цинизма, как это свойственно «постмодернизму». Так окрестили западные критики эклектическое по своему характеру архитектурное течение конца 70-х — 80-х годов, пришедшее на смену ортодоксальному функционализму современной архитектуры.

Дом (бывший) Пашкова в Москве. Архитектор В. И. Баженов
В советской архитектуре этого периода тоже есть свои примеры нового — обостренное внимание к архитектурной форме, поиски разнообразия, более выразительных, сложных композиционных построений, включение мотивов; связанных с национальной традицией.
Эволюция архитектурной формы продолжается. Кажется, она обретает силы в новой трактовке конструкции, материала только затем, чтобы растратить их в излишествах декора. И так, шаг за шагом, но каждый возврат этих «качелей» отмечает очередной виток восходящей спирали диалектического развития архитектуры. Архитектура остается архитектурой. Несмотря на все многообразие конкретных форм, каждая архитектурная эпоха — античность и готика, возрождение и барокко, классицизм и современная архитектура — обращается к человеку в конечном счете на одном и том же универсальном языке пространственной композиции.
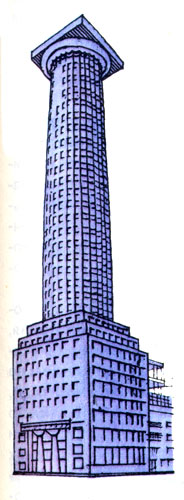
Проект небоскреба. Архитектор А. Лоос, 1922 г.
ЦЕЛОЕ И ЧАСТИ
Искусство архитектуры проявляется там, где человек пытается определенным образом организовать, то есть упорядочить, пространство. Это значит — придать сооружению законченную форму, черты единого целого — пространственной композиции. Ведь именно как развернутую в пространстве картину мы воспринимаем всякое архитектурное сооружение еще до того, как мы в него вошли.
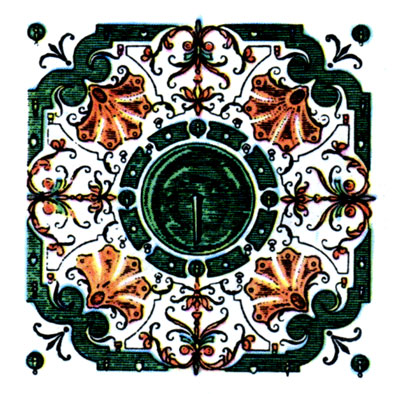
Версаль, Франция. Фрагмент плана парка
О композиции говорят тогда, когда необходимо достичь равновесия различных частей, единства в некотором многообразии, будь то картина или симфония, танец или роман. В одном случае это сочетание линий и цвета, в другом — музыкальные темы или танцевальные па, в третьем — поступки литературных героев. В архитектурно-пространственной композиции такими элементами служат членения архитектурных объемов, проемы, декоративная пластика стен, иные архитектурные детали.
От того, какой порядок придан взаимному расположению этих элементов, как они взаимодействуют друг с другом, зависит степень совершенства композиции, характер ее эмоционального и эстетического воздействия на человека. Она может быть монументальной и изысканно строгой, как греческий храм, динамичной и возвышенной, как готический собор, сдержанно-лиричной, как церковь Покрова на Нерли, наконец, торжественной и простой, как Мавзолей В. И. Ленина.
Если элементов очень мало или характер их взаимодействия очевиден с первого взгляда, то для прочтения, расшифровки композиции не требуется никаких усилий, она неинтересна для восприятия, и мы называем ее примитивной, механической. «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп», — сказал Владимир Маяковский. Это относится и к тому, что в просторечии обозначается словом «дома-коробки». Примеры таких композиций нетрудно найти в современной архитектуре, достаточно вспомнить монотонные фасады многоэтажного панельного дома. Правда, в этом случае архитектурную композицию приходится формировать уже не на уровне дома, а на уровне целой группы домов — путем варьирования их сочетаний и различной постановки в пространстве.
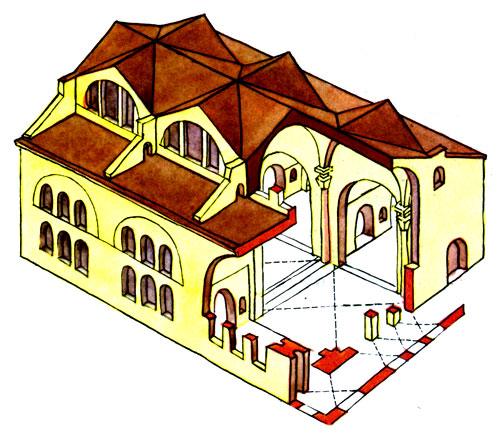
Базилика Максенция в Риме
Если же элементов чрезмерно много или отношения между ними настолько сложны, что недоступны восприятию неподготовленного зрителя, то мы имеем дело с хаотичной, переусложненной композицией, и она тоже не может служить источником положительных эмоций. Такие перенасыщенные, искусственно усложненные композиции часто имеют фасады сооружений периода «украшательства», о котором шла речь выше, например некоторые павильоны ВДНХ. Это же относится, как правило, к той категории модных построек зарубежных архитекторов, которые создаются в угоду вкусам частного заказчика или в рекламных целях.
Истина, как всегда, лежит посредине. Композиция должна быть сложна, но не настолько, чтобы ее нельзя было осмыслить и воспринять. Она должна быть проста, но не настолько, чтобы для ее восприятия не надо было затрачивать никаких усилий. Она должна содержать в себе некую «тайну» и в то же время открыто предлагать ключ для ее расшифровки. Значимая, глубокая метафора, но не бессмысленный, не имеющий решения ребус. Иными словами, элементов должно быть достаточно много для того, чтобы композиция была информативной, то есть могла о многом рассказать, вызвать сложные, глубокие ассоциации. В то же время эти элементы должны быть сгруппированы таким образом, чтобы структура целого была ясно воспринимаемой, а значит, достаточно простой, то есть состоящей из небольшого числа частей. Тогда процесс восприятия превращается в многоступенчатую процедуру, в ходе которой зритель открывает для себя все новые детали и пространственные отношения. Однако по мере этого внутреннего развертывания или «считывания» композиции он на каждом этапе соотносит новые впечатления со структурой целого, постепенно уточняя ее для себя. Таким образом, происходит постоянное внутреннее движение от целого к детали и обратно. Архитектурная мелодия ширится и обрастает все новыми звуками, меняется, оставаясь узнаваемой.

Ритмический повтор в архитектуре японской пагоды
Вид на старое здание Библиотеки имени В. И. Ленина (бывший дом Пашкова) хорошо открывается с Большого Каменного моста через Москву-реку. Сначала бросается в глаза легкий, летящий силуэт замечательной постройки зодчего Василия Ивановича Баженова — центральный объем и два симметричных боковых флигеля. Затем внимание переходит на высокий цоколь и два боковых, подобных ему, но опущенных на этаж ниже, что подчеркивает трехчастную структуру осевой композиции. Потом мы снова и снова прочитываем ее, соотнося изящный бельведер, венчающий основной объем, с фронтонами завершения боковых флигелей, богато декорированный пилястрами фасад центральной части и гладкие рустованные стенки с более скромными проемами по бокам, наконец, украшенную вазами балюстраду над карнизом главного объема с лишенными украшений балюстрадами цоколя. Торжественно развернутая в сторону реки композиция в то же время устремлена вверх, и, вглядываясь в нее, мы обнаруживаем, что каждая деталь обретает свой истинный смысл, свое особенное место, как один из элементов этого сложного перекрестного движения.
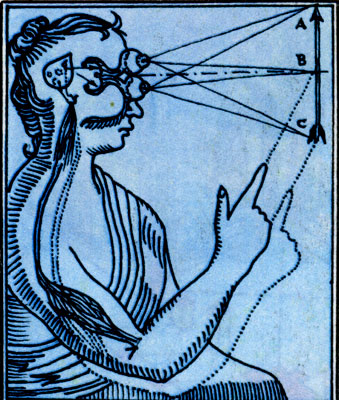
Зрение
Как достигается такое неспокойное, но тонко сбалансированное равновесие, имя которому — гармония? Задача архитектора в этом отношении особенно сложна и специфична. Ведь живописец, композитор, писатель, да и любой художник, работающий в области «чистого» искусства, по сути дела, полностью свободен в выборе элементов, составляющих композицию. Тогда как архитектор должен исходить и из того конкретного множества элементов, которое в значительной мере предопределено функциональным содержанием и конструкцией сооружения. Причем всякая функциональная технология и особенно всякая конструкция по самой своей природе предусматривает определенный стандарт — повторяемость большого числа однотипных деталей. И в этом кроется очень важная тонкость творческой работы зодчего.
ПОКОЙ И СИММЕТРИЯ
Собственно говоря, повторяемость лежит не только в природе строительной конструкции, но и в самой конструкции природы. Мы живем в стандартном мире, состоящем из «типовых» кирпичиков — молекул, атомов, элементарных частиц, из «типовых» организмов, составляющих виды животного и растительного мира, наконец, из «типовых» событий, связанных с суточным, лунным, солнечным циклами. Повторяющийся, регулярный порядок взаимного расположения объектов и явлений в пространстве и во времени лежит в основе закономерностей строения материи, всего течения нашей жизни.

Орнамент в русской архитектуре: изразцовая печь конца XVII — начала XVIII в.
Упорядоченность расположения в пространстве самым тесным образом связана с повторяемостью событий во времени. Стабильность элементарной частицы и ее отношения с другими частицами определяются устойчивой сменой динамических состояний — она колеблется, как волна. Колеблются атомные решетки и молекулы вещества, сердечная мышца человека и активность солнечного излучения. Свет и тепло, электричество и звук — это всего лишь разные формы колебательного движения. Можно сказать, что весь окружающий нас мир покоится на бесконечно повторяющемся ритмичном движении. Причем лишь малая часть этой всеохватывающей пульсации предстает перед нами в явном виде, как, например, смена времен года, — в большинстве случаев она недоступна непосредственному восприятию и выступает на поверхность в парадоксальной скрытой форме пространственного порядка, симметрии. В этом глубокая философия жизни — движение, колебание является формулой покоя, покой — отражением движения.

Церковь Спаса на сенях. Ростов Великий. Фрагмент интерьера
Биение сердца, мерный ритм ударов, отбиваемых метрономом, наконец, музыка — сложное чередование звуков во времени. Ритмические повторы живут внутри музыки — не случайно под музыку легко синхронизировать движения в пешем строю, в танце, в работе. Все это примеры динамического временного ритма. Восприятие музыкальной мелодии строится на эффекте временного ряда. Мы слышим не только звук, который звучит в данный момент, но и след звука, который только что отзвучал. Более того, мы как бы предугадываем, ожидаем, мысленно слышим рождение еще не существующего звука, который прозвучит в следующее мгновение. Наше сознание соединяет эту череду моментальных статических состояний в непрерывное целое музыкального движения.

Церковь Богоявления в Ярославле. Фрагмент фасада
Пластическое искусство танца развивается не только во времени, но и в пространстве. Можно сказать, что танец дает зримую пространственную интерпретацию музыкального ритма. Та же непрерывность развития во времени, тот же «кинематографический» эффект мысленного объединения, слияния отдельных элементов — танцевальных па в непрерывный пластический рисунок танца. Каждое из этих па — своего рода пространственная мизансцена, определенное расположение фигур или характерных поз в пространстве. И если о «пространстве» музыкального произведения можно говорить лишь условно, то для танца оно составляет физическую реальность, вне которой он не существует. Поэтому ритм танца — пространственно-временной. Пространственный, потому что состоит из пространственных элементов. Временной, потому что развивается во времени.

Покой и симметрия
Зачем понадобилось это обращение к музыке, танцу? Они помогут нам уяснить, как воспринимается архитектура. Действительно, давайте представим себе танцевальное па, моментальную фотографию танцевального движения. Это и есть отдельная пространственная мизансцена, искусственно вынутая из контекста танца. Сама по себе она статична, но разве она не передает нам ту динамику движения, которая осталась за узкими временными рамками запечатленного момента? Разве, глядя на нее, мы не осмысливаем предыдущее движение и то, которое состоится в следующий момент? Разве не восстанавливаем мы внутренне все фазы движения, заключенного в этой статике, почти так же достоверно, как рапидная съемка такт за тактом воспроизводит движения легкоатлета или теннисиста.
Снова диалектика: с одной стороны — это не больше чем чередование статичных пространственных картин, но с другой стороны, каждая такая картина не исчерпывается статическим описанием конкретного пространственного состояния. Она еще несет определенную информацию о непрерывном движении целого, которое присутствует «за кадром», так сказать, в скрытой форме. Так, голография воспроизводит целое по изображению его части. Аналогия с голографией нам еще пригодится в дальнейшем, а пока задержимся на мысли о скрытом движении. Именно оно дает ключ к пониманию того, как человек «читает» архитектуру.

Бело-красно-черные ящерицы. Морис Эшер
Глядя на линию, изображенную на листе бумаги, едва ли кто-нибудь вспоминает о том, что в геометрии линия определяется как след движущейся точки. Но, следя за линией, глаз воспроизводит это запечатленное в линии скрытое движение, оценивает его характеристики. Он монотонно и легко движется по прямой или с некоторым усилием преодолевает крутой поворот кривой. Линия — это пересечение поверхностей, внешних граней предмета. Это контур или абрис трехмерного объекта, то, что при взгляде на него прежде всего фиксируется наблюдателем. Как это удивительно точно сказано — бросается в глаза!
Каждый зигзаг или слом этой линии (контур — это чаще всего ломаная линия) не просто делит ее на отрезки или элементы, но фиксирует конец одного этапа мысленного «движения» и начало другого, создавая своего рода интервал. Количество и последовательность таких интервалов определяют те усилия, которые мы, не подозревая об этом, затрачиваем на восприятие пространственной формы.
Представим себе прямоугольник. Две пары равных параллельных отрезков. Чтобы обозначить на схеме механизм пространственного восприятия этой элементарной формы, надо изобразить прямоугольник разомкнутым в углах, то есть там, где происходят изменения в направлении скрытого движения. Нетрудно заметить, что элементы этого контура попарно идентичны, а интервалы следуют друг за другом в определенном порядке. Образуется ритмический повтор. Этот элемент сходства, повторяемости облегчает работу восприятия, создает неосознанный эффект комфорта где-то в глубинах человеческой психики, на базе которого столь же неосознанно формируется положительная эмоция. Вот почему форма прямоугольника интуитивно кажется нам «правильной», а наше изворотливое сознание подыскивает для этого рациональные аргументы.
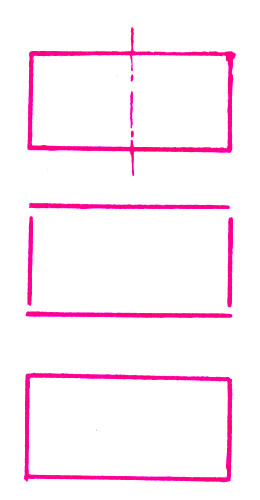
Прямоугольники
Итак, в нашем примере с прямоугольником пространственное восприятие формы основано на ритме. Но этот ритм уже чисто пространственный в отличие от временного ритма музыки и пространственно-временного ритма танца. Время присутствует здесь лишь условно, так сказать, в снятой форме. Оно как бы растворено, разлито в пространстве как неизмеримая характеристика скрытого движения. Если теперь, несколько забегая вперед, заменить примитивный плоский прямоугольник трехмерным и несравненно более сложными архитектурными объемами, то суть происходящего в принципе не изменится. Вот почему, когда архитектуру называют застывшей музыкой, это не только красивая метафора, но в некотором отношении вполне содержательное и точное определение.
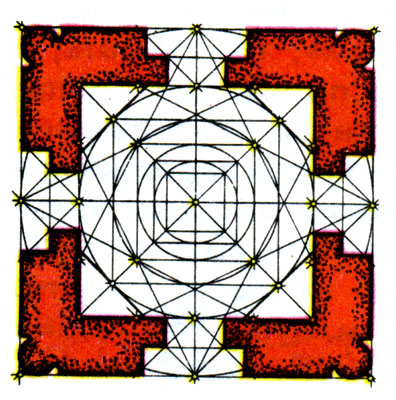
Мавзолей Саманидов в Бухаре. Схема пропорций по П. Захидову
Но вернемся к нашему прямоугольнику. Проведем осевую линию через середину двух противоположных сторон и «сложим» его по этой оси. Обе половины совпадут друг с другом. Фигуру, с которой можно проделать такую операцию, называют симметричной относительно некоторой оси, которую называют осью симметрии.
Симметрия широко распространена в природе, она отражает ту самую упорядоченную повторяемость физического мира, о которой говорилось выше. Симметрия господствует в застывшем мире кристаллов и в непрерывно меняющемся мире живого. Симметрична не только снежинка, но и лист, и цветок яблони. Симметричен, в конце концов, и сам человек. Представление о симметрии — это больше, чем одно из объективных свойств реальности. Оно является также одним из основных инструментов познания этой реальности человеком. Известный немецкий математик Герман Вейль сказал по этому поводу с лаконизмом, свойственным его научной специальности: «Насколько я могу судить, все априорные утверждения физики имеют своим источником симметрию». Принцип симметрии используется как матрица, своего рода мерка, которую наука прикладывает к непонятным явлениям действительности, чтобы изучить их природу. При этом важно не только то, что в результате такое предположение часто оправдывает себя, и мы действительно обнаруживаем симметрию в природе вещей. Не менее важно и то, что факты нарушения принципа симметрии заставляют нас ставить фундаментальные вопросы о строении мира и находить на них ответы.
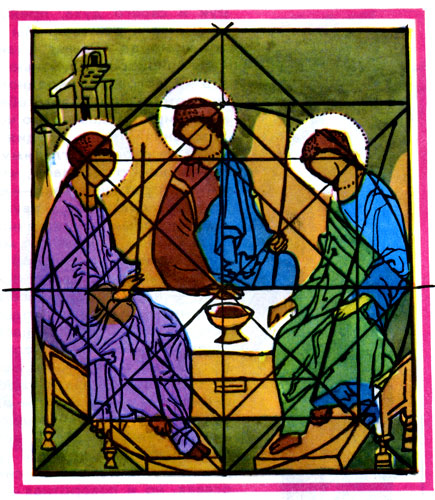
Схема пропорций. Андрей Рублев
Неудивительно, что человек издавна переносит представления о симметрии на многие творения своих рук и своего духа, прежде всего на произведения искусства и ремесел. Мы уже говорили о ритмической природе музыки и танца. Узоры симметрии живут полнокровной жизнью в музыке гениального Баха и в хореографии народного танца. Пространственная симметрия подчиняет себе большую часть предметного мира, создаваемого человеком. Мебель, одежда, домашняя утварь, орудия труда и украшения — все несет на себе неизгладимую печать симметрии.
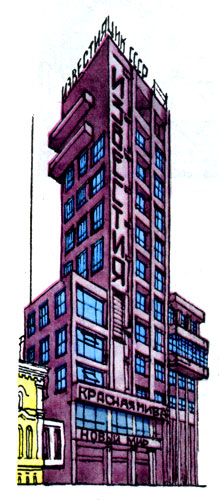
Проект здания издательства «Известия». Архитекторы Г. Б. Бархин, М. Г. Бархин, 1925 г.
Мы как-то забываем, что сам уникальный оптический аппарат человека — его зрение — работает по принципу совмещения двух отображений одного предмета, которые симметрично проецируются на сетчатку глаз. Ученые назвали этот механизм зрения бинокулярным. Наше бинокулярное зрение в некотором роде симметрично по своей природе. Вдумайтесь в этот факт — наше сознание все время складывает две симметричные картины в одну! Может быть, в этом и есть первопричина той настойчивости, с которой глаз ищет симметрию, и того удовлетворения, которое издавна доставляют нам модели симметричных форм.
Наиболее наглядное проявление пространственной симметрии в искусстве — орнамент. Разглядывая причудливые рисунки народной ткани, ковра, каменной или деревянной резьбы, вступаешь в бескрайнее царство симметрии, которое удивляет буквально на каждом шагу. Оказывается, симметрия бывает не только осевая, но и поворотная — ее можно получить поворотом изображения вокруг воображаемой оси. Примерами поворотной симметрии могут служить детская вертушка или гребной винт судна. Особый вид симметрии — трансляция, или параллельный перенос. Это повторяемость одного и того же изображения в пространстве через определенное расстояние. Такова симметрия паркетного пола, кирпичного мощения, узора на обоях. Возможны и сочетания разных видов симметрии. Соединение трансляции с поворотом дает, например, сложную симметрию винтовой лестницы.

Афинский Акрополь. Схема реконструкции
Бесконечное разнообразие симметричных построений демонстрирует подобный узорам калейдоскопа геометрический орнамент Средней Азии — так называемый гирих. Голландский художник Морис Эшер в своих оригинальных, ни на что не похожих картинах-головоломках с необыкновенной изобретательностью использует эффекты симметрии. Не правда ли, плотно сплетенные друг с другом изображения белых, красных и черных ящериц, которые заполняют без остатка всю плоскость картины, воспринимаются как своеобразный гимн всепроникающей симметрии.
Здесь самое время извиниться перед читателем за этот затянувшийся экскурс в область общих представлений о ритме и симметрии. Зато теперь мы лучше подготовлены к тому, чтобы вернуться к оставленной на время главной теме — архитектурной форме.
РИТМ, РИТМ, РИТМ
Итак, восприятие архитектурной формы строится на скрытом движении. Элемент повторяемости, сходства облегчает восприятие правильной формы. Неправильная, случайная форма обманывает инерцию пространственного мышления и заставляет тратить на восприятие больше усилий. Не случайно при всем разнообразии архитектурных сооружений они почти всегда имеют в своей основе объем правильной геометрической формы. Призма, пирамида, конус, часть шара, параллелепипед. К этому можно добавить, пожалуй, лишь правильные многогранники как переходную форму между прямоугольниками и кругами, например «восьмерик на четверике» в шатровых деревянных церквах русского Севера.
Любой памятник архитектуры представляет собой то или иное сочетание этих простых геометрических тел. Торжественно-легкая и богатая композиция дома Пашкова (здание Библиотеки имени В. И. Ленина) в Москве, которую мы уже упоминали как пример замечательного искусства Василия Баженова, имеет в своей основе комбинацию двух призм, двух цилиндров и, конечно, нескольких параллелепипедов. «Конечно» потому, что параллелепипед — самая простая, удобная и оттого излюбленная архитектурная форма.
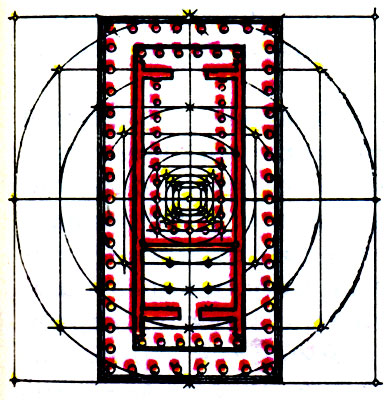
Парфенон. Схема пропорций плана
Параллелепипед образует основной объем античного храма и римской базилики. Два врезанных друг в друга под прямым углом параллелепипеда лежат в основе композиции средневекового собора да и вообще практически всех христианских церквей более позднего времени. Палаццо итальянского Возрождения и дворцовые комплексы классицизма — это тоже за малым исключением вариации на тему параллелепипеда. Современная архитектура отнюдь не выдумала, но лишь вывела наружу, сделала очевидной эту прямоугольную, геометрическую основу пространственной композиции архитектуры. В этом смысле несколько презрительное наименование дома-«коробки» можно было бы, пожалуй, отнести не только к опытам современной архитектуры, но и ко многим шедеврам мирового зодчества. Однако не будем с этим спешить.
Действительно, едва ли у кого-нибудь повернется язык назвать античный храм домом-«коробкой». Хотя, по сути дела, это нехитрая комбинация коробки-параллелепипеда, составляющего основной объем целлы с сильно усеченной пирамидой основания — стилобата, на котором он стоит, и венчающей его призмы кровли. Эта комбинация объемов является канонической, то есть абсолютно обязательной для античного храма, она воспроизводится в десятках и сотнях построек, в тысячах подражаний. Однако во всех этих постройках коробка параллелепипеда служит лишь самой общей ритмической основой восприятия гораздо более сложно деталированной композиции, в которой многократно повторяются и на все лады варьируются простые отношения, заложенные в правильной форме общей архитектурной массы.

Архитектурное решение стоечно-балочной конструкции: в архитектуре Китая; в
архитектуре Передней Азии
Главной темой ритмического повтора становится колоннада. Помните застывший хоровод каменных глыб доисторического кромлеха? То же самое остановленное движение явственно ощущается в колоннаде. Иногда язык, сама конструкция словосочетаний помогают глубже проникнуть в наши собственные ощущения. В слове «хоровод» ощутимо сливаются стройное звучание хоровой песни и ритмический строй танцевального движения. Точно так же не случайно мы употребляем выражение «шаг колонн». Они словно бы шагают, движутся, когда глаз переходит с одной колонны на другую, пытаясь соотнести их друг с другом и с объемом целого. Этот эффект еще более усиливается движением самого наблюдателя. Проходя вдоль портика, ощущаешь иллюзию движения самих колонн. Они медленно проплывают мимо, непрерывно меняя свое положение по отношению друг к другу, подобно тому как «бегут» телеграфные столбы в окне движущегося поезда.

Капелла Пацци во Флоренции. Архитектор Ф. Брунеллески
Известный французский исследователь античной архитектуры Огюст Шуази анализирует расстановку и особенности композиции храмов афинского Акрополя, исходя из особенностей организации «панафинейской» процессии, поднимавшейся на священный холм по особо торжественным случаям. Заманчиво представить себе это неспешное шествие людей, наполняющее и словно оживляющее своим размеренным движением скрытое движение колоннад. Аналогия с доисторическим кромлехом сохраняет свою силу. И там нетрудно вообразить ритуальный проход или пляску, как бы приводящую в движение каменную круговую колоннаду. Но как велики различия! Как отличается размеренный шаг геометрически правильных, тщательно моделированных античных колонн от «пляски» монолитных, грубо обработанных каменных блоков кромлеха. Право, не меньше, чем сами греки — философы, воины, спортсмены — от суровых и суеверных охотников каменного века. Как мелодия, где основным ритмическим элементом служит сложное созвучие аккорда, отличается от незамысловатого чередования простых звуков.
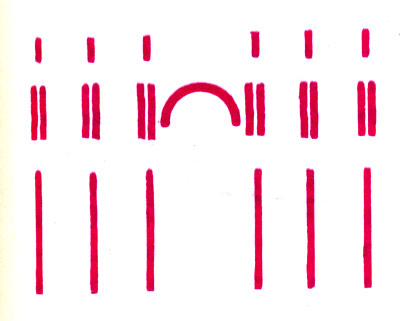
Капелла Пацци. Схема ритмического построения
Не случайно само количество колонн на главном фасаде античного храма. Иногда их всего четыре — это минимум, необходимый для передачи динамической последовательности ритма. Чаще всего — шесть: в шестиколонном портике ритмическая закономерность обретает особую убедительность и не утомляет излишним повтором. И лишь когда необходимо создать нечто особенно величественное, из ряда вон выходящее, применяется восемь колонн, как мы видим это в Парфеноне. Число колонн на боковом фасаде храма не играет особой роли для наблюдателя — их просто много (в Парфеноне, например, семнадцать). Иное дело — колонны главного фасада. Они образуют ведущую тему, выделенную из непрерывно длящегося ритма кругового периптера, и потому их количество четко фиксировано. Эти шесть или восемь колонн как бы персонифицированы, каждая из них воспринимается как самостоятельный элемент ритмического повтора.
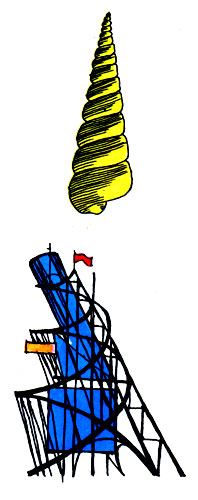
Проект Башни III Интернационала. В. Татлин. 1918 г.
Психологи утверждают, что при единовременном мгновенном восприятии объекта человек различает, как правило, около семи отдельных элементов множества, находящегося в поле его зрения. Точнее, 7±2 элемента. Вообще, «магическая» семерка, по-видимому, неспроста так часто фигурирует в мифах и народных преданиях — она отмечает ту грань множественности, при которой еще не стираются, не теряют своего значения для целого уникальные свойства и индивидуальные особенности элемента. Число 7 и сегодня специалисты считают предельным для численности творческого коллектива, где индивидуальный вклад каждого не растворяется во множественности целого.
Древние греки никогда не делали нечетного числа колонн на главном фасаде храма — иначе по оси центрального входного проема стояла бы колонна. Если иметь в виду это обстоятельство, то 6 и 8 — максимально приближенные к «магической» семерке значения и к тому же единственно возможные в формуле 7±2. Античный зодчий интуитивно стремится ограничить ритмический повтор колоннады пределами дифференцированного, раздельного восприятия элементов множества. Это делает главную ритмическую тему храма особо значимой и запоминающейся.
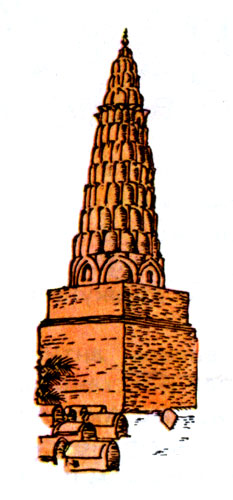
Башня Шах-Шибаб в Багдаде, XIII в.
Ритм колонн главного фасада многократно усилен соподчиненными ему ритмическими повторами других деталей ордера. По оси каждой колонны установлены массивные выступающие блоки триглифов. Но важная деталь — точно такие же триглифы стоят и по осям интерколумниев — промежутков, разделяющих колонны. Таким образом, вместе с расположенными между ними плитами — метопами — они образуют непрерывный ритмический мотив, связующий и смягчающий четко артикулированные, раздельные ритмические удары колоннады. Вертикальные складки колонн — каннелюры — по-своему вторят этим мощным аккордам. Так обертоны придают глубину и особую насыщенность звучанию музыкального инструмента. Переплетаясь и вырастая один из другого, эти дополнительные ритмы придают подлинно симфоническое многоголосье и гармонический строй всему архитектурному целому.
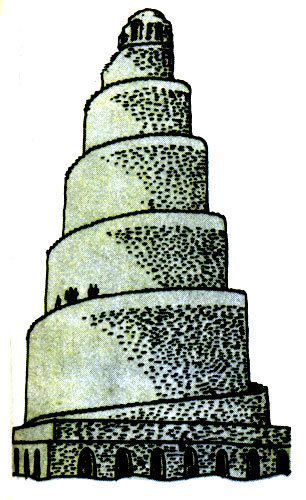
Спиральная башня в Самаре. Ирак
Советский архитектор и теоретик архитектуры М. Я. Гинзбург предложил фиксировать чередование ритмических ударов и интервалов как главную, определяющую характеристику архитектурной композиции с помощью своеобразной стенографической транскрипции, состоящей из вертикальных и горизонтальных черточек. В такой условной записи можно представить не только сравнительно простое ритмическое построение античного храма, но и композицию любого сколь угодно сложного сооружения. При всей условности этой ритмо-стенографии она позволяет, как считал М. Гинзбург, выявить «зародыши того чувственного воздействия, которое производит ритм самого архитектурного памятника».
Если попытаться с помощью такого рода записи представить фасад современного многоэтажного жилого дома, то придется изобразить что-то вроде точечной перфорации, фиксирующей равномерное распределение оконных проемов на лишенной каких-либо членений стене. Ясно, что такая «композиция» производит гнетущее впечатление чистого листа бумаги, ровного поля, лишенного ориентиров и границ. Целое в ней абсолютно не соотносится с анонимными элементами, число которых не ограничено ни возможностями восприятия, ни внутренней динамикой ритмического строя. Унылый речитатив без конца и начала, который не содержит никакого развития и не ведет ни к какой кульминации.
Не в этом ли причина интуитивного протеста, который вызывает дом-«коробка»? Он не дает никакой работы нашему пространственному воображению, не порождает новых ассоциаций или ожиданий. Все в нем ясно с первого взгляда, как в монотонном рокоте машинного двигателя. Может быть, именно стремлением нарушить этот «белый шум», этот архитектурный заговор молчания, привлечь внимание, наконец, даже развлечь объясняется секрет неумирающей тяги к классической ретроспекции. Если не создать, то хотя бы изобразить на гладкой поверхности «коробки» сложные ритмические отношения, имитирующие несуществующую, вымышленную игру архитектурных сил.

Вавилонская башня (вариант реконструкции)
К сожалению, архитектура не приемлет таких простых и поверхностных решений — польза и прочность, как мы видели, строго контролируют капризные запросы красоты. Борьба с однообразием, монотонностью остается одной из главных проблем современной архитектуры, и нам еще предстоит порассуждать в книге о возможных путях ее решения. А сейчас продолжим беседу о художественном языке архитектуры. Усвоив азы архитектурной грамматики, попробуем углубиться в нее несколько дальше.
МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ БЕЗ МОНУМЕНТОВ
Из предыдущей главы читателю уже известно о драматическом противоборстве вертикальных и горизонтальных сил, порождающем архитектурную тектонику. Эта коллизия наглядно выражается в ритмическом построении архитектурной формы. В архитектуре античного храма сильные горизонтальные линии не только контрастируют, но и более полно выявляют, подчеркивают ритмический порыв вертикальных колонн. Уже упоминавшийся исследователь архитектурного ритма М. Гинзбург приводит любопытное графическое сопоставление. Посмотрите на схематическое изображение ритма колонн без линий основания и завершения. Сравните его с таким же изображением, дополненным недостающими горизонталями. Насколько богаче, острее и законченнее зрительное впечатление во втором случае.
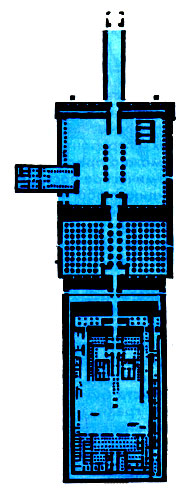
Храм Амона в Карнаке. Древний Египет
В каждом архитектурном произведении живет это взаимодополняющее противоборство и единство вертикали и горизонтали. Нерасчлененный массив египетской пирамиды дает только первую, самую надежную, но и самую примитивную версию разрешения этого извечного конфликта. Сходная идея монотонного убывания массы сооружения кверху лежит в основе ступенчатой композиции легендарной вавилонской башни — зиккурата. Много столетий спустя архитектура неожиданно вернулась к этой идее в динамической спирали неосуществленного, но тоже вошедшего в легенду проекта Башни III Интернационала советского художника Владимира Татлина, а затем в не менее легендарном и тоже неосуществленном проекте Дворца Советов в Москве архитекторов Б. Иофана, В. Шуко и В. Гельфрейха. Дерзкая устремленность ввысь сооружения, стоящего на земле, была особенно созвучна духу революционного преобразования в молодой стране победившего социализма. И она же вела фантазию зодчих на поиск решений, лежащих на пределе технических возможностей строительства, а то и выводила авторский замысел за грань реальности, оставляя его навсегда прикованным к бумаге.

Адмиралтейство в Ленинграде
Наклонные линии фронтона античного храма предлагают совсем иную, чем пирамида, — гораздо более рациональную и спокойную, но в то же время особенно утонченную форму завершения диалога вертикали и горизонтали. Осевое расположение фронтона четко завершает симметричное построение фасада и придает композиции единство целого. Взаимное переплетение вертикальных и горизонтальных ритмических повторов, охватывающее всю массу архитектурного сооружения, получает естественную кульминацию. Уникальное умение античного зодчего преодолеть «стоячие волны» им же созданного архитектурного ритма, остановить мгновение и дать возможность увидеть сразу все целое, словно при вспышке молнии, позволяет особенно остро ощутить скрытую динамику и богатство отношений архитектурных форм.

Соловецкий монастырь
Скульптурное заполнение плоскости фронтона лишь подчеркивает и разъясняет его архитектурный смысл. По краям расположены статичные, горизонтально лежащие фигуры. В промежутках, ближе к середине, словно демонстрируя противоборство вертикальных и горизонтальных сил, — полулежащие и согнутые фигуры в динамичных позах борьбы с преобладанием диагональных направлений. И наконец, по главной оси — группа вертикально стоящих фигур, выражающих статическую силу преодоления ритма.

Крепость Арк в Бухаре
Нам приходится так часто возвращаться к анализу архитектурных форм античного храма не только потому, что они многократно транслируются, повторяются во всей последующей истории архитектуры, но еще и потому, что именно в них наиболее полно и наглядно проявляется одна из вечных проблем зодчества — проблема соотношения статического и динамического, устойчивости и движения в развитии форм. В разрешении этой проблемы кроется то качество архитектуры, которое называют монументальностью, то есть та фиксированная остановка скрытого движения ритмов, их подчинение устойчивой симметрии целого, о которых говорилось выше. Средства достижения эффекта монументальности различны и многообразны. Это прежде всего физические размеры, массивность самого сооружения. Большой храм Амона в Карнаке достигал в длину 750 метров. Главный фасад Адмиралтейства в Петербурге тянется на 407 метров. А высота стоящего неподалеку Исаакиевского собора — 101 метр. При таких грандиозных размерах монументальность, кажется, гарантирована. Но, оказывается, не во всех случаях.

Соборная площадь в Московском Кремле
Например, Исаакиевский собор кажется несколько меньше, чем он есть на самом деле. Причина в том, что детали сооружения, привычно соотносимые с размерами человека — окна, двери, элементы классического ордера, — выполнены преувеличенно большого размера, а их соотношение с целым — такое же, как и у гораздо меньших по габаритам обычных зданий классического стиля. Механизм пространственного восприятия человека удивительно адаптируется к хорошо знакомым формам. Тот, кто побывает в Доме учителя в Ленинграде (бывший дворец Юсупова), может увидеть знаменитый домашний театр. Классическая форма ярусного зала, центральной ложи и портала сцены, красный бархат обивки и золотые украшения создают эффект настоящего театра и заставляют забыть о том, что этот удивительный зал не имеет и дюжины метров в ширину. В данном случае мастерство архитектора, умело сократившего размеры деталей, но сохранившего их привычные соотношения, сознательно направлено на искажение масштаба — он хотел заставить маленькое сооружение казаться большим.

Меншикова башня в Москве
Искусственное завышение размеров детали приводит к обратному результату — сооружение выглядит как собственная копия уменьшенного размера, происходит то, что можно назвать потерей архитектурного масштаба. Так и получилось с Исаакиевским собором. Подобной участи не удалось избежать даже такой замечательной постройке, как собор св. Петра в Риме. Значит, эффект монументальности достигается лишь тогда, когда грандиозность абсолютных размеров целого умело подчеркнута мелко расчлененными, соразмерными человеку деталями.

Колокольня Новодевичьего монастыря
Еще один испытанный прием придания монументальности архитектурной композиции — включение в нее доминирующей вертикали, которая берет на себя роль своеобразного статического центра. Само слово «монументальность» имеет своим корнем «монумент» — памятник на площади, становящийся средоточием архитектурной композиции. Однако часто эту функцию берет на себя сама архитектура. Архитектурная вертикаль — шпиль, башня, колокольня — обладает уникальным свойством концентрировать внимание на себе, придавать статическую уравновешенность и спокойствие окружающим ее строениям и пейзажу. На память легко приходит колокольня Ивана Великого, доминирующая в сложной композиции Московского Кремля; кампанила, которая выполняет аналогичную роль на площади Св. Марка в Венеции; Александровская колонна на Дворцовой площади в Ленинграде. Правда, во всех случаях речь идет не столько об отдельных архитектурных сооружениях, сколько об архитектурных ансамблях, но тем сложнее добиться преодоления и статического примирения ритмического разнообразия сразу нескольких, часто несходных между собой архитектурных произведений в единой монументальной композиции.
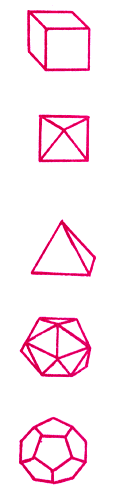
Пять правильных («Платоновых») тел, известных древним грекам, — куб, октаэдр,
тетраэдр, икосаэдр, додекаэдр
И все-таки в случае с античным храмом эффект монументальности имеет совершенно особое происхождение. Он достигается не увеличением абсолютных размеров сооружения, и не искусственной размельченностью деталировки, и не доминированием статичной вертикали, хотя древнегреческим зодчим были достаточно хорошо известны все эти приемы. Монументальность античного храма является прежде всего результатом точно сбалансированных в пользу горизонтали отношений между горизонтальными и вертикальными частями здания. Массивный антаблемент надежно останавливает вертикальный порыв колонн, который напоминает о себе пунктиром триглифов, чтобы потом послушно угаснуть в примиряющем треугольнике фронтона.
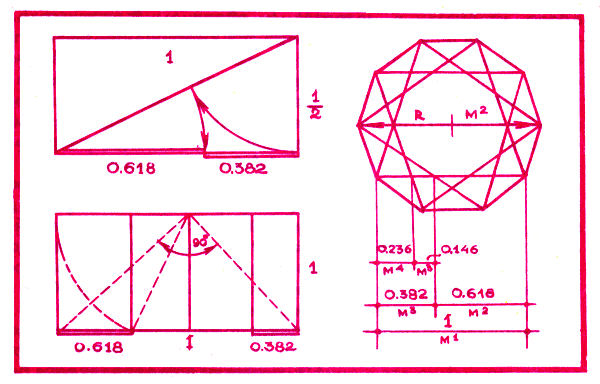
Построения золотого сечения
Однако античные зодчие умели необыкновенно тонко варьировать отношения вертикальных и горизонтальных ритмов. Храм Посейдона в Пестуме, например, смотрится гораздо монументальнее, приземистее и мощнее, чем торжественный, но стройный Парфенон, хотя по времени строительства их разделяет всего четверть века. Кажется непостижимым, как, оставаясь в рамках жесткого канона ордерной системы, можно добиться столь разных по характеру эмоционального воздействия архитектурных композиций.
Существует распространенное мнение о том, что раньше архитектор не был скован в своем творчестве ограничениями функционально-технологического, конструктивного и экономического характера так жестко, как сейчас, в эпоху индустриального строительства. Это неверно — дисциплина такого рода в архитектуре существовала всегда и порой была не менее строгой, чем сегодня. Не говоря уже о «типовых» стандартах деревенского и городского жилого дома, вспомним о том, что, по сути дела, все церковные постройки имели крестовый план со сводчатым или купольным покрытием. А какое ни с чем не сравнимое разнообразие дала миру архитектура в рамках жесткого стандарта! Это относится к подавляющему большинству типов общественных сооружений, которые в архитектуре прошлого были выражены не менее, а подчас и более определенно, чем в современной.
Но пример с античным храмом удивляет даже на этом фоне — здесь возможности, которые имеет архитектор для создания художественного своеобразия, кажутся обуженными до предела. Традиционный ритуал священнодействия диктует вполне определенный стереотипный план здания. Единственно возможная конструктивная схема задает сравнительно узкий диапазон его физических размеров. Набор архитектурных элементов и канонический порядок их соподчинения внутри целого однозначно определен ордером. Слово «ордер» в переводе на русский означает порядок. Порядок, который нельзя нарушить. В руках зодчего всего одна возможность — варьировать размеры элементов сооружения по отношению друг к другу и к целому. К тому же это можно делать с оглядкой на свойства достаточно капризного строительного материала.
То, как блистательно была использована эта, казалось бы, ничтожная возможность, — великий вызов архитектурному творчеству всех времен и народов, который оставила после себя архитектурная классика античности. В том числе и архитектуре нашего времени.
МАГИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ
Необычайная художественная сила и выразительность античной архитектуры породила устойчивый интерес потомков к тем правилам и методам, руководствуясь которыми создавали свои шедевры зодчие Древней Греции. Такой интерес проявляли уже римляне, которые изучали и систематизировали дошедшие до них сведения об архитектурном кодексе античных зодчих. С новой силой этот интерес пробудился в эпоху Возрождения, когда архитектура вновь обратилась к античным образцам. В целях сохранения сравнительно выдающихся сооружений более позднего времени их стали тщательно обмерять. Наличие достоверных обмерных чертежей позволило не только объективно охарактеризовать различные архитектурные произведения, но и проводить сравнения между ними в поисках универсального «закона красоты».

Ограда
Действительно, обладали ли древние зодчие неким недоступным нам секретом, который позволил им доводить формы своих построек до совершенства музыкальной гармонии? И если такой секрет был, то в чем он состоит и как им можно воспользоваться сегодня? Эти вопросы волновали и продолжают волновать многих исследователей. И каждый из них предлагает свою версию ответа.
Некоторые исследователи исходят из того, что наиболее сложной процедурой в строительстве сооружений античности и средневековья была их разбивка в натуре. Метод такой разбивки, по мнению сторонников этой гипотезы, и является определяющим для зодчего во всей его работе. Немецкий искусствовед Э. Мессель на основе анализа большого числа памятников античной и средневековой архитектуры приходит к выводу о первичном, определяющем значении геометрии круга. Помимо того, что ее удобно использовать для правильной ориентировки здания на местности, она предоставляла широкие возможности для соблюдения жреческих обычаев и всего того, что Мессель называет космологическими спекуляциями. Так, например, по свидетельству Месселя, античные зодчие в качестве источника гармонии архитектурных построек неизменно использовали геометрические проекции пяти так называемых «Платоновых тел», отражающих в соответствии с их представлениями общую гармонию мира. Это вписанные в сферу правильные многогранники с числом граней 4, 6, 8, 12, 20.
Известно, какое мистическое значение древние придавали простым числам и их отношениям. Так называемый египетский треугольник с отношением сторон 3:4:5 — лежит в основе многих построений египетской архитектуры. Древнегреческий философ и математик Пифагор видел первопричину гармонии в простых числовых соотношениях. Такие соотношения, по-видимому, сознательно использовались античными зодчими в архитектуре не только по соображениям практического удобства измерений, но и с целью воспроизведения извечной гармонии природы, которая служила им образцом для подражания.
Разумеется, им были известны как числовые соотношения, так и скрытые за ними геометрические фигуры. Тем более что уже первые исследования показали; законы античного зодчества несводимы к отношениям рациональных чисел. Э. Мессель, в частности, особо выделяет пропорции, основанные на вписанном в окружность правильном десятиугольнике. Отношение радиуса окружности к стороне многоугольника выражается иррациональным числом (√5+1)/2=1,61 8 и дает пропорцию так называемого «золотого сечения». Та же пропорция может быть получена путем геометрического построения на базе сдвоенного квадрата-прямоугольника, в котором стороны соотносятся, как √2:1. Золотое сечение обладает одной замечательной особенностью: если представить его в виде отношения двух отрезков, то больший относится к меньшему точно так же, как их сумма — к большему. (В математике это называется делением отрезка в среднем и крайнем отношении.) Нетрудно убедиться в том, что отношения золотого сечения позволяют получить бесконечный пропорциональный ряд, в котором каждый член есть сумма двух предыдущих. Причем эта сумма относится к большему слагаемому точно так же, как большее слагаемое — к меньшему. Внимание, читатель! Части относятся между собой точно так же, как целое относится к части. Как заманчиво увидеть в этом неподвластную времени формулу красоты.
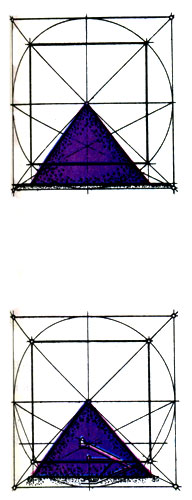
Пирамида Хеопса. Система пропорций фасада и разреза (вариант)
А ведь это только одно из проявлений замечательных свойств золотого сечения. Вот другое — если взять три отрезка, связанные отношениями золотого сечения, то квадрат со стороной, равной среднему отрезку, имеет ту же самую площадь, что и прямоугольник, сторонами которого служат крайние отрезки. Неравенство линейных отрезков, связанных между собой равенством площадей. Кажется, золотое сечение открывает гармонию почти автоматически, буквально на каждом шагу, стоит только вступить в эту страну удивительных соответствий и порядка.
Когда во время раскопок в Помпеях в доме скульптора был найден пропорциональный циркуль, установленный на золотом сечении,— это был подлинный триумф сторонников «божественной пропорции». Неожиданные подтверждения универсальности отношений золотого сечения в природе приносят и новейшие научные исследования. Оказывается, эта пропорция характерна для многих творений живой природы. Более того, выясняется, что составлявшие микроструктуру органических образований молекулы живого вещества строятся на симметрии правильного двадцатигранника — одного из пяти «Платоновых тел», и, кстати сказать, самого сложного. А плоской гранью двадцатигранника является, как известно, правильный пятиугольник, геометрия которого тесно связана с десятичным делением круга и пропорцией золотого сечения. Любопытно, что симметрия неживой природы строится на основе ортогональных, «четырехугольных», решеток, к которой несводима «пятиугольная» симметрия живого. Жизнь как бы стремится избежать «окаменения», спрятаться от регулярности квадрата в «неправильность» пятиугольника. И символ этого сопротивления смерти, неподвластной времени жизненной силы — золотое сечение.

Сажень
Остается все же непонятным, в какой мере античные архитекторы осознавали золотое сечение как универсальный закон красоты, а в какой мере следовали ему чисто интуитивно, подчиняясь тому, что «приятно глазу». Ведь отношения золотого сечения находят не только в античных памятниках, но и в архитектуре других эпох, в живописи, в декоративном искусстве, и далеко не во всех этих случаях есть основания исключить случайное совпадение. К тому же не всегда внушают доверие и методы доказательства — использование большого числа вспомогательных линий и точек построения позволяет свести едва ли не любой объект к отношениям золотого сечения и его производным. Порой складывается впечатление, что с помощью такого рода ухищрений можно с равным успехом доказывать принадлежность одного и того же сооружения к совершенно различным гармоническим рядам. Поэтому, отдавая должное «божественной пропорции», к связанным с золотым сечением заманчивым, а порой и потрясающим воображение обобщениям следует относиться с определенной осторожностью.
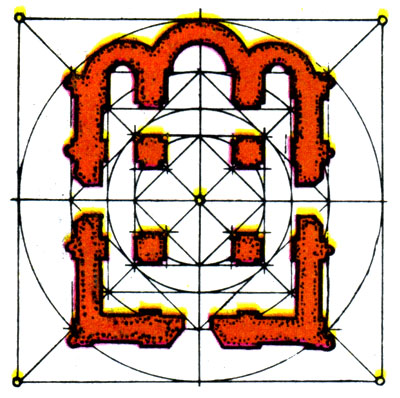
Церковь Покрова на Нерли. Схема пропорций плана (вариант)
«АНАЛОГИЯ» И МОДУЛЬ
Известно, что древние греки при возведении своих сооружений использовали так называемые «аналогии». Витрувий свидетельствует: «Композиция храмов основана на соразмерности, правила которой должны тщательно соблюдать архитекторы». Она возникает из пропорции, которая по-гречески называется «аналогия». Вокруг правильной трактовки этого понятия, как и других «темных», не до конца понятных мест, которых у Витрувия множество, его толкователи ведут ожесточенные споры. Большинство, однако, сходится на том, что слово «аналогия», помимо взаимного подобия, пропорциональности частей сооружения, обозначает также их соразмерность целому, которое определяется в уменьшенной графической модели будущей постройки. «Аналогия» в такой трактовке — это подобие современного архитектурного чертежа.
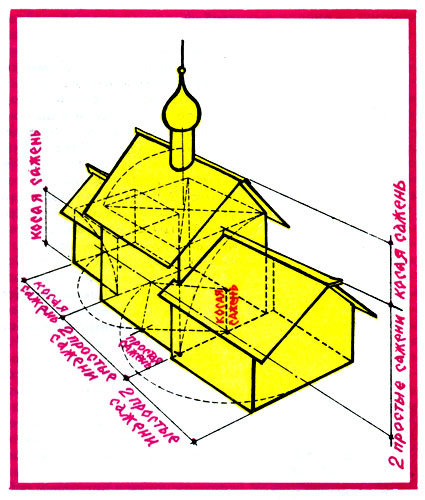
Лазаревская церковь монастыря в г. Муроме. Схема построения габаритов здания
(по А. А. Тицу)
Вот как определяет «аналогию» советский исследователь П. Ш. Захидов: «Аналогия — это прежде всего особый архитектурный чертеж, который можно построить на специальной деревянной доске, на гладко штукатуренной плоскости, на каменной плите или самое простое — на поверхности земли поблизости от места будущей постройки».
Любопытно, что своего рода «аналогии» существовали, по-видимому, и у древнерусских зодчих. Во всяком случае, именно такое назначение приписывает известный советский историк академик Б. А. Рыбаков так называемым «вавилонам». Это лабиринтообразные графические изображения нескольких квадратов или прямоугольников, последовательно вложенных друг в друга и имеющих общий центр. «Вавилоны» встречаются на кирпичах и черепице древних построек, каменных плитах, изделиях гончаров. Б. А. Рыбаков называет «вавилоны» символом зодческой мудрости, в котором зашифрованы не только отношения основных единиц древнерусской системы мер длины, но и решения главных задач средневековой геометрии сооружения, необходимых для пропорционирования его частей и его разбивки в натуре.
Как бы то ни было, но перенос размеров сооружения с чертежа-аналогии в натуру требует использования особого строительного мерила, соответствующего степени масштабного увеличения графической модели до размеров оригинала. Такое мерило можно представить в виде деревянной линейки, шеста, веревки. Длина линейки соответствует увеличенному до натуры размеру исходного линейного элемента чертежа-аналогии, по отношению к которому соблюдается кратность всех остальных размеров. По-видимому, это и есть то, что древние называли словом «модуль».
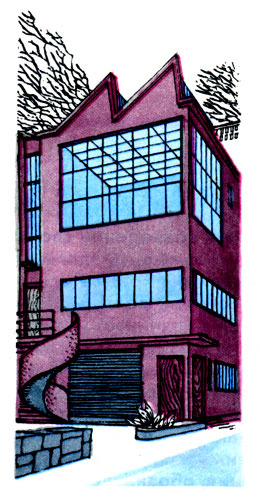
Мастерская художника. Архитекторы Корбюзье и Жаннере (Франция)
Витрувий сообщает, что на основании модуля производят вычисления всех частей постройки, однако что принимается за модуль, он не объясняет. Глухая ссылка на то, что модуль дорийского храма составляет 1/27 или 1/42 часть ширины его фасада, сама по себе мало о чем говорит. Теоретики архитектуры Возрождения разработали свою систему модульных соотношений классического архитектурного ордера, где за модуль принимается чаще всего диаметр колонны или размер триглифа. Однако это не более чем поздняя интерпретация античного ордера, который продолжает хранить свою интригующую тайну.
Зато модульность, сведение всех элементов сооружения к простым кратным отношениям, приобретает все большее значение в архитектуре, по мере того как в строительство проникают элементы промышленного производства. Модуль становится основой неизбежной стандартизации современного индустриального строительства. Это уже совсем другой модуль, чем тот, которым пользовались в классической архитектуре. Ведь что бы ни брали за модуль античные зодчие — ширину колонны, триглифа или что-либо иное, это была величина, очевидно, кратная их системе мер. А это означает, что не только сами отношения частей были созвучны пропорциям человеческого тела (например, отношение диаметра колонны к ее высоте 1:6 — такое же, как и отношение длины стопы к росту человека), но и их абсолютные размеры были, так сказать, автоматически увязаны с масштабом человека. Потому что греки, как и другие древние народы, как у нас на Руси, да и во всей Европе вплоть до XIX века, пользовались системой мер, основанных на параметрах человеческого тела (локоть, фут и т. д.).
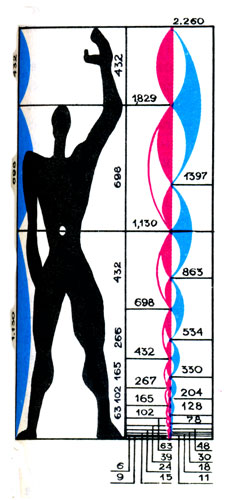
Система пропорций «Модулор» архитектора Корбюзье
С появлением метрической системы мер размеры строительных элементов и архитектурных деталей сооружения стали утрачивать живую связь с размерами человеческого тела. Длина железобетонной панели — 360, 480 или 600 сантиметров определяется не числом шагов, не размахом рук или ростом человека, а произвольно выбранным абстрактным модулем — 60 или 120 сантиметров, удобным единственно с точки зрения унификации размеров. Конечно, масштаб физических размеров человека продолжает в общем и целом определять порядок габаритов окна, двери или коридора. С другой стороны, трудно сказать, насколько важна здесь буквальная (до сантиметров) кратность этих и подобных размеров «человеческому» модулю типа размера стопы, шага или роста. Тем не менее можно констатировать, что игнорирование человеческого начала в системе унификации, принятой в современном строительстве и навязанной современной архитектуре, — своего рода дань ее общей функционалистской, техницистской ориентации. Еще раз убеждаемся, как «ослиные уши» машинной архитектуры вылезают наружу прямо посреди нашего повествования о поисках вечного закона красоты.
Как ни парадоксально, одним из первых, кто попытался внести жизнь в бездушную машинную архитектуру, оказался все тот же Корбюзье — автор печально известного лозунга «дом — машина для жилья». Не за счет отказа от современной строительной технологии, но напротив — путем гармонизации строительных размеров на основе размеров человеческого тела. Корбюзье запатентовал как оригинальное изобретение и успешно применил на практике собственную систему пропорционирования, которую назвал «Модулор».
Модулор представляет собой шкалу линейных размеров, которые отвечают трем требованиям: 1) находятся в определенных пропорциональных отношениях друг с другом, позволяют гармонизировать сооружение и его детали; 2) прямо соотносятся с размерами человеческого тела, обеспечивают тем самым человеческий масштаб архитектуры; 3) выражены в метрической системе мер и потому отвечают задачам унификации строительных изделий. При этом Корбюзье хотел соединить достоинства традиционно идущей от человека английской системы линейных мер (фут, дюйм) и более абстрактной, но и более универсальной метрической системы.
В итоге довольно сложных геометрических построений Корбюзье предложил два ряда чисел, находящихся в отношении золотого сечения. Один имеет в качестве исходного размера условный рост человека — 183 сантиметра. Это так называемая «красная» серия. Другой — высоту человека с поднятой рукой. Это так называемая «синяя» серия. Суммирующая обе серии шкала Модулора позволяет получать большое разнообразие комбинаций размеров, находящихся как в простых кратных отношениях, так и в отношениях золотого сечения.
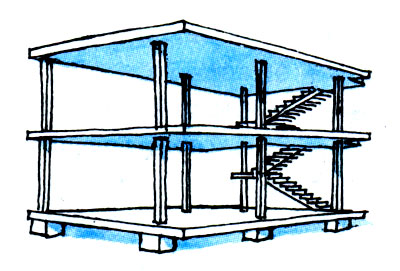
«Дом-ино». Жилые ячейки на железобетонном каркасе — предложение для
индустриального строительства, 1915 г.
Корбюзье с блеском использовал собственное изобретение. На бетонной стенке одной из наиболее известных его построек — жилого дома в Марселе — помещен рельеф, изображающий человека с поднятой левой рукой рядом со шкалой размеров Модулора. Эта эмблема с полным правом занимает свое место у подножия дома, который с начала и до конца спропорционирован на основе Модулора. Этот опыт был не менее успешно воспроизведен и в последующих произведениях мастера.
И все-таки главный вопрос остается без ответа. Чего здесь больше — Модулора или самого Корбюзье? Не мог ли создать Корбюзье свои шедевры и без Модулора? С другой стороны, почему никто иной не может, пользуясь Модулором, создать произведения, сравнимые с его шедеврами? Великий ученый Альберт Эйнштейн так прокомментировал изобретение Корбюзье: «Это система пропорций, мешающая делать плохо и помогающая делать хорошо». Сам Корбюзье сравнивал Модулор с музыкальным инструментом — каждый может пользоваться им в меру своего таланта, но таланта он не прибавляет.
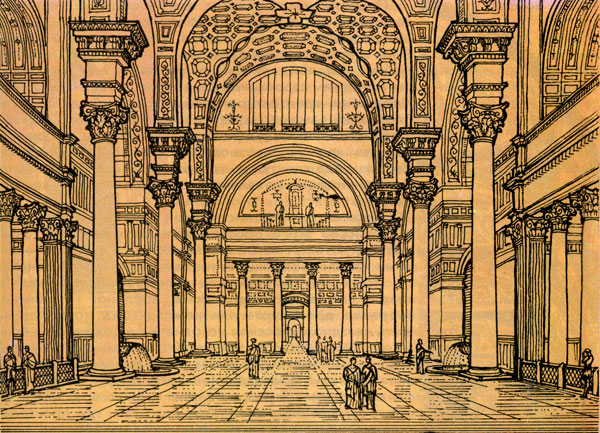
Термы Каракаллы. Древний Рим
Эти слова неожиданным образом возвращают нас к долгим поискам канона гармонии, к разгадке секретов красоты античного зодчества. Может быть, этих секретов никогда не существовало. Может быть, наши далекие предшественники и пользовались той или иной системой пропорций для упрочнения и проверки своих замыслов. Но дело вовсе не в этом подсобном инструменте, а в самих замыслах, в чувстве материала и формы, в индивидуальной одаренности, наконец. Нет таких магических чисел и соотношений, которые гарантировали бы создание архитектурного шедевра любому невежде. Как нет философского камня и вечного двигателя. Но есть великая кладовая человеческого опыта в области поисков гармонических форм архитектуры. И из этой кладовой каждому дано вынести столько, сколько он в состоянии взвалить на свои плечи, — увидеть, осмыслить, прочувствовать и в конечном счете сделать частью собственного творчества.
МУЗЫКА ПРОСТРАНСТВА
Читатель, наверное, уже обратил внимание на то, что глава о красоте несколько затянулась. Все-таки что ни говори, а красота выбивается из ряда иных понятий, связанных с архитектурой. И это не случайно. Уж очень многоликим, трудно уловимым, все время ускользающим от ясного рационального знания оказывается этот предмет. Получается, что истоки красоты приоткрываются для нас, но как-то не до конца. В самом деле, что же такое красота в архитектуре? Орнамент — и не орнамент. Ритм, но не только ритм. Пропорции — но и они не всегда решают дело. В конечном счете — все это средства. Здесь, кажется, мы наконец подходим к самому главному.
Подлинная архитектура всегда выше тех средств, которыми она пользуется. И воспринимаем мы ее не как плоскую картинку фасада, как бы хорошо она ни была спропорционирована. И не как набор архитектурных деталей, как бы ни поражали они нас своим ритмическим строем или декоративным великолепием. Подлинная архитектура начинается там, где все эти бесспорно важные и требующие искушенного мастерства в исполнении художественные приемы встроены в единую «раму» сквозного архитектурного действия. Своего рода спектакля, создающего и разрешающего драматическую коллизию пространственных впечатлений.
Архитектор — единственный автор — драматург и режиссер этого пространственного действия. Драматург, потому что он задает сюжет. Режиссер — потому что он дает конкретное воплощение этому сюжету. Искусство композитора и виртуоза-исполнителя в творчестве архитектора слито воедино. Гениальное творение драматурга или композитора может пережить не одно неудачное исполнение и дождаться в конце концов своего признания. Кто вспоминает сейчас о том, что на первом представлении провалилась чеховская «Чайка»? Произведение архитектуры «исполняется» единственный раз, и ошибка «режиссера» навсегда губит замысел «драматурга». Зато там, где пространственная идея и ее интерпретация слиты воедино, происходит великое чудо архитектурной драмы, которая столетиями не сходит с подмостков истории.
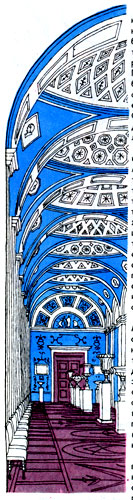
Эрмитаж в Ленинграде. Фрагмент интерьера галереи древней живописи
Таинственная мистерия древнеегипетского храма. Мерное движение по аллее сфинксов к залитым ярким солнечным светом входным пилонам. Проходя между ними, человек ощущает свое ничтожество перед вратами «дома бога», в который он вступает. Система дворов-залов, где пространство постепенно сдвигается, затесняется колоннами, словно поглощая человека, окончательно отрывая его от суетной земной жизни, оставшейся за стенами храма. И наконец, главный, гипостильный зал, где лучи света тонут в полумраке у подножия частокола массивных колонн — этого сказочного леса, за верхушками которого едва просвечивают клочки далекого и недоступного неба.
Пропилеи афинского Акрополя открывают путь на вершину священного холма по лестнице, словно опрокинутой в небо. Сначала на фоне этой синевы появляется монументальная статуя Афины — покровительницы города, затем геометрически четкий объем Парфенона. Неторопливо идешь по направлению к главному храму, и вот он, словно двинувшись навстречу, разворачивает стройные порядки своих колонн. Они захватывают, подчиняют себе человека, который почти физически ощущает сгущение пространственного поля там, где рождается архитектура, — на зыбкой грани между «внутри» и «снаружи».
Всякое искусство содержит нечто большее, чем его «материальный носитель» — роман, картина или звучащая симфония. Само по себе произведение искусства лишь тот импульс, который стимулирует работу творческого воображения читателя, зрителя, слушателя; та матрица, которая позволяет ему всякий раз по-своему воспроизвести исходное переживание художника. В этом и состоит главный смысл очищающего, облагораживающего воздействия искусства, оно заставляет каждого из нас пройти путем художника и, значит, на какое-то время стать творцом. Слушая Моцарта, каждый из нас немного Моцарт. Читая Пушкина — немного Пушкин. Помните: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». Повторяя пушкинские слова, мы поневоле находим в себе затерянные частички великой пушкинской души, снова и снова возвращаем ее к жизни и тем самым делаем ее действительно бессмертной.

Окно
Это возможно потому, что в каждом человеке дремлет несостоявшийся поэт, который пробуждается лишь на короткое время, когда он читает стихотворение. И художник и музыкант. И архитектор тоже. Ведь нас волнует не только сочетание цветов или звуков. Глядя на пейзаж, мы небезразличны к нагромождениям скал, мягким очертаниям лесистых холмов или бескрайнему простору моря. В нас говорит то, что можно назвать чувством пространства. Архитектура апеллирует к этому древнейшему чувству — вот главный секрет ее эстетического воздействия. Эта великая тайна красоты в архитектуре проста, но отнюдь не очевидна.
Часто архитектуру отождествляют с инертной массой — колонной, стеной, фасадом, а пространство понимают просто как пустое место, так сказать, «дырку от бублика». Действительно, казалось бы, пространство — это то, что расположено между стенами или снаружи его фасада. Это и так, и совсем не так. Так, потому что действительно архитектурное пространство становится осязаемым, обретает свою форму только в результате того или иного распределения массы материала в конструкции. Не так, потому что распределение этой массы в значительной степени подчинено задаче создания пространства, имеющего некоторые конкретные параметры и свойства. И в этом отношении архитектурное пространство первично, а масса является лишь средством его фиксации.
Комната — это не просто промежуток, случайно получившийся при расстановке стен. Это пространство заранее заданного размера, которое требует четырех стен для своего обособления. Как это ни парадоксально, но именно невесомое, нематериальное пространство является главным «рабочим телом» архитектуры, а массивные, непроницаемые стены всего лишь оболочкой, «одеждой» этого тела. И. В. Жолтовский говорил: чтобы хорошо нарисовать балюстраду, надо рисовать промежутки между балясинами, то есть отдельными стойками ограждения. Пустота, пространство «между» — для него вполне осязаемый предмет. Это и есть то чувство пространства, которое отличает настоящего архитектора и из которого рождается его пространственное мышление, как основа архитектурного творчества.

Ветряная мельница — раньше и теперь
Попытайтесь мысленно уничтожить стены и представить себе сооружение как систему пространства, своего рода улитку без раковины. Представьте себе, что чередование этих пространств подчинено не только соображениям удобства — сначала вестибюль, потом фойе, потом зал, но и определенной стратегии художественного воздействия — сначала ярко, открыто, приглашающе, затем — сдержанно, мягко, интимно и далее снова — приподнято, светло, торжественно. Конечно, обыкновенные слова здесь так же мало соответствуют действительным пространственным ощущениям, как если бы мы попытались с их помощью описать замысел композитора или ощущения, возникающие при прослушивании музыки (как, в сущности, мало говорят об этом даже традиционные анданте, модерато, аллегро и т. п.). И все-таки такой мысленный эксперимент приближает к пониманию сущности архитектурного творчества.
Он помогает понять, что невозможно вызвать истинное пространственное переживание одним изображением архитектуры на плоскости, каким бы изысканным и гармоничным оно ни было. Хотя такое изображение вполне может доставлять эстетическое наслаждение, оно отличается от архитектуры так же, как описание музыкального произведения отличается от его действительного звучания. И там, где архитектор по какой-то причине оказывается не в состоянии выполнить свою главную роль организатора, режиссера пространственного действия, там, где он подменяет эту режиссуру украшательством, технологией, расчетами или чем бы то ни было еще, там он перестает быть архитектором, а то, что он делает, — архитектурой.
В этом случае «красота» в знаменитой триаде автоматически обращается в нуль. Не просто в малую или даже отрицательную (некрасиво!) величину, а именно в нуль: архитектура низводится до уровня обыкновенного строительства. Не случайно красота завершает формулу архитектурного триединства. Не потому, что она менее значима, чем польза или прочность, и не потому, что она послушно следует за ними. А потому, что это слово означает главное и определяющее отличие архитектуры как художественно осмысленной организации пространства.
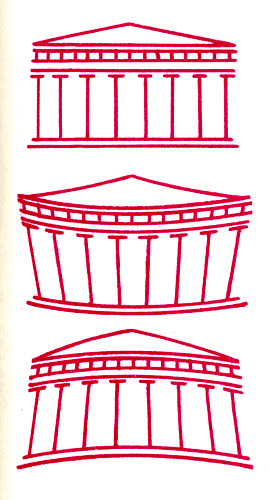
Оптические эффекты восприятия архитектуры: вверху - Парфенон, каким мы его
видим; посредине — так выглядел бы тот же фасад, если бы его линии были строго
горизонтальны и вертикальны; внизу — таков Парфенон в действительности —
колонны наклонены внутрь, горизонтальные линии выгнуты кверху
Римские термы и романская базилика, готический собор и палаццо Возрождения, барочный дворец и ансамбль эпохи классицизма. И всякий раз контрастное столкновение пространственных впечатлений — света и тени, массы и пространства, большого и малого, протяженности и высоты, лаконизма и пластичности, симметрии и живописности. Конфликт не ради торжества одного над другим, но ради примирения и взаимного проникновения. Разные стороны, раскрывающие сложную природу целого.
За плоской гранью фасада белокаменной русской церкви — золотой сумрак не имеющего границ пространства, которое постепенно сгущается в стены, поднимается под купол, переходит в небо. Кажется непонятным, как это пространство вмещается в мягкие очертания небольшого, прирастающего к земле объема.
Бесконечные анфилады залов, пестрая мозаика полов, потолков, стен, убранства и мебели за строгим регулярным фасадом городской усадьбы или загородного дворца в стиле русского классицизма первой половины XIX века.
В драматический театр, недавно построенный в Вильнюсе архитекторами Альгисом и Витаутасом Насвитисами, попадаешь прямо с одной из улиц городского центра. Узкая щель входа, зажатого между двумя старыми домами, расширяется в низкое, словно прижатое к земле пространство фойе. Верхний свет отмечает середину фойе — своего рода эпицентр неторопливой сумятицы антракта, оставляя в тени уходящие в сторону кулуары. Входя в просторный и уютный зал, испытываешь потребность остановить это движение. Его рациональный, сдержанный порядок призывает сосредоточить внимание на месте предстоящего действия.
Умение придать каждому элементу сооружения, каждой составляющей его внутреннего и внешнего пространства свою характеристику, свою эмоциональную окраску, запрограммировать последовательность их восприятия во времени, а значит, эффект воздействия архитектурного произведения как целого — в этом и состоит уникальное мастерство зодчего — композитора и дирижера пространственной симфонии. Конечно, оно вбирает в себя и умение удобно распланировать, связать между собой разные помещения, и умение вписать эту планировку в рациональную конструктивную «сетку», и много других умений. Но все это — только ступени, без которых нельзя подняться на ту высоту, где архитектура начинает наконец говорить на своем языке и обретает гармонию музыки пространства.
Вслушайтесь в эту музыку. Не проходите равнодушно мимо памятника архитектуры, присмотритесь к нему внимательнее, чем вы делаете это обычно, рассеянно слушая экскурсовода. Не спешите вынести осуждающий приговор непонятной с виду современной постройке. Лучше постарайтесь отгадать, что побудило архитектора сдвинуть в сторону окно или выдвинуть вперед стенку, сделать закругление вместо прямого угла или приподнять дом на высокие опоры. И вдруг вы увидите, что окно расположено таким образом, чтобы яркий луч солнца высветил лучшую скульптуру в экспозиции музея, а стенка выдвинута вперед, чтобы полумрак низкого вестибюля сильнее контрастировал с вертикальным пространством залитого светом многоярусного холла. Вы поймете — это сделано для того, чтобы в определенный момент и в определенном месте у вас возникло определенное ощущение — тревожной затесненности, или окрыляющего простора, или какое-то иное. Ощущение, апеллирующее не только к чувству безопасности, порядка или равновесия, но и к эмоциональному состоянию вашей души. Вы почувствуете себя тогда не только строгим и вечно недовольным «потребителем», но и доброжелательным, чутким зрителем. Тем, кому адресована архитектура и без кого она не может существовать как высокое искусство.
Главная мысль
Красота в архитектуре не сводится к украшению фасада, к архитектурной декорации. Более того, истинная природа прекрасного в архитектуре раскрывается в борьбе против поверхностного украшательства.
Восприятие архитектуры строится на упорядоченной, ритмической повторяемости пространственных элементов. Архитектурный ритм имеет в своей основе зрительную иллюзию «скрытого движения» и придает внутреннее динамическое напряжение архитектурной форме. Точно найденное соотношение элементов между собой и с целым создает эффект масштабной соразмерности и гармонической уравновешенности.
Эти средства архитектурной выразительности позволяют внести контрастные различия в организацию архитектурного пространства. Целенаправленно программируя смену разнообразных пространственных ощущений, архитектор выстраивает драматургию сквозного пространственного действия. Там, где это удается, архитектура по силе эмоционального воздействия уподобляется музыке — своего рода «музыке пространства», напрямую обращенной к внутреннему духовному миру человека.
В этом — секрет красоты, без которой архитектура не может выйти за рамки обычного строительства.
ЧАСТЬ 2. АРХИТЕКТУРА ВОКРУГ НАС
ГЛАВА 4. ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ
Как хижина стала дворцом и как дворец опять превратился в хижину.
У истоков массового индустриального строительства.
Что такое индустриализация и что такое унификация.
Трудная судьба типового дома.
Дом и двор.
Можно ли соединить «лучезарный город» с «городом-садом».
Что видно на горизонте.
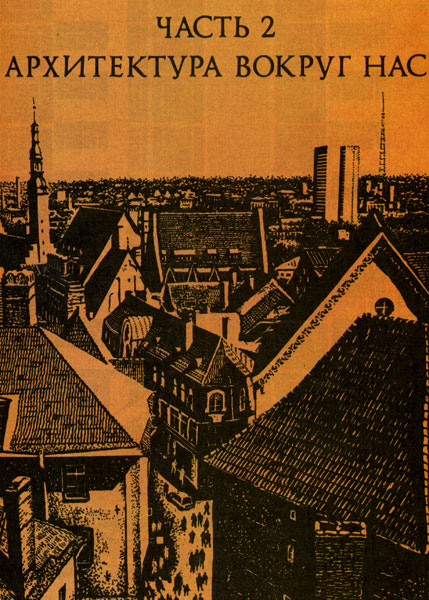
Архитектура вокруг нас
ХИЖИНЫ И ДВОРЦЫ
Жилой дом... Аккуратно сложенный из панелей, светлый, с большими широкими окнами и, конечно, высоко взметнувший в небо свои этажи. Сколько их в твоем доме, читатель? Пять, девять, двенадцать, шестнадцать? А может быть, все двадцать пять? Во всяком случае, едва ли не каждый житель города при упоминании о современном жилище представляет себе многоэтажный жилой дом. И действительно, кажется, само качество дома в последние десятилетия росло вместе с этажностью. Девятиэтажный дом был на голову выше пятиэтажного, так же как чуть позднее шестнадцатиэтажный — выше девятиэтажного. И не только в прямом, но и в переносном смысле этого слова — лучше, просторнее стали квартиры, доброкачественнее, надежнее работа строителей.

Дом, в котором ты живешь
Но давно ли дом стал многоэтажным? Ответ на этот вопрос зависит от того, как взглянуть на дело. Исторические источники неопровержимо свидетельствуют о том, что в Древнем Риме строились многоэтажные жилые дома, как мы сказали бы теперь, доходного типа. Число этажей доходило до семи — это немало, если вспомнить о том, что лифта у древних римлян не было. Конечно, это были дома для бедноты — состоятельному горожанину незачем было совершать утомительные пешие прогулки на седьмой или даже четвертый этаж. Гораздо комфортабельнее было жить в одно- или двухэтажной вилле. Жилища привилегированных римлян имели обширные внутренние дворы, достигавшие в поперечнике 30—40 метров. Центральное пространство — гостиная или холл по нашим современным понятиям — нередко перекрывалось куполом. Настоящий дворец по сравнению с бедными «хижинами», из которых состоял многоэтажный дом. И все же, если говорить о массовом, наиболее распространенном жилище, то древнеримские многоэтажные дома надо считать редкостью. На протяжении долгих веков в разных странах городская застройка состояла главным образом из одно-двухэтажных жилых домов на одну семью.
Правда, и односемейный дом в некоторых случаях умудрялись делать многоэтажным. В средние века, а во многих регионах и позже строились, например, дома-башни на одну семью — по-видимому, в основном из оборонных соображений. Такие башни насчитывали четыре, пять, а то и больше уровней внутри, а их площадь в плане доходила до 50 и более квадратных метров. Помимо укрытия во время разорительных набегов неприятеля, жилая башня служила еще и символом богатства, благополучия рода. География башенного строительства необычайно обширна — Кавказ и Балканы, Индия и Тибет, Аравия и Эфиопия — чаще всего горные районы.
Тесно сомкнутые в сплошной ряд шести-семиэтажные башенные дома старого города Саны в Йемене кажутся издали современным жилым массивом. Оконные проемы в этих башнях делали часто в два-три ряда на один этаж (по типу бойниц), благодаря чему издалека их нетрудно принять за 15—20-этажные. Нижний этаж строился из естественного камня и служил для хозяйственных нужд. Верхние этажи выводились из обожженного кирпича или сырца — здесь размещались слуги, гарем и, наконец, жилые помещения самого хозяина дома. На плоской крыше башни устраивалась еще одна комната, где хозяин мог остаться наедине с собой и насладиться покоем. Ясно, что сходство такой постройки с современным многоэтажным домом — не более чем чисто внешнее. Да и вообще жилые башни — все-таки экзотическое исключение из общего правила малоэтажной застройки тех времен.

Селение Шатили. Грузия
Пройдет немало десятилетий и даже столетий, прежде чем эти похожие и непохожие друг на друга, отдельно стоящие дома высотой в один, два, три этажа, каждый на одну семью, соединятся в компактный, геометрически правильный блок современного жилого дома. Изменения накапливались поначалу медленно, исподволь, затем буквально на глазах. Так что теперь москвичам из Ясенева или Тропарева не так легко найти сходство между домом, в котором они живут, и традиционным городским жилищем, в котором жили их отцы и деды где-нибудь в Замоскворечье или Сокольниках. И все-таки, проходя мимо маленького одноэтажного домика в переулке, скромно притулившегося к выросшей рядом с ним шестнадцатиэтажной башне, давайте вспомним о том, что они, так сказать, родственники по прямой линии. И сходства в них гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд.
КАК ХИЖИНА СТАЛА ДВОРЦОМ
История современного жилого дома начинается не в городе, а далеко за его пределами, в деревне — там, где складывается устойчивый стереотип народного жилища. Каждый народ веками вырабатывал свой стереотип жилого дома, наилучшим образом отвечающий климатическим условиям, укладу жизни, национальному характеру. Практичность, надежность, комфортабельность народного жилища — будь то китайская фанза, грузинский дарбази или украинская хата — отражает коллективную мудрость целого народа, у которой профессионалу архитектору всегда есть чему поучиться. К этим важным достоинствам следует добавить также проверенные временем эстетические качества и высокую градостроительную маневренность жилья, то есть его способность «прийтись ко двору» в любой конкретной ситуации.
Самым простым типом народного жилища в России была изба-четырехстенка — сруб, в котором располагалась жилая комната-клеть с печью и пристроенные к ней сени. В условиях сурового климата северных районов России к избе пристраивали еще одну — хозяйственную клеть и крытый двор по другую сторону сеней, так что сени оказывались в центральной части всей постройки и служили своего рода распределительным вестибюлем. И под жилой и под хозяйственной частью дома устраивался высокий цокольный этаж — подклет, где можно было держать скот. В дом вело нарядное крыльцо, а на двор — деревянный пандус, который называли «ввоз».
Более состоятельные и многолюдные семьи ставили избы-пятистенки и даже шестистенки. Пятая и шестая рубленые стены отделяли от главного жилого помещения (избы с печью) другие комнаты меньшего размера — горницу и заулок. В избу и комнату устраивались отдельные входы из сеней, а в заулок вела дверь из избы.
Такие дома сохранились в отдельных случаях с конца XVIII — начала XIX века, но специалисты полагают, что примерно так строили наши предки и в гораздо более давние времена.

Многоэтажное жилье существовало задолго до нашего века. Так выглядел один из
монастырей в горах Греции
Давайте приглядимся к планам этих нехитрых жилищ. Не кажется ли вам, что они имеют не так уж мало общего с нашим современным жилищем? Конечно, нет ванной и туалета, да и кухня совмещена с общей комнатой, но разве тем не менее не похожа изба-шестистенка на нынешнюю трехкомнатную квартиру — те же вытянутые в ряд вдоль коридора жилые комнаты, причем большая из них — проходная. Не слишком отличаются и размеры комнат: «общая комната» — изба (вместе с кухонным местом) — 35 квадратных метров, другие (теперь мы назвали бы их спальнями) поменьше — 20 и 10 метров.
Конечно, в обществе, где есть бедные и богатые, жилье жилью рознь. Дома, где живут богачи и власть имущие, не чета скромному жилищу обыкновенного человека. Например, ассирийский царь Саргон в городе Хорсабаде имел, так сказать, «квартиру» площадью 100 тысяч квадратных метров. Но что касается жилищ его подданных, то были они гораздо скромнее — всего четыре-пять небольших помещений, сгруппированных вокруг маленького внутреннего дворика. Конечно, нас интересуют прежде всего не уникальные дворцы, а массовые «хижины», то есть наиболее распространенный тип жилища. Хотя, как мы увидим дальше, и дворцы сыграли свою роль в развитии современного многоэтажного жилого дома.
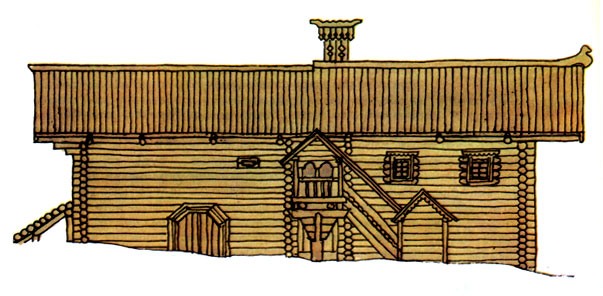
Изба-пятистенка. Фасад с крыльцом
Вернемся в Россию. Археологи и историки единодушны в мнении о том, что крестьянская односрубная изба-четырехстенка еще в Древней Руси стала основным типом городского жилища. Существовали, разумеется, и более богатые рубленые посадские дома. Особенно большие и нарядные дома называли хоромами. Однако хоромы сохраняют в своей основе все ту же планировку крестьянского жилого дома, хотя в них увеличено число горниц (в XVII—XVIII веках их стали называть покоями), прибавилось и отдельное помещение для приема гостей.
Эта же планировка сохраняется и в каменных посадских домах, которые получили широкое распространение с конца XVII века. Кирпичные палаты возводятся не только в Москве, но и в Новгороде, в волжских городах, в Вологде. В Москве в черте Белого города (нынешнее Бульварное кольцо) запрещается вдоль больших улиц строить деревянные дома. Указом 1704 года предписывается ставить каменные здания вдоль «линии улиц».
Правильность геометрического построения фасада, обусловленная регулярной застройкой уличного фронта, сказывается и на плане дома. В однопалатном посадском доме видна четкая четырехчастная планировка с расположением жилых помещений вокруг вытянутых сеней-коридора. Высокое крыльцо остается пока снаружи здания, но ненадолго. Уже в начале XVIII века лестница встраивается в объем здания. Такое ее положение станет настолько традиционным и привычным, что попытки снова вывести ее наружу будут восприниматься в наше время как самое что ни на есть новаторское откровение.
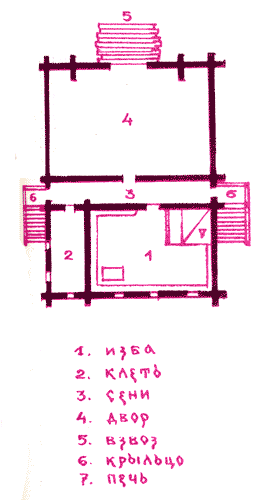
Схема
А пока что сени со встроенной в них внутренней лестницей превращаются в парадный вестибюль зажиточного городского дома. Его многочисленные помещения выходят на фасад чередой одинаковых, регулярно расположенных окон. Каменная стена, изрешеченная окнами... Конечно, простенки массивны и не похожи на нынешние, окна имеют декоративные обрамления — наличники, этажей всего два, а не шестнадцать, да и состоит такой дом не из множества одинаковых квартир, а из анфилады комнат, принадлежащих одному хозяину. Будут многократно меняться и внутренняя планировка, и этажность, и характер декоративной обработки деталей. Но образ городского дома с характерной ячеистой структурой регулярного фасада уже сложился.
Это становится ясно, если сравнить московские каменные городские палаты конца XVII века с построенным в том же XVII веке деревянным царским дворцом в селе Коломенском под Москвой. Здесь несколько отдельных деревянных хором были необычайно живописно сгруппированы друг с другом. В этом не дошедшем до нас шедевре русского деревянного зодчества (дворец был разобран из-за ветхости по указу Екатерины II) нет, кажется, ничего общего с регулярным планом каменных построек более позднего времени, однако именно этим постройкам принадлежит будущее.
Каменный дом с симметрично организованным фасадом определяет облик русских городов в XVIII и XIX веках. Центральная часть дома — вестибюль с парадной лестницей — и парадные залы, расположенные во втором этаже, как правило, отмечены выступающим колонным портиком, который фиксирует главную ось фасада, ритмически прорезанного оконными проемами.

Дома
Конечно, на окраинах города, так сказать, в тени этих роскошных дворцов, формирующих облик его центра, по-прежнему ютятся убогие хижины — самое массовое жилище старого города. При капитализме жилище, как и все, становится товаром, оно продается, сдается внаем. Хозяину земельного участка выгодно разместить на нем наибольшее количество жилищ. Развившаяся к этому времени строительная техника позволяет ему группировать жилища по вертикали. Так появляется многоквартирный доходный жилой дом. Доходный, потому что владелец строил его не для своих личных нужд, как раньше, а для того, чтобы он приносил ему прибыль, доход.
Дома такого типа начали строить в Москве и Петербурге еще в начале XIX века, но только с середины века они становятся основным типом городского дома. Естественно, при его строительстве использовали сложившиеся к тому времени традиционные архитектурные приемы, в частности симметричный фасад. Однако этими приемами пользуются лишь для внешней, декоративной обработки фасадных плоскостей. Внутренняя структура такого дома стала совсем иной: уже нет иерархического построения старого городского особняка с центральным вестибюлем, парадными помещениями, службами и т. д. Дом представляет собой скопление однотипных ячеек-квартир, сгруппированных около вертикальных лестничных клеток. Механический подъемник — лифт — позволяет сделать дом выше — до семи и более этажей. Иногда такие дома заполняют целые кварталы — от улицы до улицы. Если заглянуть в каждую отдельную квартиру, то увидишь там все ту же знакомую нам «хижину» — ограниченный набор сравнительно небольших жилых помещений. Но когда смотришь на такой дом снаружи, он кажется каменной громадой, нависшей над городом, своего рода дворцом, символизирующим хищническую власть нового хозяина города — частного предпринимателя, капиталиста, спекулирующего жильем, как и всяким иным рыночным товаром. Хижины, всегда противостоявшие дворцу, принимают обманчивую видимость дворца, прячась за его отжившими формами. Архитектура жилого дома балансирует на зыбкой грани несоответствия между внутренним содержанием и внешней формой. Но, как мы уже не раз убеждались в этой книге, такое балансирование не может продолжаться слишком долго.

Еще дома
КАК ДВОРЕЦ ОПЯТЬ СТАЛ ХИЖИНОЙ
Жилой дом всегда был более чем кровом над головой или символом богатства. Не случайно даже скромный дом крестьянина украшен резьбой и нарядным крыльцом. Не случайно просвещенный вельможа так заботится о расположении комнат и стиле мебели своего дома, и не случайно домик Петра Великого выглядит куда более скромно, чем роскошные апартаменты иных его сподвижников. До сих пор, входя в кремлевскую квартиру В. И. Ленина, мы ощущаем характер и образ жизни ее хозяина полнее и глубже, чем по воспоминаниям современников и литературным описаниям.
Потому что дом не только материальная оболочка жизни, но и ее духовная среда, овеществленное представление человека о самом себе и о своем времени. Иными словами, это жизненный стандарт, стиль, отношение к действительности. И с этой точки зрения история жилого дома полна драматических эпизодов и легенд.
В 1655—1661 годах Фуке, крупнейший финансист абсолютистской Франции, перестроил свой загородный замок по проекту архитектора Луи ле Во. Главным был даже не сам дворец, довольно скромный по тем временам, а общий принцип создания загородной резиденции, обращенной в гигантский парк, искусно устроенный архитектором-садовником Ленотром. Дворец Во-ле-Виконт демонстрировал новый стиль жизни французского аристократа «на природе», вне стен тесного, переполненного людьми города. Дворец и парк настолько понравились Людовику XIV, что он не мог смириться с тем, что они не являются его собственностью. Он немедленно заточил Фуке в тюрьму, а архитекторам Ле Во и Ленотру поручил строительство своего летнего замка в Версале.
Построенный с поистине королевским размахом, Версальский дворец стал признанным символом абсолютизма — ничем не ограниченной единоличной власти короля, подражать которому на свой лад стремились все европейские монархи. Но не только в этом его значение — он на долгие годы определил идеал престижного жилища аристократа — с анфиладами роскошно отделанных залов, лепными украшениями, паркетными полами и резной мебелью «в стиле Людовика». Этот образец на протяжении почти двухсот лет оставался незыблемым, меняясь лишь в оттенках стиля, но не в существе концепции жилища.
Правда, на рубеже XVIII—XIX веков были предприняты попытки поколебать традицию. Французский архитектор Клод Николя Леду, вдохновленный идеями французской революции, спроектировал идеальный город и разработал для этого города несколько проектов, которые до сих пор поражают воображение своей необычностью и несходством с какими-либо прототипами. Леду запроектировал, например, домик сторожа в форме идеального, лишенного каких бы то ни было деталей шара. В другом проекте он придал жилому дому не менее необычную форму — цилиндра. Простые геометрические формы Леду предвосхищают гораздо более поздние поиски современных архитекторов. Однако его современники восприняли их скорее как курьез. Проекты Леду остались неосуществленными и никак не повлияли на традиционный стереотип жилища. Даже небольшой дом, даже квартира в доходном доме пускай тщетно, но все же тянулись к заведомо ложному идеалу дома-резиденции, дома-дворца.
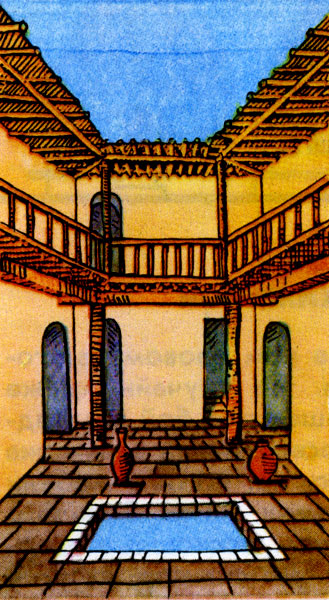
Внутренний двор месопотамского жилого дома (реконструкция)
Первое слово правды в этом океане ханжеской архитектурной лжи прозвучало в полный голос лишь в середине прошлого века. И не случайно пришло оно с берегов Англии, где промышленная революция стала воздействовать на общий стиль жизни гораздо раньше, чем в континентальной Европе. В 1859 году английский художник-прикладник Уильям Моррис построил для себя дом по проекту своего единомышленника архитектора Филиппа Уэбба. Это уже упоминавшийся нами так называемый Красный дом (по-английски Ред-хауз) в Бексли-хиз, близ Лондона.
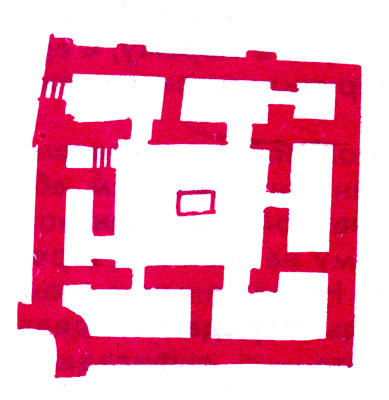
Схематическое изображение
Красный дом не просто жилище одного человека, даже весьма выдающегося, каким, несомненно, был Уильям Моррис. Это здание-манифест, которое для многих поколений стало символом нового стиля жизни, или, как станут говорить позднее, нового жизненного стандарта. Моррис возглавил кружок передовых деятелей искусства, протестовавших против вычурных и вульгарных роскошеств так называемой викторианской эпохи, насквозь пропитанной духом английского колониального могущества. Они выступали за возрождение норм простоты, честности, целесообразности в жизни, в архитектуре и прежде всего — в предметном окружении человека. В распространении этих эстетических идеалов Моррис видел средство морально-этического совершенствования человека и социального прогресса. Красный дом стал последовательным воплощением комплексной художественной программы его хозяина.
Свое название Красный дом получил по материалу стен и кровли. Неоштукатуренный красный кирпич и черепица — уже в самом выборе этих естественных, сугубо «деревенских» простых материалов был несомненный вызов установившимся нормам престижного жилища. Планировка дома определяется требованиями целесообразности и потому лишена сковывающей их обязательной симметрии. Но главное — интерьер, который был решен в органическом единстве с мебелью и другими предметами убранства. Моррис основал специальные мастерские для изготовления предметов декоративно-прикладного искусства, с которых он стремился сорвать напластования ложного украшательства, вернуть им первозданную естественность и здоровую рациональную основу. По мысли Морриса, это и должно было стать импульсом для оздоровления всей системы общественных отношений, началом радикальной перестройки общества в духе идей социализма.
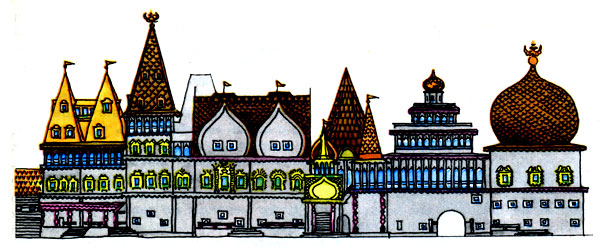
Деревянные хоромы в Коломенском. Москва
Естественно, такая утопическая программа социального реформаторства оказалась несбыточной. Вещи, изготовленные мастерской Морриса, имели успех и хорошо раскупались. Но они не произвели социального переворота — они просто вошли в моду и стали послушно служить украшению быта тех самых слоев общества, против засилья и извращенных вкусов которых выступал их создатель. Широкий эксперимент, задуманный хозяином Красного дома, в социальном аспекте потерпел полный крах. Но его художественное содержание оказало большое воздействие на все последующее развитие архитектуры жилища.
Символичной стала сама попытка создать «идеальный» дом, вернуть жилищу растраченное десятилетиями эпигонства единство архитектуры, прикладного и изобразительного искусства. Найти это единство на путях отказа от рабского копирования изживших себя образцов, на путях возврата к неприкрашенной простоте, естественной целесообразности, органической форме предмета и пространства. Самим фактом появления Красный дом провозглашал приход нового времени. Это время несло с собой неизбежность великого опрощения, снятия покровов с дворца, утратившего действительный жизненный смысл вместе с уходом в прошлое абсолютных монархий. Начиналось парадоксальное, почти сказочное обратное превращение дворца в породившую его некогда, но теперь уже совсем иную по форме хижину.
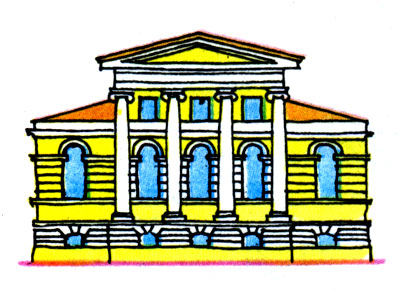
Городской жилой дом в России первой половины XIX в.
События развивались поначалу неторопливо, так сказать, в стиле прошлого века, но по мере приближения к XX столетию темп изменений становится неудержимым. Уже в 1893—1895 годах эксперимент Морриса получает своеобразное повторение на Европейском континенте. Оставивший живопись ради архитектуры и прикладного искусства бельгийский художник Анри Ван де Вельде строит собственный особняк «Блумен-верор» вблизи Брюсселя. Он не желает, чтобы его семья жила в плену, как он говорит, «лживых форм». Фасады, интерьер, вся предметная среда этого жилища пронизаны единым духом, спроектированы одним человеком. Все, вплоть до эскизов одежды для всех членов семьи. Ван де Вельде не оставляет без внимания даже сервировку стола и цветовую гамму подаваемых на него кушаний! Начав с борьбы с роскошествами ложного украшательства, с призыва к простоте и естественной целесообразности формы, Ван де Вельде доводит исповедуемый им новый стиль «модерн» до элитарного самолюбования и полной замкнутости в себе «искусства для искусства». Идея взаимного проникновения искусства и архитектуры вырождается в богатую орнаментальную обработку плоскостей и предметов, в новый стиль декорирования.
Но дело уже сделано. Черты естества, образ хижины отчетливо и непреодолимо проступают внутри дома, который, словно стыдясь своего стремительного перерождения, еще предпринимает слабые попытки сохранить помпезную (на новый лад) представительность дворца.
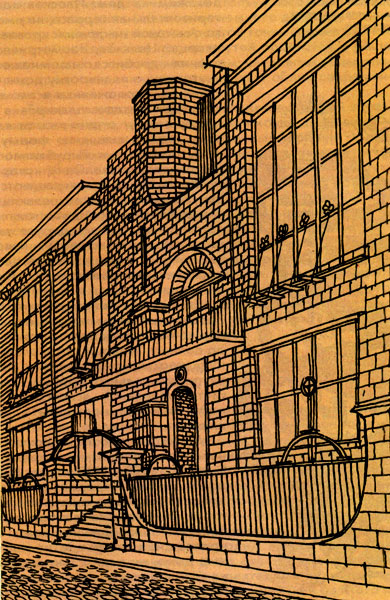
Один из первых образцов стиля модерн — школа искусств в Глазго. Архитектор Ч.
Макинтош
Новый идеал современного жилища, полностью раскрепощенного от жесткого классического канона дома-дворца, демонстрируют односемейные дома, построенные американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в первом десятилетии XX века. В них непривычно все - горизонтальные плоскости уступчатых потолков, нависающих над полутемными, интимными помещениями, уходящими в глубь дома и перетекающими одно в другое, подчеркнутая свобода в трактовке распластанных, словно стелющихся по земле, горизонтальных линий фасада.
Десятилетием позже уже на европейской почве тенденция освобождения жилища от канонической формы здания-дворца получила законченное выражение в работах голландских, немецких, французских архитекторов современного толка. Дом становится непохожим на дом. Плоская крыша, используемая как горизонтальная терраса, не имеет с виду ничего общего с высокой наклонной кровлей или башенками дома-дворца. Цельная, геометрически правильная форма здания дробится на множество воспроизводящих внутреннюю планировку дома объемов, лишенных деталей и расположенных асимметрично. Как если бы не имеющая фасадов планировка первобытного жилища-пещеры вдруг отделилась от каменного монолита скалы и обрела внешнюю форму, полностью повторяющую организацию вырубленного в этой скале внутреннего пространства. Окна, которые всегда были вытянуты по вертикали, превращаются в непривычные горизонтальные ленты, разрезающие фасад, как слоеный пирог. Внутри такой дом столь же необычен и столь же категорично пропагандирует лаконичный, чуждый всякому украшательству дух новой архитектуры — простые, ясные формы, чистые цвета, свободная игра пересекающихся плоскостей, среди которых трудно отличить пол от стены, а стену от потолка.

Жилые дома в прикарпатском селении
Еще десять лет спустя все тот же Корбюзье (он обладал удивительным даром оказываться в самых горячих точках сражения за новую архитектуру) доводит до полного завершения эволюцию дворца в современную «хижину» из стекла и бетона. В простых с виду прямоугольных объемах частных домов он достигает предельной ясности и точности художественного языка в выражении идеала современного жилища.
Может быть, больше других на эту роль претендует небольшая по размеру вилла Савой, построенная в Пуасси в 1928—1930 годах. Внутреннее пространство дома получает продолжение за его пределами, оно прорезано сверху, снизу, со всех сторон, из любой его точки открывается взгляд наружу, на окружающий пейзаж. Горизонтальные ленты окон, колонны, свободно стоящие в интерьере, не только обнажают конструкцию дома, но полностью перечеркивают все надежды на традиционную монументальность. Дом больше всего удивляет этой нарочитой легкостью, он напоминает скорее африканскую хижину на сваях, чем жилище преуспевающего французского буржуа, каковым является на самом деле. Открытые опоры первого этажа — в просторечии «ноги», на которых стоит — нет, скорее висит — здание, сад, разбитый на крыше, логически дополняют пространственное раскрытие внутреннего объема.
Безусловно, мы не должны забывать о том, что речь идет об индивидуальных домах состоятельных людей, то есть о привилегированном жилище верхушки капиталистического общества. Так что такая «хижина» могла быть по карману очень и очень немногим. Но нас в данном случае интересуют не столько абсолютные размеры и стоимость (об этом — немного дальше), сколько сам стиль архитектуры. А с этой точки зрения ранние постройки Корбюзье подчеркнутой простотой и рациональностью, лаконизмом форм на долгие годы вперед предопределили архитектурный облик современного массового жилища.
Теперь, в исторической перспективе, со всей отчетливостью видно, что эти постройки конца двадцатых — начала тридцатых годов, встреченные в штыки подавляющим большинством профессионалов-архитекторов, избавили жилище от чужеродной его новому духу псевдоархитектурной оболочки. Они словно приготовились стать продуктом массового индустриального производства, которое разнесет новую архитектуру по всему миру. Дворец превратился в современную хижину. Пробил ее час. Вот-вот и она начнет множиться, воспроизводиться миллионными тиражами. Заполняя пространство современного города, она будет группироваться в конгломераты домов, в сложные, многоярусные структуры — своего рода новые дворцы коммунального типа. Ну что ж, как говорится, дворец умер — да здравствует дворец!
ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Теперь нам предстоит обратиться к более скучным, но не менее важным материям. Жилищный вопрос в начале XX века был не только самым насущным вопросом в развитии переуплотненных, находившихся в антисанитарном состоянии городов, но и одной из самых жгучих проблем в развитии общества. Имущественное неравенство в наиболее явной и уродливой форме проявлялось именно в этой сфере — контраст между роскошными апартаментами фабриканта и убогим жилищем рабочего люда превосходил всякие мыслимые пределы. Этот очевидный факт осознавался наиболее мыслящими, прогрессивными деятелями культуры как грязное, несмываемое пятно, лежащее на и без того не слишком чистой «совести» буржуазного общества. Борьба против изживающей себя мещанской роскоши, за новые идеалы разумного, естественного, аскетичного жилища, по наивному убеждению художников и архитекторов-реформаторов, должна была сдвинуть решение жилищной проблемы с мертвой точки.
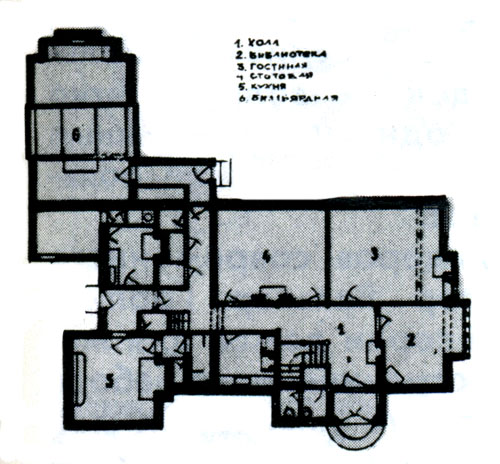
Схема дома
Конечно, сами по себе новации прогрессивных художников и архитекторов так и остались бы на бумаге, как это уже не раз бывало и бывает в эксплуататорском капиталистическом обществе, если бы они не совпали по времени с целым рядом объективно обусловленных обстоятельств. Неудовлетворительное состояние жилищной проблемы не только служило постоянной почвой для острых социальных конфликтов, но и стало объективным препятствием дальнейшего роста производительности труда в потогонной системе капиталистического производства. С другой стороны, жилище для рабочего, массовое жилище, при определенных условиях могло стать выгодным товаром — колоссальный спрос был налицо, и по всем законам рыночной экономики он определял появление предложений.
Вот тут-то и пригодились причуды нового стиля с его простотой, лаконизмом форм, отсутствием вычурных украшений, требующих ручного ремесленного труда. Направление движения и общий характер результата были понятны. Оставалось решить две проблемы. Во-первых, сделать «жилой товар» достаточно дешевым для потенциального потребителя, чтобы он мог пользоваться действительно массовым спросом. Это значило, что жилище должно стать минимальным по размеру, но по возможности не в ущерб требованиям комфорта, гигиены и эстетики. Во-вторых, массовое жилище надо было сделать достаточно выгодным для производителя, то есть индустриальным. Одним словом, сделать состоящим из деталей, изготовление и монтаж которых могли бы быть поставлены на поток.
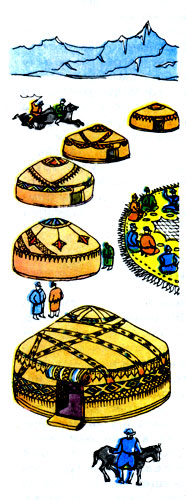
Жилище кочевника по-своему «индустриально» — стандарт, высокая скорость
монтажа, удобство перевозки
Оба требования были совершенно новыми — за всю свою многовековую историю архитектура жилища, пожалуй, никогда еще не сталкивалась с необходимостью решить две столь сложные и взаимообусловленные проблемы в исторически короткий срок. Но, как это часто бывает, трудность выполнения задачи стала мощным стимулом для ее решения. В работу над миниатюризацией и индустриализацией современной «хижины» включились лучшие силы мировой архитектуры.
Еще в последнее десятилетие прошлого века американские архитекторы так называемой чикагской школы освоили строительство многоэтажных жилых домов со стальным или железобетонным каркасом. Квартиры в этих домах были оборудованы отдельными ванными, электричеством и паровым отоплением. Использование раздвижных перегородок позволяло легко превратить несколько комнат в одну. Многоэтажные жилые дома на железобетонном каркасе стали появляться в Европе с начала XX века.
Уже в 1909 году один из лидеров современного движения — немецкий архитектор Вальтер Гропиус предложил строительство целой серии домов для жилищного кооператива на основе ограниченного набора типизированных элементов. Гропиус писал: «Жилой дом — это созданный производственно-технической деятельностью организм, единство которого складывается из органического сочетания многих частных функций. Инженеры уже давно и сознательно ищут наиболее экономичное решение самой фабрики и удешевления ее продукции за счет максимальной производительности труда при минимальной затрате механической и живой энергии, времени, материалов и средств; жилищное строительство лишь совсем недавно пошло к своей цели тем же путем».
В 1915 году Корбюзье создал проект жилых домов серийного производства, которому, по своему обыкновению, дал звучное и символическое название — «Дом-ино». Стандартная двухэтажная ячейка — три плоскости перекрытий и шесть вертикальных опор — могла комбинироваться в любых вариациях в структуре жилого дома. Более чем тридцать лет спустя при строительстве жилого комплекса в Марселе проблема комбинирования ячеек в жилой дом покажется тому же Корбюзье гораздо более сложной, да и сама ячейка уже не будет столь примитивной. Но пока важнее всего продемонстрировать и «застолбить» новую идею.
1927 год. Строительство экспериментального жилого поселка Вайссенгоф вблизи Штутгарта. Пройдет всего шесть лет, и развитие прогрессивных тенденций современной архитектуры в Германии трагически прервется приходом фашистской диктатуры. Но участники этого эксперимента, который стал своего рода выставкой достижений современного движения, едва ли догадываются об этом. Главный архитектор проекта — Миес ван дер Роэ — пригласил для участия в очном творческом соревновании лучшие силы архитектурной Европы. Вот отзыв одного из журналов того времени: «Эта выставка, несомненно, доказала нам способность архитектора проникать в действительную жизнь. Мы считаем, что она имеет исключительное значение, потому что вывела новые методы строительства за пределы авангардистской лаборатории и заставила широко внедрить их в практику».
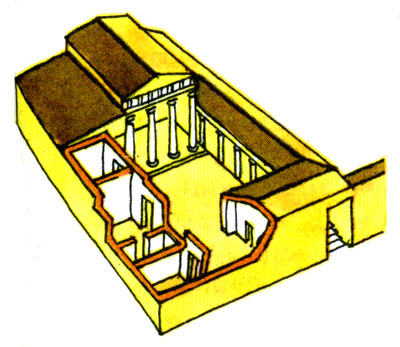
Схема греческого жилого дома с внутренним двориком (атриумом)
Сам Миес ван дер Роэ построил в отличие от других участников выставки многоквартирный, дом со стальным каркасом. Впервые многоквартирный и соответственно многоэтажный дом начинает всерьез конкурировать с односемейными домами не только по экономичности, но также по комфортабельности и высоким качествам архитектурно-планировочного решения. Стальной каркас позволил избавиться от толстой стены, традиционной для многоэтажного дома, — у Миес ван дер Роэ наружные стены имеют толщину в полкирпича — 12,5 сантиметра с изолирующей прокладкой. Внутренние перегородки, выполненные из клееной фанеры, присоединяются к потолку (заметьте — даже не к полу) с помощью затяжных болтов. Они могут быть расположены по желанию владельца квартиры самым различным образом, но при этом обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Новое решение кухни, новая легкая трубчатая мебель — одним словом, идеал дома будущего наконец получает свой вполне реалистический, доступный широким массам потребительский эквивалент.
Известный архитектурный критик Зигфрид Гидеон, один из признанных «летописцев» современной архитектуры, так описывает свои личные впечатления от выставки в Штутгарте: «Тот, кто был очевидцем открытия поселка, не забудет сопутствовавшего ему во всем мире оптимизма и энтузиазма в архитектурных кругах». Однако Гидеон, как это свойственно, к сожалению, всем западным теоретикам, исключает из поля своего рассмотрения советскую архитектуру. И хотя, разумеется, в рамках нашей небольшой книги не решить актуальную задачу создания единой истории современной архитектуры, обобщающей и сопоставляющей советский и зарубежный опыт, нельзя обойтись без сопоставления некоторых важнейших событий отечественной и мировой архитектурной практики.
Во всяком случае, в 1927 году, испытывая энтузиазм по поводу открытия экспериментального жилого района в Штутгарте, ни авторы построенных там жилых домов, ни сам Зигфрид Гидеон не подозревают о том, что в то же самое время на Первой выставке современной архитектуры в Москве уже представлены проекты, открывающие тот этап в развитии архитектуры массового жилища, на который лидеры западного архитектурного авангарда выйдут не ранее чем двадцать лет спустя...
ЯЧЕЙКА F И ДРУГИЕ ЯЧЕЙКИ
Для молодого Советского государства решение жилищной проблемы играло особо важную роль, поскольку речь шла не только о коренном улучшении материальных условий жизни, но и о поисках конкретных пространственных форм выражения нового, социалистического образа жизни. В первом номере журнала «Современная архитектура» (1926 г.) так и написано: «Современная архитектура должна кристаллизовать новый, социалистический быт». А уже в третьем номере журнала в том же 1926 году сформулирован главный вопрос, определивший весь последующий ход решения жилищной проблемы в нашей стране: «Возможно ли повысить социальное качество жилстроительства, не уменьшая его количества?» И дан ответ: «Да, возможно».
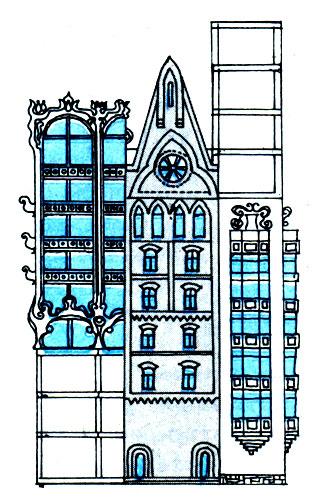
Каркасная конструкция позволяет «навешивать» разнообразные фасады на сходные по
внутренней структуре дома
Но как это сделать? Наиболее полное и хорошо аргументированное решение вопросов организации социалистического жилища было дано в работах коллектива архитекторов под руководством М. Я. Гинзбурга, которые были развернуты в конце двадцатых годов в секции типизации Стройкома РСФСР. Основные исходные позиции М. Гинзбурга по этому вопросу были изложены в 1927 году в конкурсном проекте так называемого «коммунального дома».
Здесь необходимо сделать пояснение. В первые же годы Советской власти появились многочисленные предложения по созданию домов-коммун, рассчитанных на обобществление самых различных сторон домашнего быта: разнообразных хозяйственных нужд, питания, воспитания детей, значительной части культурных запросов. Время определило, что из этих предложений оказалось полезным нововведением, а что — несостоятельной затеей. Но в далекие двадцатые годы не обходилось без курьезов. Достаточно сказать, что в одном из первых домов-коммун, построенных в Москве (читатель и сейчас может увидеть этот необычный по архитектуре дом на улице Орджоникидзе), было предусмотрено два корпуса, соединенных теплым переходом. В одном, восьмиэтажном, размещались индивидуальные помещения для сна — «спальные кабины». В другом, трехэтажном,— общественные помещения для всех остальных нужд. Мы еще вернемся несколько позже к вопросу о значении и дальнейшей судьбе дома-коммуны, но сейчас нам важно отметить, что подобные опыты со всей остротой ставили вопрос об определении дальнейшей политики в области жилищного строительства.
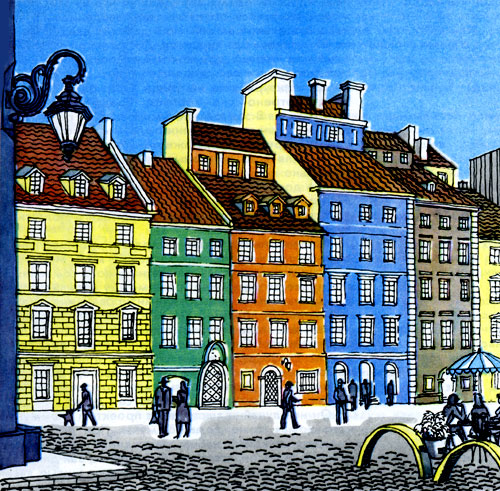
Старо Място (Старый город) в Варшаве. Состыкованные вместе жилые дома — каждый
в три окна — образуют единую, целостную, но разнообразную по форме жилую
структуру
Прогрессивная тенденция развития общественного обслуживания, совершенствования всех видов коммунальных услуг не вызывала ни у кого сомнения. Но где провести разумную грань между индивидуальным и общественным? И если минимизировать индивидуальное жилище, дом, квартиру — одним словом, жилую ячейку, как стали говорить в двадцатые годы, то до каких пределов? С этой точки зрения ответ, предложенный М. Гинзбургом еще в 1927 году и последовательно аргументированный во всех его последующих работах по жилищу, не только выглядит пророческим, но не теряет своей актуальности и по сей день.
Он не случайно выступает с проектом «коммунального дома», а не дома-коммуны. При доме предусмотрен солидный набор учреждений обслуживания: детский сад-ясли, столовая, библиотека, зал для собраний и т. п. Но основу дома составляют жилые ячейки квартирного типа. Каждая такая ячейка расположена в двух уровнях и расчленена на три элемента А, В и С. А — это экономичная малометражная квартира с двусветной, то есть открытой на высоту двух этажей, общей комнатой (высота одного этажа — 2,6 метра). В и С — небольшие комнаты, расположенные на уровне второго этажа, там, где проходит соединительный коридор, из которого по небольшой лесенке организован вход в квартиры. Эти комнаты, в которые можно попасть непосредственно из коридора, могут входить в состав квартиры или при необходимости «отключаться» от нее и существовать автономно.
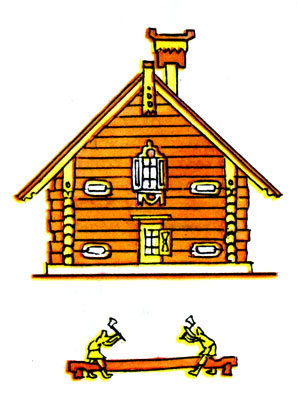
Сруб
В этом предложении М. Гинзбурга много нового и необычного. Во-первых, экономичная и остроумная система компоновки квартир в двух уровнях с использованием коридора и системы внутренних лестниц. Во-вторых, смелое введение в структуру многоэтажного дома двусветных помещений в качестве своего рода компенсации за малые габариты остальных помещений скромной по размерам квартиры. Оба эти новшества позволили сделать более разнообразной, выразительной архитектуру многоэтажного жилого дома. Но, пожалуй, главное достоинство — это рациональная планировка малометражной квартиры, оборудованной с учетом новейших достижений строительной техники того времени.
Научно обоснованные поиски экономичной планировки квартиры для массового жилищного строительства были продолжены в последующих работах М. Гинзбурга. Тщательно анализировались различные варианты расстановки мебели и оборудования с учетом графика перемещений внутри квартиры, устанавливались наиболее целесообразные размеры и пропорции комнат. Рациональное размещение оборудования в кухне позволило уменьшить ее размеры за счет высвобождения площадей, не используемых по ходу основных трудовых процессов домохозяйки. Были разработаны различные типы ячеек для домов секционного и коридорного типа.
Особенность того периода, когда вел свои разработки М. Гинзбург, заключалась в том, что молодое Советское государство еще не имело достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить население страны отдельными двух-, трехкомнатными квартирами. В случае же покомнатного заселения они превращались, как писал Гинзбург, в коммунальный ад. Поэтому для того, чтобы сохранить принцип посемейного заселения, надо было делать ставку на малую квартиру.

Новые формы
Такая квартира в номенклатуре жилых ячеек, разработанных М. Гинзбургом для Стройкома РСФСР, была обозначена латинской буквой F. Ее так и стали называть — ячейка F. Она состояла из двух частей: в более высокой (3,5 метра) было расположено основное жилое помещение — общая комната с типовым кухонным блоком, встроенным в специальную нишу. В защищенной части ячейки (здесь высота потолка была всего 2,25 метра) размещались совмещенный санузел с ванной и спальный альков. Жилая комната этой мини-квартиры, рассчитанной на заселение семьей из трех-четырех человек, составляла в различных вариантах от 27 до 31 квадратного метра.
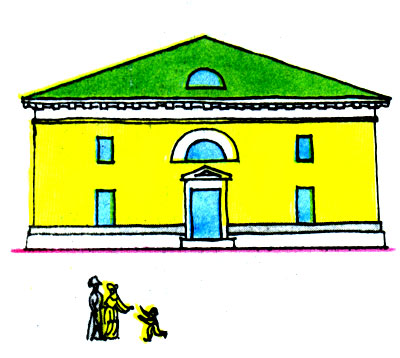
Образ жилого дома
Понижение высоты во вспомогательной части квартиры позволяло остроумно скомпоновать ячейки типа F в структуре многоэтажного дома: между двумя поставленными друг на друга ячейками оставалось место для сквозного коридора высотой 2,25 метра. Чтобы попасть из этого коридора в жилую ячейку, надо было подняться или опуститься на полмарша по небольшой внутренней лесенке. Это изобретение было использовано Корбюзье при строительстве жилого комплекса в Марселе, который по многим причинам считается важной вехой в развитии архитектуры жилища. Справедливо напомнить, что в данном случае этот признанный новатор шел по пути, значительно раньше разработанному нашим советским архитектором, работы которого он, кстати сказать, хорошо знал и высоко ценил.

Петербург второй половины XIX в.
Уже в 1928—1930 годах М. Гинзбург получил возможность проверить свои экспериментальные разработки и исследования в области социалистического жилища на практике, в ходе строительства жилого дома на Новинском бульваре (ныне улица Чайковского). Читатель может без труда найти этот необычный дом в глубине квартала, совсем неподалеку от площади Восстания. Протяженная пластина жилого корпуса с характерными полукруглыми балконами на торце соединена с кубическим остекленным объемом, который по проекту должен был служить блоком общественных помещений. К сожалению, жизнь в этом доме шла совсем «не по проекту», в трудные послевоенные годы он не избежал участи покомнатного заселения, на что совершенно не был рассчитан. Это создавало большие неудобства для жителей, появились не предусмотренные проектом перегородки, нарушилась планировка квартир. Однако и сегодня, попадая в необычно просторное, залитое светом жилое помещение ячейки F, не перестаешь удивляться, что это ощущение масштабной соразмерности и незатесненности пространства достигнуто архитектором на площадях отнюдь не больших, чем площади тех квартир, которые мы строим сегодня.

Микрорайон «Лебедь» в Москве
К этому надо добавить, что в доме на Новинском бульваре были широко использованы новые материалы и прогрессивные конструкции, проведена последовательная унификация основных конструктивно-планировочных элементов здания (столбы, балки, окна, двери и т. п.). Железобетонный каркас несет легкую утепленную стену с горизонтальными ленточными окнами. Некоторые стандартные элементы конструкции изготовлялись на заводе и монтировались на стройке уже в готовом виде — это по тем временам было важным нововведением.

Старый Тбилиси
Вообще М. Гинзбург в полной мере отдавал себе отчет в том, что массовое жилищное строительство может стать по-настоящему экономичным только в том случае, если будет полностью переведено на рельсы индустриализации. Это, говорил он в 1928 году, «позволит нам заменить самый атавистический термин «постройка» более современным термином «монтаж» «сборка». Прозорливая мысль архитектора и в этом опережает свое время. Но будущее, к которому он призывает, уже не за горами.

Дом-коммуна на Новинском бульваре в Москве
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ТИПИЗАЦИЯ, УНИФИКАЦИЯ
Читатель может прийти в некоторое недоумение, увидев этот подзаголовок в книге об архитектуре. Но ничего не поделаешь, как говорится, из песни слова не выкинешь. Нельзя обсуждать нелегкие проблемы современной архитектуры, не прибегая к этим техническим терминам. И особенно велика их роль в современной архитектуре массового жилища.
Идея собирать дома из стандартных элементов начала пробивать себе дорогу в нашей стране еще в первые годы Советской власти. Правда, она относилась поначалу к строительству деревянных домов заводского изготовления. Было даже создано специальное акционерное общество Стандартстрой, которое имело в своем распоряжении небольшие предприятия по производству стандартных строительных деталей. Были разработаны и типовые проекты нескольких типов одно-двухэтажных жилых домов и даже небольших зданий общественного назначения.
Да и те поиски, которые вел коллектив, возглавляемый М. Я. Гинзбургом, не были изолированным явлением. В 1931 году другой замечательный советский архитектор — Н. А. Ладовский — запатентовал изобретенную им систему «каркасного жилища». Вот как он ее поясняет: «Предлагаемое изобретение имеет целью дать возможно большую стандартизацию жилых зданий и наиболее полное фабрично-заводское производство стандартных деталей здания путем заготовки стандартных отдельных ячеек-кают с внутренним оборудованием и мебелью, с установкой этих кают в любое место сооруженного для этой цели каркаса». Это описание вполне подходит для тех проектов современных архитекторов и дизайнеров, которые мы и сегодня относим к категории «жилища будущего» и к которым мы еще обратимся в самом конце главы.

Старый вариант частного дома
Но в середине тридцатых годов в архитектуре все более укреплялась линия освоения классического наследия, и архитекторы в большинстве своем были склонны относить вопросы индустриального домостроения к числу чисто технических, а потому не требующих творческого вмешательства архитектора в работу подчиненных ему специалистов-смежников инженерного профиля. Правда, так думают не все. Архитектор А. К. Буров совместно с Б. Н. Блохиным строят в Москве несколько многоэтажных жилых домов из крупных блоков. Один из них, на Ленинградском проспекте, неподалеку от Московского ипподрома, выделяется ажурными бетонными ограждениями лоджий на всю высоту этажа. В связи со строительством этого дома, примечательного не только своим внешним видом, но и интересными конструктивно-планировочными решениями, А. К. Буров писал: «Основные элементы современного сооружения неминуемо должны быть взаимозаменяемыми, то есть индустриальными... Возникает новая художественная задача — создать архитектурное сооружение средствами повторения крупных взаимозаменяемых элементов (крупных, так как укрупнение элементов — закон индустриальной сборки)». Разумные, правильные слова, которые не утратили своей актуальности и сегодня.
Крупноблочное, а затем и панельное строительство постепенно, словно исподволь набирает темпы в послевоенные годы. Однако пока архитекторы, похоже, больше озабочены не тем, как использовать те специфические средства архитектурной выразительности, которые может дать им новая конструкция, а тем, как их спрятать, как задрапировать панельный дом под «нормальный», кирпичный. Показательна в этом отношении проблема стыка блоков и панелей, так как стык — то самое место, где новая конструкция обнажает себя со всей очевидностью. Долгое время архитекторы видели свою задачу в том, чтобы с помощью любых конструктивных и архитектурных уловок замаскировать стыковые швы, скрыть шокирующую разрезку здания на блоки.
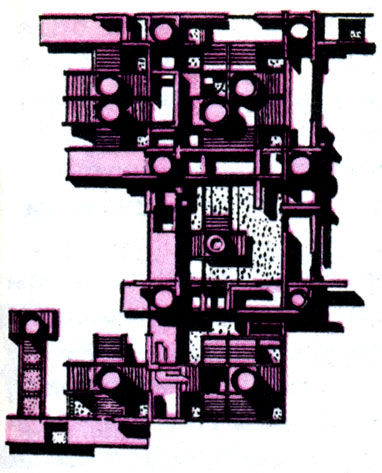
Современные архитекторы все чаще предлагают группировать жилые дома в сложные
структуры, которые могут развиваться и по горизонтали, и по вертикали (вид
сверху)
Как это ни парадоксально, в отечественной практике открытый стык панелей был предложен и впервые осуществлен академиком И. В. Жолтовским, одним из главных ревнителей архитектурной классики. Он решительно отказался от ложных, неконструктивных накладных элементов фасада панельного дома, скрывающих стыковые швы, лишний раз подтвердив ту истину, что настоящий мастер всегда остается новатором, какой бы стилистической направленности он ни придерживался в своей работе.
Все это, однако, пока лишь отдельные эпизоды, свидетельствующие скорее о том, насколько медленно происходила перестройка профессионального сознания архитекторов в отношении новых, прогрессивных методов строительства. Между тем индустриальная база этих методов увеличивалась все более быстрыми темпами. Восстанавливая разрушенные войной города и заводы, страна выходила на новые рубежи экономического и социального развития. В условиях активного роста крупных городов, создания новых промышленных центров остро ощущался дефицит в жилье. Показатели жилищной обеспеченности даже в главном городе страны — Москве далеко не отвечали установленной норме — 9 квадратных метров на одного человека. Покомнатное заселение коммунальных квартир не отвечало растущим потребностям советских людей, прошедших суровое испытание войной. Масштабы жилищного строительства в стране должны были определяться теперь уже не тысячами, а сотнями тысяч квартир в год. Решить эту задачу можно было только средствами индустриального домостроения, и в эту область народного хозяйства были направлены соответствующие материальные и людские ресурсы.
Вот тогда-то наконец архитекторы оказались лицом к лицу с индустриализацией строительства. Такое положение со всей очевидностью сложилось к середине пятидесятых годов, и справедливости ради надо сказать, что очень многих наших архитекторов, в том числе самых видных и титулованных, оно застало врасплох. А времени на раздумья уже не было. Кончилась пора экспериментов. Теперь уже само массовое производство диктовало свои жесткие правила, которым приходилось подчиняться. Экспериментировать же можно было только «на ходу».
Организация поточного производства на домостроительных комбинатах требовала унификации строительных деталей. В условиях, когда строительная база только закладывалась и на первом плане стояла задача увеличения объемов домостроения, необходимо было свести номенклатуру, то есть число типов выпускаемых строительных изделий, к минимуму. Казалось, проще и быстрее всего добиться этой цели, как можно более тесно увязав индустриальное производство строительных деталей с условиями их монтажа на стройке. Такая увязка могла быть осуществлена за счет многократного тиражирования и комплектной поставки на стройку полного набора изделий для стандартного, или, как стали говорить, типового, дома. Так и поступили. Типовой дом, дом целиком — от фундамента до крыши — стал не только объектом строительства (в смысле строительного монтажа, сборки), но и законченным объектом индустриального производства. Почти как телевизор или холодильник (это «почти» еще доставит нам немало хлопот).
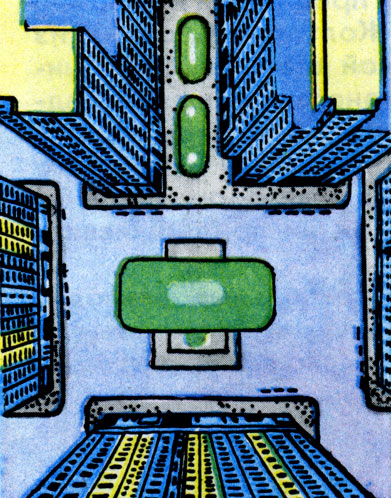
Экономия земли заставляет горожанина мириться с тем, что его жилище размещается
все выше и выше — вслед за пятиэтажными домами появились 9-, 12-, 16- и даже
25-этажные
Итак, первые типовые панельные дома запущены в серийное производство. Только один, наиболее «популярный» из этих первенцев нашего домостроения был тиражирован в масштабе 3 миллионов квартир. Это значит, что около 10 миллионов человек, представьте только — целая страна — живет в одном и том же доме. Тут есть о чем задуматься.
Читатель хорошо знает эти дома. Они были в подавляющем большинстве пятиэтажными. Квартиры, небольшие по площади и скромные по отделке, были рассчитаны на строго посемейное заселение. Вот когда пригодились полузабытые разработки тридцатых годов — компактная кухня, жесткая экономия вспомогательных помещений, встроенная мебель... Конечно, сегодня многое в этих домах кажется несовершенным и в планировке квартир, и в непритязательном внешнем виде, и даже в эксплуатационных качествах самих конструкций. Но ведь их так и называют — первым поколением панельных домов, а сейчас, в середине восьмидесятых годов, выпускаются дома уже третьего поколения, поговаривают и о четвертом. И если квартиры в наших домах стали просторнее, а потолки выше, если улучшилась звукоизоляция и стал более нарядным внешний вид дома, если лифт отучил нас пользоваться не слишком широкой лестницей — читатель лучше меня продолжит все эти «если», — то это стало возможным только на основе долгого и упорного, шаг за шагом, совершенствования тех самых «пятиэтажек». Сегодня, постарев на добрые тридцать лет, они скромно прячутся в тени выросших за последние годы деревьев. Воздадим им должное — то был самый первый и самый трудный шаг на долгом пути к массовому жилищу сегодняшнего дня.
А если уж пытаться как-то оценивать первые опыты индустриального домостроения — делать это надо, чтобы двигаться дальше в правильном направлении, — то, по-моему, более разумно подвергать сомнению не те или иные конкретные архитектурно-планировочные и конструктивные решения, а самый принцип типового дома. Заметьте, я говорю — не типизации, а типового дома.
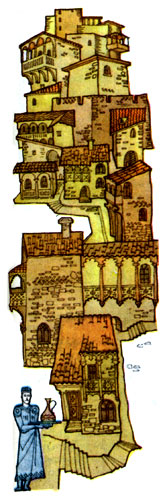
Поселок
Действительно, давайте немного разберемся в том, как соотносятся между собой эти понятия — индустриализация, унификация, типизация. Неискушенный читатель может принять их за синонимы, но они таковыми не являются. Индустриализация — это внедрение методов современного промышленного производства в ту или иную область народного хозяйства, в нашем случае в область строительства. Унификация — это внедрение единой системы стандартов, которая обеспечивает взаимную увязку деталей и позволяет избежать ненужного дублирования. Понятно, что унификация является одним из важных требований и условий индустриализации. Однако значение ее этим не исчерпывается: применение разного рода модульных систем в архитектурно-строительной практике прошлого невозможно свести к вопросам техники и технологии строительства. Что же касается типизации, то этот термин имеет смысл, близкий к унификации, но относится не к отдельным деталям, а к целым узлам или блокам объекта, вплоть до всего сооружения в целом. В этом случае мы и говорим о типовом доме.

Далеко не всегда повышение этажности означает улучшение качества жилой среды.
Унылый вид пятиэтажной застройки часто повторяется и в 9- и в 16-этажном
исполнении
Подведем итог. Индустриализация требует унификации. Это вполне понятно, так как стандарт лежит в основе любой индустрии. Но вот из требования унификации невозможно однозначно вывести требования типизации. Тем более типизации на уровне всего дома. В самом деле, ведь можно типизировать, то есть сделать стереотипно повторяемым, лишь какую-то часть, какой-то конструктивно-планировочный элемент дома, например секцию, лестнично-лифтовой узел или квартиру. А можно вообще каждый раз собирать совершенно особенный, индивидуальный дом из унифицированных, стандартных элементов заводского изготовления. Индустриализация и унификация в таком случае налицо, а типизация отсутствует. Значит, она не является обязательным условием решения главной задачи массового строительства — его индустриализации. А из этого следует, что типизация жилого дома всего лишь один из возможных путей поиска решения. Причем путь, который, как показывает практика, наряду с достоинствами имеет и серьезные недостатки.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТИПОВОГО ДОМА
Итак, типовой дом. Недостаток типизации — невозможность учесть сложное разнообразие местных условий — особенности климата, рельефа, одним словом — конкретной ситуации. Естественно, что тут уж не приходится говорить о творческом замысле архитектора — типовой дом сводит его участие в проектировании до самого жесткого минимума.
Судите сами. Один архитектор проектирует типовой дом, как правило, в каком-нибудь из центральных, головных институтов. Но проектирует не для конкретного и хорошо изученного им участка, а вообще, на любой случай жизни, для целого огромного региона страны, например для Украины или Сибири и Дальнего Востока. Совсем другой архитектор, никак не связанный с первым, проектирует размещение типового дома на том участке, где его будут строить. Собственно, проектированием это не назовешь, поскольку дом уже спроектирован. Поэтому специалисты придумали особый термин для обозначения этого занятия — они называют его «привязкой». Выполняя «привязку» на местности, архитектор очень мало, по сути дела, никак не влияет на структуру и облик типового дома — в лучшем случае, он может несколько изменить конструкцию входов, выбрать цвет окраски фасада.
Возникает парадоксальная ситуация — у дома два автора-архитектора и в то же время ни одного. Тот, кто создает типовой проект, не несет ответственности за его реализацию в натуре. Тот, кто «привязывает» проект на конкретном месте, не может отвечать за качество принятого другим специалистом архитектурного решения. Так и становится типовой дом «ничейным», анонимным, так сказать, абстрактным. А архитектура, настоящая архитектура не может существовать вне конкретного места и времени, она всегда возникает как отражение вполне конкретных условий и возможностей и вполне конкретной авторской воли.
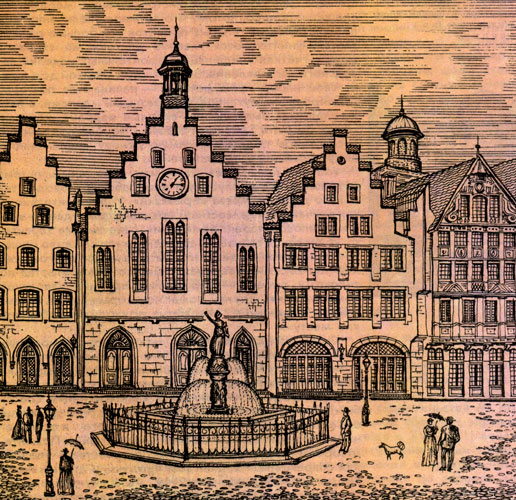
Средневековая жилая застройка кажется сегодня привлекательной по своему облику.
Однако нельзя забывать о том, что по санитарно-гигиеническим качествам она не
отвечает требованиям сегодняшнего дня
Конечно, можно пытаться устранить этот недостаток за счет создания широкого набора типовых проектов, заведомо отвечающих любому разнообразию местных условий. Кстати сказать, в жизни так и происходит — номенклатура типовых проектов неуклонно расширяется, несмотря на все попытки сдержать этот процесс жесткими административными мерами. А сдерживать надо, потому что по мере увеличения числа действующих типовых проектов все больше размывается, уничтожается главное достоинство типового дома — четкая унификация строительных изделий заводского изготовления. Ведь каждый типовой дом имеет свой набор таких деталей — начинаются повторы, дублирование, путаница; под разными марками, в разных формах выпускаются сходные изделия, которые могли бы быть заменены одним... Короче, увеличение числа типов подрывает самую основу современного индустриального домостроения.
Можно попытаться улучшить дело иным путем: разрешить более глубокую переработку, доводку типового дома на месте «привязки». И действительно, в тех случаях, когда местным архитекторам удается внести в типовой проект изменения, отвечающие характеру конкретной ситуации, архитектурное качество решения неизменно повышается. Зато исчезает другое важное технологическое преимущество строительства по типовому проекту — нарушается принцип заводской комплектации изделий дома: некоторые из них оказываются ненужными, некоторые приходится добавлять «по месту».
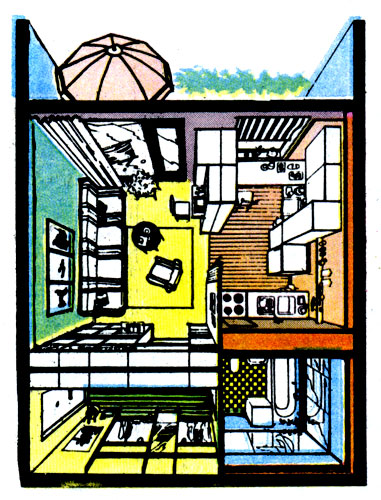
Типовая однокомнатная квартира в современном жилом доме (вид сверху)
Сложностей, связанных с типовым проектированием, стало настолько много, что возникает вопрос: а стоит ли так уж держаться за типовой дом? Нельзя ли обеспечить необходимую современному строительному производству унификацию каким-то иным способом? Тем более что дом все-таки не стал до конца объектом индустриального, заводского изготовления — его приходится «доводить» на стройке. Помните, говоря об индустриализации строительства и уподобляя современный жилой дом продукции других видов промышленного производства, мы вынуждены были сделать оговорку — «почти как телевизор, почти как холодильник». Это «почти» весьма и весьма существенно. Ведь наиболее трудоемкие отделочные работы до сих пор ведутся непосредственно на строительной площадке. По-настоящему индустриально изготовляется лишь строительная коробка здания. Значит, сам по себе типовой дом пока не решает всех вопросов полной заводской готовности строительного объекта. Заводское изготовление объемных блоков-кабин, как об этом мечтал Н. А. Ладовский, хотя и осваивается в ряде случаев строительной промышленностью, все еще остается делом технологически сложным и весьма дорогостоящим, а потому в масштабах страны не выходит пока из стадии экспериментов. Да и принцип комплектации изделий на дом при развитой технологии объемноблочного строительства теряет всякий смысл.
Все эти сомнения в правомерности той безоглядной установки на «типовой дом», которая была принята на первом этапе индустриализации жилищного строительства, стали возникать сразу же по мере того, как накапливался опыт беспрецедентного массового тиражирования жилых домов. Именно в типовом доме стали вполне справедливо видеть одну из главных причин того удручающего однообразия, которое захлестнуло города страны. Появились фельетоны, карикатуры, фильмы, персонажи которых попадали в комическую ситуацию в результате того, что не могли отличить свой дом от чужого. Унификация строительных деталей грозила перерасти в унификацию самой жизни. Технологическая, строительная, архитектурная проблема стала принимать настораживающие очертания общественно значимой, социальной проблемы.
Тут уместно вспомнить, что в истории развития архитектурной мысли, в том числе и у нас в стране, неоднократно высказывались опасения по поводу последствий слишком жесткой, безоглядной типизации. И довольно давно.
ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ
Строительство по типовым проектам отнюдь не является новшеством XX века, как это часто думают. На основе использования типовых и повторно применяемых проектов начиналось строительство Петербурга в самом начале XVIII века. Но к этому моменту в России уже имелся значительный опыт строительства по образцам и из заранее заготовленных сборных элементов. Так поступали, например, еще в XV—XVII веках, когда необходимо было в кратчайшие сроки возводить крепости и военные поселения в приграничных районах. Плотники рубили постройки по заранее заданному образцу там, где был лес, затем разбирали их и, предварительно пометив, перевозили на место строительства. Здесь их собирали вновь, осуществляя «привязку» на местности.
Первая официально утвержденная «серия» образцовых, как их тогда называли, домов, дошедшая до нас в чертежах, была разработана известным архитектором Д. Трезини для застройки Васильевского острова в Петербурге в 1714 году. Это были одно- и двухэтажные дома различной протяженности по фасаду, но единообразные по характеру архитектурного решения. Начиная с 1763 года специальные типовые проекты были разработаны для строительства по меньшей мере двух сотен российских городов из 416, подвергшихся перепланировке в конце XVIII века. Причем для каждого города разрабатывалась своя «серия» — в чертежах и документах обозначено: «фасады примерные против прочих вновь строящихся городов». Не этого ли нам сегодня так не хватает — отличия каждого конкретного города от прочих вновь строящихся? В 1809— 1812 годах было издано пятитомное (!) собрание «фасадов для частных строений в Российской империи», включающее 224 проекта жилых, хозяйственных и промышленных зданий.
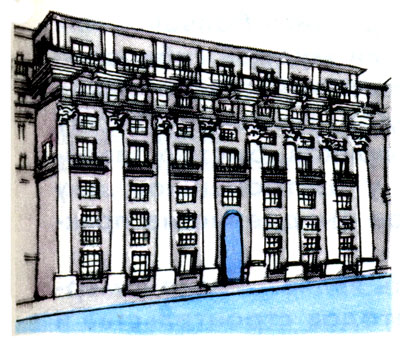
Жилой дом на Моховой улице в Москве. Архитектор И. В. Жолтовский
Так что наши давние коллеги-предшественники (заметим, что к разработке «образцовых» проектов в каждый из этих периодов привлекались лучшие, наиболее именитые зодчие) имели немалый опыт повторного использования стереотипных архитектурных решений. Тем поучительнее то, как они понимали специфику такой типизации, неизбежно возникающей по ходу осуществления широкомасштабных градостроительных мероприятий. Проекты, которые разрабатывали для таких целей российские архитекторы XVIII—XIX веков, не случайно именовали «образцовыми», «примерными», «нормальными». Тем самым подчеркивался рекомендательный, нормативный характер проекта-образца, который допускал возможность внесения изменений в зависимости от конкретных условий реализации.
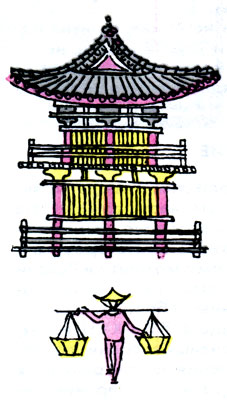
Китайские постройки
Вот что пишет об этом доктор архитектуры С. С. Ожегов в небольшой, но увлекательной книжке, посвященной типовому и повторному строительству в России XVIII—XIX веков: «...типовые фасады рассматривались лишь как рекомендуемый образец, в который в процессе проектирования можно было вносить ряд изменений в соответствии с требованиями заказчика и личными вкусами проектировщика». И далее: «...в проектировании и строительстве использовали лишь общие принципы композиции типовых фасадов и характер их архитектурного декора. В части же размеров, пропорций и прорисовки отдельных фрагментов и деталей они подвергались большим или меньшим изменениям». Не этой ли мудрой гибкостью подхода к типизации объясняется то, что собрание типовых фасадов 1809—1812 годов, по свидетельству современников и по данным историков, быстро завоевало широкую популярность и у застройщиков, и у архитекторов, получило массовое внедрение на практике.
Но, может быть, такая гибкость является закономерным проявлением кустарных методов строительства и неприемлема в условиях его индустриализации? Послушаем тех, кто стоял у истоков движения за индустриализацию массового строительства в двадцатые годы XX века. Давайте не забывать о том, что речь идет о настоящих «поэтах» машины, видевших в новой технологии строительства путь не только к решению социальных задач, но и к новому художественному языку архитектуры. Тем более впечатляют их предупреждения.
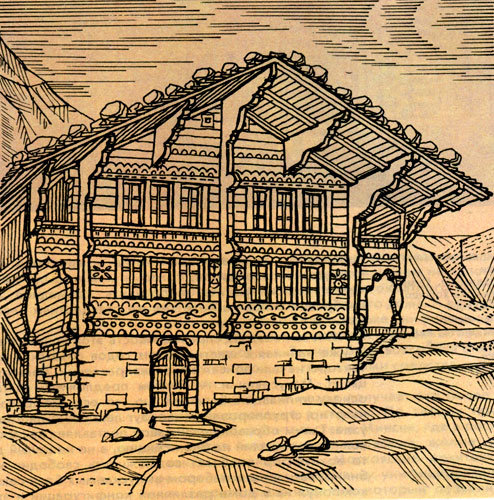
В сельских и горных районах сохраняют свои бесспорные преимущества жилые дома
традиционного типа
Вальтер Гропиус приходит к выводу, что промышленное изготовление строительных элементов целесообразно лишь при использовании элементов небольшого размера. «Только в этом случае можно достичь широкого разнообразия типов зданий, собранных из ограниченного числа типовых элементов. Применение обезличенных элементов массового изготовления позволяет свободно приспособить планировку жилого помещения к изменяющимся потребностям...» — так излагает точку зрения В. Гропиуса известный историк современной архитектуры Ю. Ёдике.
Другой пример — М. Гинзбург. Он также опасался однообразия жилой застройки в случае строительства по типовым проектам жилых домов. Главным направлением типизации он считал «разработку таких стандартных элементов, которые можно было бы всячески комбинировать и получить громадное многообразие типов на базе тех же стандартных элементов».

Современная жилая застройка в Усть-Илимске. Сумеет ли она так же хорошо
приспособиться к специфическим условиям места, как это «удалось» древней
застройке среднеазиатских городов?
Жизнь показала справедливость этой точки зрения. И уже начиная с шестидесятых годов советские архитекторы начали поиски в этом направлении. Ленинградцы Н. Матусевич и А. Товбин предложили взять за основу типизации блок-секцию, то есть комбинацию квартир, сгруппированных вокруг лестнично-лифтового узла. Таким образом, если завод поставляет на стройку комплект изделий на блок-секцию, а не на целый дом, то архитектор получает возможность свободно комбинировать целым набором выпускаемых блок-секций, компонуя их в дома различной конфигурации и этажности. Например, освоив специальную угловую блок-секцию, можно без труда решить проблему углового дома, которая стала казаться почти неразрешимой при типизации на уровне дома — не станешь же для каждого конкретного случая угловой постановки дома разрабатывать отдельный типовой проект. Блок-секция с уступом позволяет изогнуть жилой корпус в нужном направлении, легко обойти группу деревьев или неровность рельефа. Одним словом, при этом методе типовым элементом строительства становится блок-секция, то есть часть дома, а сам дом проектируется всякий раз индивидуально.
Ленинградские архитекторы—создатели блок-секционного метода — убедительно продемонстрировали его преимущества на практике. Уже в 1972—1973 годах они запроектировали и построили по своему методу интересный жилой квартал в районе Сосновая Поляна. Но особенно удался новый жилой комплекс в городе Сестрорецке, построенный в 1983 году, — уступчатые, пластичные объемы, мягко вписанные в рельеф и окружающую зелень, кажется, ничем не напоминают угнетающую монотонность многократного повторения одной и той же пластины типового дома. А ведь результат достигнут на основе все той же унификации индустриальных строительных изделий в условиях полносборного домостроения. Значит, беда вовсе не в стандартизации как таковой, а в том, какими средствами она осуществляется.

Хива. Старый город — Ичан-кала
Блок-секционный метод получает все более широкое распространение в стране. По такому принципу организовано строительство в Минске, где в последнее десятилетие построены интересные жилые районы Восток и Зеленый Луг. Московские архитекторы и строители внедрили в практику унифицированный каталог строительных изделий, который позволит монтировать разнообразные жилые дома на основе, сходной с блок-секционным методом. В разных городах и республиках страны ведется целенаправленный поиск решений, наилучшим образом отвечающих имеющейся строительной базе и специфическим условиям места. Однако смысл всех этих поисков один и тот же — заменить типовой дом типовой блок-секцией.
При всей очевидности преимуществ блок-секционного метода его внедрение связано с решением широкого круга вопросов не столько архитектурно-планировочного, сколько производственно-технологического характера. И потому он входит в жизнь не так быстро, как хотелось бы его создателям и сторонникам. Дело в том, что, хотя блок-секционный метод в полной мере отвечает современным запросам населения и создает предпосылки для создания полноценной архитектуры массового индустриального жилища, он гораздо менее «удобен» для строителя. Тут и выясняется еще одно существенное «достоинство» тигрового дома, о котором мы забыли упомянуть. Примитивную коробку типового дома-пластины монтировать на стройплощадке по одной и той же отработанной технологии куда как проще, чем каждый раз приспосабливаться к новой модификации блок-секционного дома. Но, думается, жизнь не посчитается с такого рода «удобствами» строителей, поскольку они (эти «удобства») оборачиваются все тем же однообразием, неэффективным использованием городской земли — одним словом, серьезными неудобствами и для населения, и для народного хозяйства в целом. Вряд ли кто-нибудь всерьез прислушался бы к такого рода доводам со стороны, например обувщиков, для которых удобнее всего было бы выполнить план одним или даже десятью типами обуви на всю страну. Хочешь не хочешь, а приходится совершенствовать технологию, чтобы поспеть за потребительским спросом. Сегодня пришло такое время и в строительстве. А ведь дом не ботинок. Его не оставишь на прилавке магазина и не выбросишь на помойку. Его будут «донашивать» целые поколения людей — и это определяет великую ответственность перед народом тех, кто его создает, — строителей и архитекторов.
А на повестке дня у советских жилищников новые заботы. Ведь и блок-секционный метод при всех своих достоинствах использует далеко не все возможности индустриального строительного производства. Так же как и типовой дом, блок-секция оперирует жестко фиксированным набором строительных изделий, в который невозможно вносить изменения оперативно, так сказать, «по ходу пьесы». Например, возникает необходимость по-иному решить ограждение лоджий на фасаде дома — надо менять утвержденную номенклатуру изделий блок-секции. Это значит — заказывать дорогостоящую металлическую форму для изготовления нового изделия. Если его надо использовать всего лишь для одного или нескольких домов, это заведомо не окупит необходимых затрат. Железные законы экономической эффективности массового производства, кажется, начисто отвергают такую затею.

Крыша частного дома
Нельзя ли сделать более гибкой, открытой для изменений не только унификацию и типизацию, но и саму технологию индустриального строительства? Что, если сделать сами металлические формы-опалубки, в которых изготавливаются строительные детали, не стационарными, раз и навсегда закрепленными в одном положении, а раздвижными, с тем чтобы можно было без больших усилий варьировать, менять размеры изделия. Тогда изготовление даже небольшой партии изделий не было бы заведомо убыточным. Конечно, такая гибкая технология ставит много новых вопросов и перед работниками промышленности строительных материалов, и перед самими строителями, и перед проектировщиками. И далеко не на все из них сегодня имеются окончательные ответы.
Однако какая бы совершенная и современная технология ни была положена в основу массового индустриального строительства, сама по себе она не обеспечит высокого архитектурного качества жилища и жилой среды в целом. Предположим, что строительная индустрия уже дала в руки архитектора систему унификации, обладающую необходимой степенью гибкости, своего рода идеальный строительный «конструктор», позволяющий собрать из его деталей все, что угодно. Как будет действовать архитектор в этих непривычных для него условиях ничем не ограниченного выбора? Не почувствует ли он себя немного «раздетым» без дежурных ссылок на несовершенства типового дома? Что он положит в основу своих проектных решений?

Крыша жилого дома
ДОМ И ДВОР
Было бы ошибочно полагать, что качество и облик жилища определяются только самим домом. Большое значение имеет и то, каким образом этот дом размещается в пространстве. Причем два эти вопроса самым тесным образом взаимосвязаны, составляют две стороны одной медали, того, что принято называть жилой средой. Значит, было бы неправильно весь негативный эффект пресловутого однообразия современной жилой застройки «списать» исключительно на индустриальное строительство по типовым проектам. Следует поинтересоваться и свойствами тех пространств, которые расположены между домами. Точнее, той пространственной среды, которая формируется в современных жилых кварталах, причем отнюдь не только в связи с требованиями строительной технологии.
Слово «квартал» применяется по отношению к современной жилой застройке скорее по традиции, чем по существу. Нынешний микрорайон, даже если он официально именуется кварталом, имеет очень мало общего со своим прямым предшественником. Кварталом называли участок городской территории, расположенный между проезжими улицами и, как правило, сплошь обстроенный домами по всему периметру. Городские кварталы прошли долгий путь эволюции, прежде чем приобрели к концу XIX века тот традиционный облик каменных островков жилья, прорезанных реками и ручейками улиц, который и сейчас еще можно видеть в некоторых характерных участках центров исторических городов. Изучение этой эволюции надолго увело бы нас в дебри градостроительной истории. Это путешествие еще предстоит нам в другом томе книги, а пока заметим, что именно старый городской квартал послужил отправной точкой для критического переосмысления жилой среды в архитектуре XX столетия.
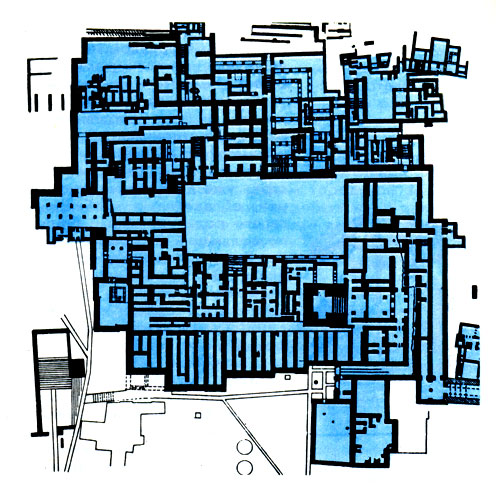
Дворец царя Миноса в Кноссе — легендарный Лабиринт. План
Действительно, к этому времени жилые кварталы городов представляли собой, как правило, удручающее зрелище. Антисанитарные скопления плохо приспособленных для жизни домов, лишенных пространств для отдыха, зелени. Квартиры, которые не имели удобств и в которые часто не проникал солнечный свет. Эта неблагоприятная картина довершалась неудобствами и опасностями, связанными с быстрым развитием городского транспорта.
В подобных условиях наиболее неотложной казалась задача улучшения санитарно-гигиенических условий застройки. В этом направлении и двинулась прежде всего современная архитектура. Были разработаны научно обоснованные параметры и нормативы проектирования жилья. Было признано необходимым ставить дома на расстоянии не менее двойной высоты здания друг от друга — при этом обеспечивается прямое попадание солнечных лучей в жилые помещения квартиры. Наиболее эффективным при этом оказывается параллельное расположение домов, так чтобы окна квартир были обращены не на улицу, а в озелененные пространства между домами. Дома развернулись к улице глухими торцами, и этот прием стали называть строчной застройкой, поскольку однотипное расположение домов напоминало строчку. Это окончательно упрочило главенствующую роль многоэтажного дома-пластины в практике массового жилищного строительства. Романтический образ высоких домов, свободно расставленных в зелени, омываемых пространством, стал одним из символов современного, как его назвал Корбюзье, «лучезарного» города.
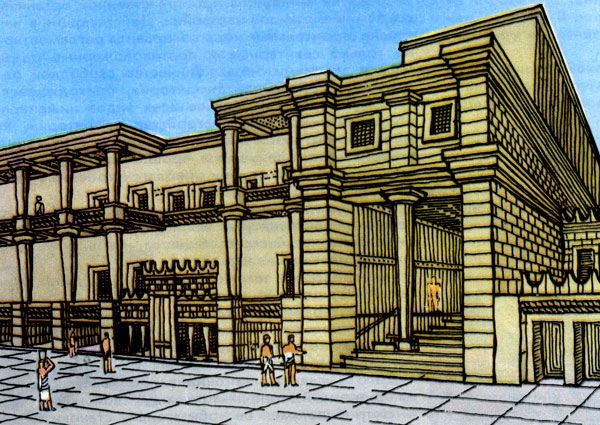
Дворец в Кноссе. Фрагмент фасада
Постепенно подобный прием жилой застройки обрел силу канона. Его развернутое обоснование было зафиксировано в специальном документе, принятом международным конгрессом архитекторов «современного» направления. Этот документ получил звучное название «Афинской хартии», но дело не только в названии — он стал действительно негласным сводом правил современной архитектуры в области градостроительства и жилищного строительства.
Советские архитекторы внесли большой вклад в разработку принципов пространственной организации современной жилой застройки. Действующие в нашей стране строительные нормы и правила регламентируют не только санитарные и противопожарные разрывы между зданиями, но и количество свободной от застройки, озелененной территории, приходящееся на каждого человека, наличие всех видов инженерного оборудования и благоустройства территории, коммунально-бытового обслуживания и т. п. В социалистическом городе ушли в прошлое затесненные, лишенные света и зелени, неблагоустроенные жилые кварталы.
Однако при всех очевидных достижениях современной архитектуры жилища, особенно в условиях социалистического общества, жизнь ставит перед ней все новые и новые задачи.
Мы недаром завели разговор о качестве жилой среды. Ведь оно не исчерпывается санитарно-гигиеническими характеристиками застройки, оно включает еще и недостаточно полно изученные социально-психологические потребности человека. И если посмотреть на дело с этой точки зрения (для чего надо всего-навсего выглянуть из окна своей новой квартиры), то серьезный конфликт между свойствами среды и потребностями ее обитателей становится очевиден.
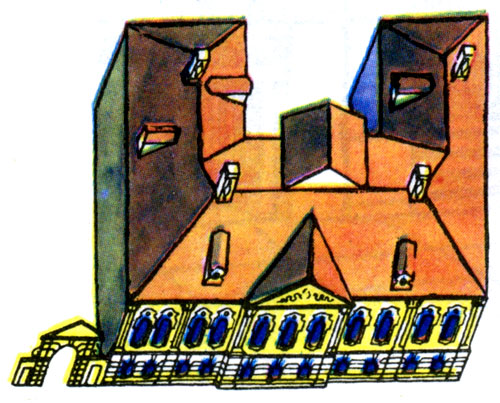
«Образцовый» жилой дом для городского строительства в России XIX в.
Обширные и бесформенные внутриквартальные территории принадлежат одновременно всем домам и в то же время ни одному из них. Человеку трудно визуально соотнести и отождествить в своем сознании какую-либо часть этого нерасчлененного аморфного пространства с собственным местом жительства. В итоге такие пространства часто становятся ничьими, а значит, и плохо осваиваются. Парадоксальная ситуация — места много, но оно нам не нужно. Оно организовано таким образом, что мы не можем признать его «своим». Кажется, и деревьям здесь неуютно, они словно подчеркивают несоразмерный, нечеловеческий характер междомовых пространств. Такая картина назойливо повторяется в разных районах, в разных городах, наконец, в разных странах, порождая самый распространенный и угнетающий порок современного города — синдром однообразия.
Помимо того, что подобная планировочная организация жилой застройки часто оборачивается безхозяйственным использованием драгоценной городской земли, она не формирует у человека (и что особенно важно, у человека, только вступающего в жизнь) устойчивой привязанности к конкретному месту, где он живет, где он родился и вырос. Наш Дом (я не случайно пишу это слово с большой буквы) не продолжается в пространстве города, а значит, и в пространстве нашей культуры — он обрывается на пороге собственной квартиры. Что же упущено, в чем ошибка? В поисках ответа естественно обратиться к опыту недавнего прошлого.
Всегда был двор, и всегда была улица. Веками они существовали рядом, дополняя друг друга, цементируя жилую среду в одно неразрывное целое. Случайно ли это?
Двор был не только эксплуатационно-хозяйственной единицей городской застройки (вспомним: был двор — был и дворник), он составлял своего рода элементарную порцию городского пространства, относящуюся к определенному дому или группе домов. Четко фиксированное, замкнутое пространство городского двора было соразмерно человеку — его легко было пересечь из конца в конец и окинуть одним взглядом. Может быть, в этом проявляется своего рода «атавизм», подспудное воспоминание о далеком прошлом человечества. Ведь двор, интимное, сомасштабное человеку пространство, ограниченное со всех сторон стенами, всегда был значимым пространственным символом не только семейной общины, но часто и более широкого социального коллектива. Этруски называли внутренний двор своего дома атриумом, греки — перистилем, итальянцы — патио. Двор всегда играл заметную роль в русском деревенском доме и в городской усадьбе. Были еще и монастырский двор и университетский.
Но сейчас речь о том непритязательном, часто тесном и даже неприглядном дворе, который составлял основу квартальной застройки до того, как современная архитектура лишила его права на существование.
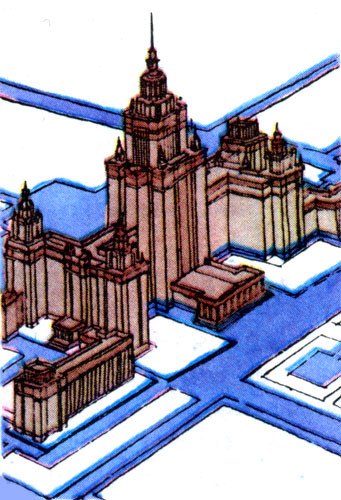
Комплекс МГУ на Ленинских горах в Москве. В боковых крыльях — общежития
студентов и жилье для преподавателей
Теперь на расстоянии нескольких десятилетий хорошо видно, что именно пространственная обособленность замкнутого двора, являясь мерой человеческого масштаба, чем-то вроде естественного модуля застройки, одновременно выполняла важную социальную функцию. Двор был местом общения и — это знает каждый, кто жил в старых городских кварталах, — великой школой социального опыта. Это было отгороженное от внешнего мира, интимное, наполненное конкретным социальным содержанием и поэтому индивидуализированное, «свое» пространство. Оно имело свою историю, свои мифы и легенды, а в чем-то диктовало свои правила поведения. Здесь больше, чем где-либо, ощущалось чувство безопасности, уюта — своего рода «чувство дома», возникающее, однако, не на почве личной собственности («мой дом — моя крепость»), а на почве коллективной принадлежности к определенному месту. Двор, таким образом, становился для горожанина первой ступенью перехода от «я» к «мы», от собственной квартиры к необъятному пространству города, от семьи как элементрной социальной ячейки к сложно организованной человеческой общности.
В совсем иное пространственное измерение человек попадал, выходя на улицу. Протяженное, ориентированное на движение пространство улицы контрастировало с замкнутым, интимным мирком двора, выводило человека во внешний мир. Здесь он получал возможность увидеть со стороны, в ряду других свой дом, который со двора воспринимался им изнутри. Не случайно один фасад был рассчитан на восприятие с улицы и совсем иной — со двора. Два взгляда с разных позиций, два отношения — с лица (мы так и говорим — улица, около лица) и с изнанки обнажали двуединую сущность жилой среды, создавали своего рода стереоэффект ее пространственного восприятия.
Современные градостроительные принципы сводят на нет эти веками устоявшиеся различия. Дом в современной застройке полностью избавился от противоречия между обращенным к улице парадным (то есть г в чем-то ложном) и скромным дворовым фасадами. Нет больше у дома никакой изнанки — он весь открыт наружу, мы узнаем его сразу и целиком, таким, какой он есть, без всякого обмана, но и без всяких прикрас. Но вот парадокс: избавившись от изнанки, мы тем самым избавляемся и от лица. А вслед за тем — и от улицы, потому что без лица не может быть и того, что находится «около» него.

Пожарная лестница
Итак, нет улицы и нет двора. В результате сегодня оказалась разомкнутой традиционная цепочка вкладывающихся друг в друга, постепенно усложняющихся социально-пространственных единиц, «шлюзов», обеспечивающих плавный, естественный переход от индивидуального пространства к общественному: квартира — двор — улица — город — страна. Необходимо восстановить утраченные звенья.
Это, разумеется, не означает призыва двинуться вспять. Мы не должны дать увлечь себя ностальгии по прошлому. И хотя сейчас нередко можно встретить элегические воспоминания о старом дворе — в песнях, в литературе, в фильмах, — дело, конечно, не в воспоминаниях. Речь идет о преемственности по существу, а не о копировании изжившей себя формы. Не о буквальном воспроизведении старой квартальной застройки со всеми ее недостатками — затесненными, непроветриваемыми дворами-колодцами, неоправданно высокой скученностью жилого фонда, узкими, неудобными для проезда улицами и т. д.
Задача состоит в другом — надо внести в массовую застройку новых жилых районов более четкую структурную дифференциацию и индивидуальную обособленность внутренних пространств, сделать их соразмерными человеку, соотнести их с реальными потребностями и уже сложившимися или набирающими силу формами повседневной социальной активности населения (работа с детьми и подростками, спорт, деятельность ветеранов и др.). А проще говоря — сделать внутриквартальные пространства более уютными, человечными.
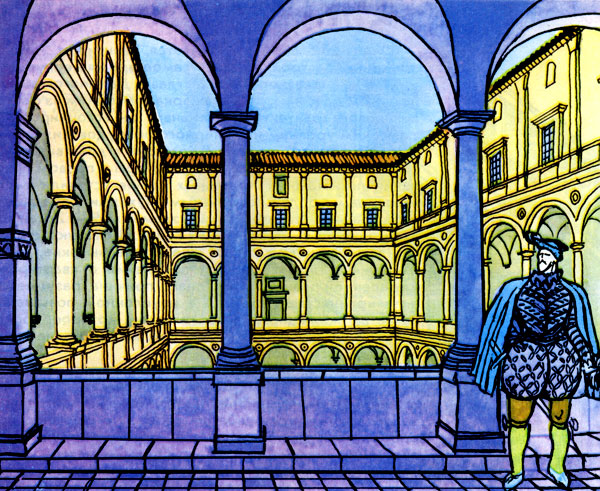
Вид на внутренний двор палаццо эпохи Возрождения
Наша архитектура уже имеет примеры удачного решения этой задачи. В их числе отмеченный Ленинской премией микрорайон Лаздинай в Вильнюсе, уже упоминавшиеся в этой главе микрорайоны Минска и Ленинграда, квартал Кальнечяй-3 в Каунасе. Но все это, к сожалению, пока только единичные примеры, скорее исключения из общего правила. Как же добиться того, чтобы уровень этих лучших образцов стал обязательной для всех нормой? Что тормозит широкое и повсеместное внедрение прогрессивных приемов формирования жилой среды?
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ЭТАЖНОСТИ
Очень многое, как выясняется, зависит от этажности жилой застройки. Здесь самое время вернуться к тому, о чем шла речь в начале главы. Да, многоэтажный дом, дом-пластина, дом-этажерка стал одним из символов новой архитектуры. Поначалу он ассоциировался с высоким уровнем инженерного оборудования и комфортабельности жилища. Да так оно в действительности и было. Малометражные квартиры в первом поколении пятиэтажных панельных домов уступили место квартирам с более просторными кухнями, передними, раздельными санитарными узлами в 9—12-этажной застройке 60-х — начала 70-х годов. В следующем десятилетии вошли в строй еще более высокие, 16- и 25-этажные дома третьего поколения с квартирами улучшенной планировки. Однако причина, разумеется, не в количестве этажей, а в неуклонном повышении качества жилищного строительства, которое просто совпало по времени с переходом ко все более высокой этажности застройке.
Между тем по мере повсеместного распространения многоэтажной застройки стали заметны и ее недостатки. Из окна шестнадцатого этажа не приглядишь за ребенком, играющим во дворе. Не случайно при опросе общественного мнения, проведенном в Чехословакии, выяснилось, что женщины — матери малолетних детей предпочитают квартиру не выше шестого этажа. Солнца на верхних этажах хватает, а вот зеленая крона дерева уже не заглянет в раскрытое окно такой квартиры. Да и на лоджию выйти не всякий захочет — больно свистит ветер.
Но главное — высокая этажность требует больших разрывов между домами по соображениям освещенности и инсоляции. При 16-этажной застройке они достигают 100 метров и более. Это не только разобщает людей, искусственно изолирует их друг от друга, но автоматически ведет к завышению размеров и эффекту «разомкнутости» внутриквартальных пространств. Выходит, при застройке высотой в 16 этажей и более просто невозможно получить достаточно мелко расчлененную структуру этих пространств и добиться тем самым ощущения гуманной, соразмерной человеку жилой среды.
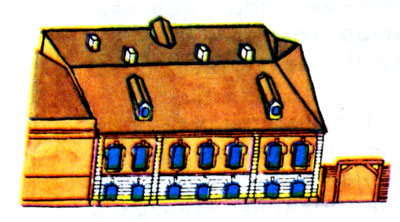
«Образцовый» жилой дом для городского строительства в России XIX в.
Конечно, у многоэтажной застройки есть многие важные преимущества, главное из которых — высокая плотность жилого фонда, а значит, экономия на освоении территории. Но и это несомненное достоинство не является безоговорочным. Во-первых, плотность растет с увеличением этажности небеспредельно. Расчеты показывают, что при переходе от 9—12 этажей к 16 этот рост практически прекращается: необходимость увеличивать разрывы между зданиями сводит на нет выигрыш от наращивания числа этажей. Между тем технические сложности, связанные со строительством и эксплуатацией здания, с увеличением этажности растут.
В то же время застройка малой и средней этажности может обеспечить достаточно высокие плотности освоения территории, если и не такие же, как многоэтажная, то, во всяком случае, сопоставимые с ними при определенных условиях, когда необходима высокая градостроительная маневренность домов. Это относится, например, к затесненным участкам сложившейся части города, к территориям со сложным рельефом и большой лесистостью. Одним словом, ко всем ситуациям, когда высоким зданиям не хватает места «развернуться».

Японский жилой дом с легкими раздвижными перегородками, взаимным проникновением
внутреннего и внешнего пространства может служить прототипом гибкого,
свободного плана
Вот и возникает мысль: а нельзя ли сочетать высокую этажность с малой и средней — они могли бы во многих отношениях помочь друг другу. С одной стороны, низкая застройка могла бы заполнить часть тех свободных территорий, которые не используются в разрывах между высокими зданиями — ведь четырехэтажные дома могут отстоять друг от друга всего на 25—30 метров, а двухэтажные и вовсе на 12—15. Естественно, что плотность такой смешанной застройки будет больше, чем у высокой и низкой, взятых в отдельности.

Микрорайон «Сосновый бор» в Ленинграде. Благоустройство детской игровой
площадки
С другой стороны, застройка малой и средней этажности позволит без труда организовать уютные, человечные архитектурные пространства — небольшие замкнутые и полузамкнутые дворы, в том числе и у подножия высоких 16-этажных домов, возродить неширокие пешеходные улицы, обстроенные с двух сторон домами, создать интимные внутриквартальные площади. Ну и конечно, сочетание домов разной этажности позволит создать живописный, запоминающийся силуэт застройки, да и вообще сделает ее гораздо более разнообразной.
Есть и еще одно важное обстоятельство. Не все люди, вынужденные жить в многоэтажном доме, как безусловно доминирующем типе городского жилья, могут смириться с «отрывом от земли». Они чувствуют себя неуютно в бетонном ящике квартиры, подвешенном на высоте десятого этажа. И неистребимое, вечно дремлющее в человеке желание «покопаться» в земле, просто увидеть траву или дерево у порога своего дома властно гонит их на природу, за город, туда, где они могут иметь маленький домик на садовом участке. Крупные города уже сейчас окружили себя плотными скоплениями этих странных городов-садов, в которых куда больше мечты о природе, чем самой природы. Поневоле думаешь, как неуютно должен чувствовать себя человек в своем основном, городском жилище, чтобы стремиться в этот унылый «рай». Как знать, если бы в черте города можно было поселиться в сблокированном двухэтажном доме с палисадником, то, глядишь, и такая нужда отпала бы сама по себе. За таким решением есть и немалая экономическая выгода: один дом всегда дешевле, чем два дома. Да и ценная пригородная земля, которая в больших количествах идет под садовые участки, могла бы быть использована с большей пользой для города.

Качество жилой среды — это не только архитектура жилых домов, но и архитектура
земли, благоустройство придомовых территорий
Одним словом, идея сочетать «лучезарный город» с «городом-садом» кажется сегодня многообещающей и вполне реалистичной. Тем более что обратное вторжение малоэтажной застройки в современный город уже началось и идет полным ходом. В странах Западной Европы строительство сплошь многоэтажных жилых районов за последние 10 лет стало редкостью. В социалистических странах малоэтажное строительство составляет около 50 процентов от общего объема городского жилищного строительства. Такая тенденция получает распространение и в нашей стране. Она связана с размещением жилищного строительства на уже освоенных городских территориях, неудобных землях, с уплотнением сложившейся городской застройки, то есть в экономическом плане в полной мере отвечает общему курсу на интенсивное развитие народного хозяйства.
Нет, это не нарочитая «одноэтажная Америка» пригорода. И вовсе не только традиционные два этажа индивидуального дома. Это и три, четыре, и шесть этажей в сочетании с еще более высокой застройкой. Но включение в палитру градостроителя домов малой и средней этажности — это не прихоть, а необходимое условие создания полноценной жилой среды, отвечающей реальным потребностям человека. Богатая история архитектуры жилища убеждает в том, что решение важных социальных проблем и прогресс техники часто идут рука об руку, словно подстегивая друг друга. В этом отношении ориентация на застройку домами смешанной этажности может оказать благотворное влияние на дальнейшее развитие индустриального домостроения, стимулирует освоение более гибкой строительной технологии. Такой, о которой уже говорилось выше и которая позволит лучше реагировать на все многообразие насущных потребностей человека и на специфические условия конкретного места.
ЧТО ВИДНО НА ГОРИЗОНТЕ
Тема жилища поистине неисчерпаема. Но ею не исчерпывается все многообразие окружающего нас мира архитектуры. Подошло время двинуться дальше, и, прежде чем сделать это, окинем взглядом получившуюся картину и попытаемся разглядеть то, что прячется в дымке нашего сегодняшнего горизонта.
Похоже, жилой дом теряет четкие геометрические очертания дома-пластины. Он словно рассыпается на те ячейки, из которых так старательно и долго собирала его современная архитектура. К этому ведет смешанная застройка домами разной этажности. К этому ведут поиски соразмерной человеку, гармоничной жилой среды с уютными, замкнутыми внутриквартальными пространствами, которые служили бы естественным продолжением жилища. К этому ведет логика развития индустриального домостроения, которая проявляется в уменьшении модуля типизации и создании гибкой технологии. Все это заставляет представить дом, не имеющий заранее определенных границ, а возможно, и меняющий время от времени эти границы. Дом-муравейник, мини-город со своими внутренними улицами, площадями, дворами.

«И снится нам не рокот космодрома...»
Такой образ сформировался не сразу, но начало дороги, которая к нему ведет, теряется в глубине веков. Кажущийся хаос первобытных поселений человека, живописные нагромождения домов средневекового города, прилепившиеся к скалам дагестанские сакли... Последний, более близкий к нам отрезок этого пути виден лучше. Он начинается яркой вспышкой архитектурного предвидения 20-х годов. Дом-коммуна предлагал законченную модель дома-города. Жесткую и социально не всегда оправданную, мало реальную, но вполне последовательную и внутренне завершенную. Это не один дом, а развитая в пространстве целостная система домов — корпуса спальных ячеек, блок общественного обслуживания, соединительные галереи, придомовый участок-сад. Коммунальный дом Гинзбурга воспроизводит эту модель в более осторожной и реалистичной форме. Но главное остается: тесное переплетение жилых и общественных функций в единой структуре пространственно развитого сооружения. С тех пор модель дома-коммуны, повторенная на разные лады, под видом дома с обслуживанием или дома гостиничного типа все время существует параллельно с моделью микрорайона, то есть соседской общины, состоящей из отдельных жилых домов и отдельных объектов обслуживания. Очередная попытка создания такого дома-города была предпринята при строительстве Дома нового быта на Юго-Западе Москвы в 60-е годы под руководством архитектора Н. Остермана. Другой московский пример: жилой комплекс «Лебедь» на Ленинградском шоссе — многоэтажные жилые корпуса с развитым обслуживанием в первых этажах, — построенный по проекту архитекторов А. Меерсона, Е. Подольской и др.
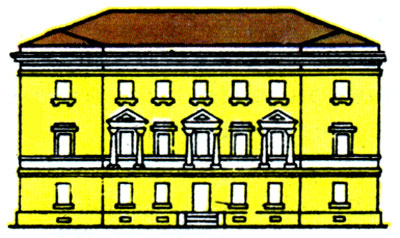
«Образцовый» жилой дом для городского строительства в России XIX в.
Пока что модель микрорайона доминирует, но она далеко не во всем удовлетворяет жителей, а значит, и наиболее мыслящих архитекторов. Поиски решения продолжаются и у нас, и за рубежом. Еще в конце 40-х годов на тему дома-города высказался Корбюзье — он строит в Марселе ставший знаменитым жилой дом с обслуживанием. Со свойственной ему категоричностью он придает своей жилой единице форму гигантского параллелепипеда, поднятого на мощные бетонные опоры. Однако марсельский дом не похож на традиционный дом-пластину. Его фасад наглядно демонстрирует всю сложность внутреннего устройства — вертикали лестниц и горизонтальные ленты общественных улиц-этажей, причудливые очертания эксплуатируемой кровли с детскими игровыми площадками, скульптурная пластика монолитного основания дома. И что самое примечательное — каждая квартира выходит на фасад отдельной бетонной ячейкой. Словно отдельный ящичек, вставленный в гигантский шкаф-картотеку. Кажется, еще одно движение — и дом рассыплется, настолько четко выявлены все составляющие его элементы. Но Корбюзье именно этого последнего движения не делает. Он находит зыбкое, единственно возможное равновесие рассыпающихся частей, словно оставляя на память о своем чудодейственном мастерстве эту сложную структуру, искусно «упакованную» в компактный объем.

В крупном современном городе жилая застройка непосредственно соседствует с
транспортными артериями. Центральный автовокзал в Нью-Йорке
Распакуют ее уже другие. Последователи идут разными путями. В начале 60-х годов в английском городе Шеффилде строится совершенно необычный дом, в котором несколько разноэтажных корпусов соединены в одну жилую структуру сквозными улицами-галереями. По размерам это микрорайон, по архитектурному решению — единый дом. По сравнению с марсельским домом движение очевидно — структура получает свободное развитие в пространстве. Однако сохраняется компактная упаковка ячеек, не нарушающая традиционной формы дома-пластины в каждом сечении структуры.
В 1967 году в канадском городе Монреале архитектор М. Сафди строит жилой комплекс «Хабитат», напоминающий гору рассыпанных бетонных кубиков-квартир. Ячейки наконец вынуты из «шкафа», и оказалось, что они могут обходиться без него. Опыты с жилыми структурами продолжаются. Дом-город становится реальностью. Один из таких опытов — экспериментальный жилой район Северное Чертаново в Москве.
Может быть, многое еще не найдено в облике дома-города, может быть, дает о себе знать ненужная гигантомания и наивное увлечение футорологией. Может быть, в поисках образа такой структуры правильнее отталкиваться от живописной панорамы средиземноморского города, чем от мостовых конструкций и индустриального ландшафта. Может быть, не следует доходить до самой крайности в этом разрушении дома и так настойчиво растаскивать его на ячейки. Может быть, стоит в некоторых случаях поискать что-то похожее на дом внутри этого дома-города, точно так же как мы ищем нечто похожее на двор или улицу. Может быть, пространственная форма этого дома-города станет гораздо более правильной и геометрически упорядоченной, чем это кажется нам сейчас. Но так или иначе главное совершилось, и совершилось необратимо — жилой дом перестает быть домом в смысле отдельно стоящего объема-пластины. Он превращается в объемно-пространственную структуру, включающую в себя объекты общественного обслуживания, открытые пространства общего пользования и жилые ячейки-квартиры.
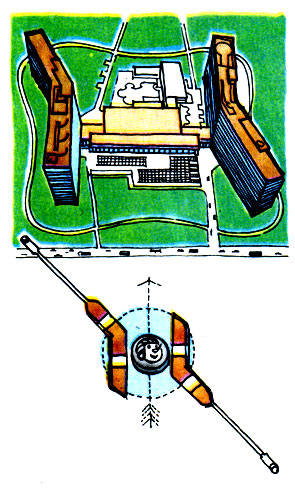
Проект жилого комплекса нового быта в Москве. Между жилыми корпусами — блок
общественного обслуживания
Какими они будут, эти ячейки? Очень хочется заглянуть внутрь. Похожими на современную квартиру или на традиционное народное жилище с внутренним двориком? Или будут больше напоминать внутренность кабины современного космического корабля? На Западе попыткам представить себе такое электронно-компьютерное жилище нет числа. Использование легких конструкционных материалов типа пластмасс. Совершенное инженерное оборудование, роботы, аудиовизуальные системы. Гибкая трансформация внутренней планировки и оборудования, вплоть до полной замены всей ячейки. За каждым из этих предложений — целое техническое направление. Но что из этих новшеств войдет в жилище человека и каким именно образом?
Японский архитектор Кишо Курокава построил в Токио жилой дом, состоящий из стальных жилых капсул, которые крепятся на мощные железобетонные шахты. Каждая капсула оборудована сложной системой жизнеобеспечения, в том числе и компьютером. Любопытный факт: капсулы используются богатыми арендаторами (другим это просто недоступно) в качестве второго жилища. Выходит, даже в самом модном исполнении «машина для жилья» все-таки отпугивает.
В чем дело? Ответ заключен в словах Корбюзье, с легкой руки которого по миру пошла крылатая фраза о доме как машине для жилья. Но если уж цитировать, то надо вспомнить, что это не фраза, а всего лишь обрывок фразы: «Дом имеет два назначения. Во-первых, это машина для обитания, работы, удобства жизни... но кроме того, это — место для наших дум, размышлений и, наконец, это — место для обиталища красоты, приносящее нашему уму столь необходимое ему успокоение». И дальше: «Архитектура начинается там, где кончается машина».
Если взглянуть на жилые капсулы с такой позиции, то их будущее представляется проблематичным. Может быть, они найдут применение в строительстве гостиниц, временных или мобильных жилищ. Может быть, отработанные в них методы организации и оборудования жилого пространства будут со временем проникать в массовое жилище. Но только постепенно и с большой оглядкой. Дом консервативен, ибо неотделим от устоев и воспитания самой человеческой личности, а в их основе лежит традиция.
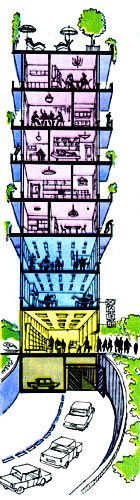
Так архитекторы представляют себе вертикальное зонирование многоэтажного жилого
дома. Снизу вверх: гараж, магазин, учреждение, жилые кварталы, сад на крыше
Конечно, транзисторный приемник мало похож на круглый черный репродуктор моего детства, а электронный калькулятор выглядит совсем иначе, чем деревянные счеты, хотя размеры и назначение помещений квартиры, в которой я живу, не очень сильно отличаются от той, в которой я вырос. И все-таки люди слишком часто имели возможность смеяться над собственными представлениями о будущем. Поэтому давайте предоставим возможность дописать эту главу тому, кто будет жить хотя бы четверть века спустя уже в двадцать первом веке.
Пускай в назначенный час ОН (вполне возможно, что это будешь как раз ТЫ, читатель), отдав очередное распоряжение домашнему роботу, возьмет в руки эту книгу и неторопливо подойдет к окну. Раскроет его и отключит шумозащиту, чтобы звуки вечернего города вошли в помещение. Вдохнет полной грудью чистый воздух будущего и опишет на этой странице дом напротив — мерцающий огоньками, как встречный корабль, с которым мы разминулись на волнах времени.
Главная мысль
Долгая эволюция архитектуры жилища демонстрирует великое множество разнообразных форм, от традиционного крестьянского дома до представительной дворцовой резиденции.
XX век стремится к органическому, функционально целесообразному предметно-пространственному окружению человека, использованию новых строительных материалов и конструкций. Это приводит современную архитектуру к компактной концентрации жилых ячеек-квартир в простом геометрическом объеме дома-пластины, свободно стоящего в пространстве. Решение жилищной проблемы заставляет тиражировать такие дома в массовом порядке.
На первый план выдвигается новая социальная задача создания полноценной, разнообразной, человечной жилой среды. Создание гибких, открытых систем индустриализации позволит широко применять жилые дома разной этажности и разной конфигурации, отвечающие конкретным условиям места. Будущее — за домом-структурой, объединяющим жилые ячейки с элементами обслуживания и открытыми пространствами в одно архитектурное целое.
ГЛАВА 5. ВЕЧНЫЙ ТЕАТР
Как театральное действие перебралось из-под открытого неба под крышу здания.
Почему ярусный театр называют еще и ранговым.
Актеры возвращаются на авансцену.
Дом для Станиславского и дом для Мейерхольда.
Есть ли пределы трансформации и отжила ли свой век сценическая коробка.
Если вместо занавеса раздвинуть стену.
О чем говорят метаморфозы театра.

Вечный театр
ДЕЙСТВИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Театр. Есть в этом понятии внутренняя динамичность, что-то символическое и особенно волнующее человека. Иногда пугающее, но всегда притягательное сходство с самой жизнью. Театральная терминология часто служит для описания реальных событий, весьма далеких от условной действительности театра: говорится «играет роль», «жизненная драма», «театр военных действий», «на подмостках истории» и т. п.
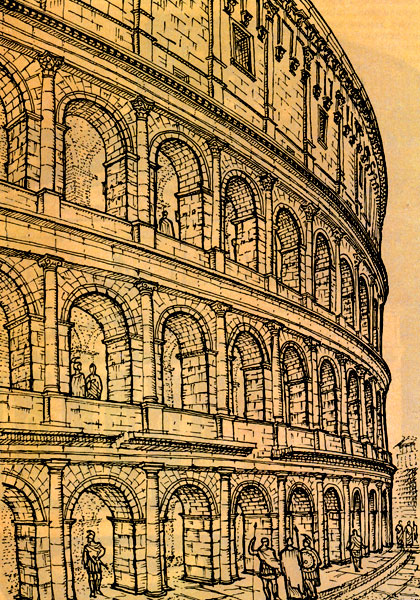
Колизей в Риме
Когда входишь под своды театра, едва ли думаешь о том, что продолжаешь традицию, которая насчитывает никак не меньше двух с половиной тысячелетий. Действительно, если не считать жилого дома и храма, театр — самая древняя архитектурная постройка человека. Главная функция жилого дома, каким бы большим и представительным он ни был,— изолировать человека, создать пространство, где он чувствовал бы себя свободным от посторонних взглядов, предоставленным самому себе и узкому кругу близких людей. Главная функция театра, каким бы небольшим и скромным он ни был, — создать пространство для зрелища, коллективного действия, то есть совместного пребывания и общения большого количества незнакомых друг другу людей. В этом смысле театр является не только пришедшим из древности «реликтовым» сооружением, но и прототипом большей части тех общественных зданий, которые строятся сегодня. Кинотеатр, клуб, Дворец спорта, университет, гостиница, административное здание, высшее учебное заведение — трудно найти такой тип современного сооружения, который не включал бы в себя элементы театра. Поэтому прошлое, настоящее и будущее архитектуры театра заслуживают особого разговора.
Интересно, что, несмотря на все преобразования, которые претерпело театральное сооружение на протяжении своей многовековой истории, его структурно-функциональная первооснова и главные элементы остались неизменными. Правда, сам тип театра как отдельного здания, имеющего обособленное внутреннее пространство, сложился не сразу. И зрители первых в истории театров в отличие от нас не могли входить под их своды по той простой причине, что сводов не было.
Во всяком случае, первые из известных в истории театров были расположены под открытым небом — в Афинах, Эпидавре, Милете, Мегалополисе, Приене. В который раз, обращаясь к истокам архитектурной традиции, мы снова оказываемся в античной Греции. Само слово «театр» от греческого «театрон». Так называли места для зрителей, расположенные на пологом склоне естественного холма и обращенные в сторону круглой «орхестры» — площадки или арены, на которой выступали хор и актеры. С другой, противоположной театрону стороны ставили палатку или небольшое легкое сооружение для переодевания актеров — оно называлось «скена». Это и есть зачаток будущей сцены. Все эти элементы позднее сильно трансформируются, однако сохранят свое определяющее значение на все времена.

Ритуальные построения
Вначале неправильная форма театрона постепенно приобрела геометрическую завершенность - места зрителей стали располагать по кругу. Обычно они занимали несколько больше полукруга, образуя два полукольца, разделенных широким проходом. Более узкие радиальные ступенчатые проходы разделяли театрон на правильные секторы. Для удобства зрителей сооружали помосты и сиденья, сначала из дерева, но уже с V века до нашей эры их стали делать каменными.
Название «орхестра» означает место танцев. Это указывает на ритуальную основу театрального действия, которое развилось у греков из обрядовых игр в честь бога плодородия Диониса. Об этом же говорит и то, что в центре орхестры долгое время сохранялось место для алтаря. Но классический греческий театр не случайно получает свое название по театрону, то есть местам для зрителей, — это подчеркивает зрелищный, общедоступный, светский характер сооружения. Так происходит первое «ответвление» на долгом пути развития apxитектуры общественных сооружений — сколько их еще будет впереди, а пока что театр отделяется от культовой постройки и становится первым в мире общественным зданием светского, некультового назначения.
По мере того как театральное действие утрачивает ритуальный характер, орхестра постепенно перестает служить главной ареной представления. «Скена» — по-гречески «палатка», «шалаш». И действительно, вначале она появилась — ее изобретение иногда приписывают великому греческому трагику Эсхилу — как вспомогательное помещение для актеров. Именно Эсхил сделал решающий шаг в создании античной трагедии, когда ввел в представление второго актера. Хор, традиционным местом которого была орхестра, стал уступать свое доминирующее значение театральному диалогу, драматическому конфликту, сценическому действию актеров. Это приводит к быстрому усложнению конструкции сцены.
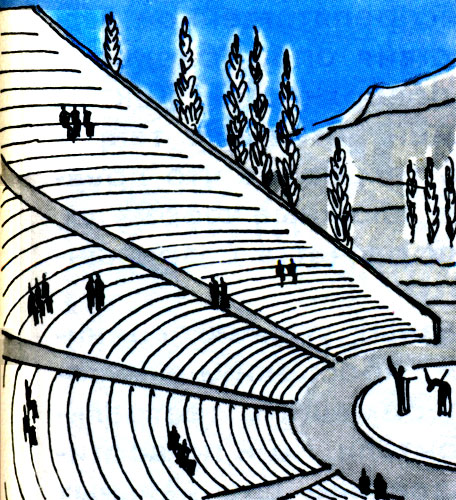
Древнегреческий театр — амфитеатр и орхестра
Эсхил творил в конце VI — первой половине V века до нашей эры. А уже в конце того же века, всего несколько десятилетий спустя, в комедиях другого великого греческого драматурга — Аристофана актеры обращаются к публике с просцениума, специальной «приподнятой площадки, расположенной между орхестрой и скеной. Отсюда и название «просцениум», перед сценой. Кстати, иногда в греческих источниках просцениум называют логейоном — местом, откуда говорят.
Таким образом, просцениум превратился в главное место театрального действия — собственно сцену, обращенную в сторону театрона. С обоих боков просцениум был огражден специальными помещениями для хранения театрального инвентаря (наподобие современных сценических «карманов»), а сзади — стеной скены, которая представляла собой двух- или даже трехэтажное сооружение, связанное с просцениумом тремя проемами. Много веков спустя они превратятся в портал наиболее распространенной до сих пор глубинной, или кулисной, сцены. Обращенный наружу фасад скены имел колоннадный портик, который служил для укрытия зрителей в непогоду (своего рода вестибюль или фойе античного театра), — еще один элемент, который стал традиционным для театрального здания на очень долгие времена.
Характеристика греческого театра будет неполной, если не упомянуть о его размерах. Они способны поразить воображение даже и сейчас, когда достижения техники приучили нас к гигантским масштабам человеческих свершений. Судите сами — знаменитый театр Диониса в Афинах достигал в диаметре 85 метров и вмещал, по разным источникам, от 17 до 30 тысяч зрителей. Театр в Мегалополисе, один из самых больших в Греции, вмещал свыше 40 тысяч человек и имел в поперечнике около 140 метров! (И это при том, что население греческих городов измерялось не сотнями, а всего лишь десятками тысяч человек.) Чтобы обеспечить видимость на большом расстоянии, актерам приходилось вставать на специальные деревянные подставки — котурны, надевать яркие рельефные маски, позволяющие издалека распознать действующее лицо.
Что же касается акустики — едва ли не главного «камня преткновения» для современных театральных сооружений, то в античном театре она, по признанию специалистов, была идеальной. В числе причин называют усиление звука резонирующими поверхностями деревянных полов сцены и щитов ограждения просцениума, но главным образом — беспрепятственное распространение звука ввиду отсутствия опор, барьеров и каких-либо иных отражающих поверхностей. Как бы то ни было, акустический феномен античного театра продолжает удивлять до сих пор, тем более что древним зодчим не были известны те сложные формулы, по которым ведется акустический расчет в современных театральных сооружениях.
Наличие расположенных в разных уровнях сценических площадок — орхестры и просцениума — создавало возможность активно перемещать театральное действие не только по горизонтали, но и по вертикали. Добавьте к этому использование специальных театральных механизмов, создававших иллюзию полета по воздуху, эффекты грома и молний и т. д., и вы получите некоторое представление о мощи эмоционального воздействия греческого театра.
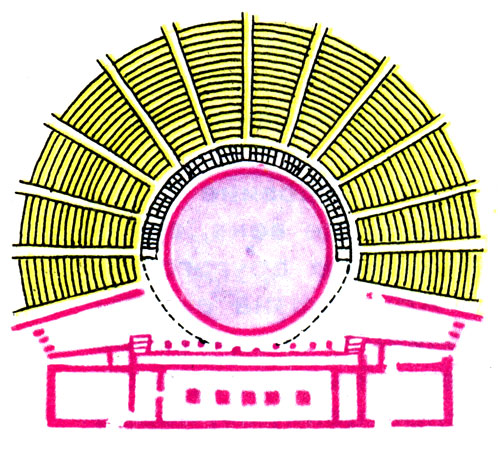
План театра в Милете, Древняя Греция
Огромная толпа зрителей, едва ли не все население города, собравшееся в одном месте под открытым небом. Сценическое действие, которое в качестве фона естественно включает в себя город, раскинувшийся у подножия театрального холма, и тающие в дымке дали окружающего пейзажа. Кажется, самые дерзкие мечты режиссеров современного театра, мечтающих слить театральное действие со зрителями, с городом, с пейзажем, уже сбылись, но не в далеком будущем, а в далеком прошлом — двадцать пять веков тому назад. Однако для того чтобы театр захотел опять раздвинуть свои стены, их оказалось необходимым сначала возвести.
ТЕАТР СТАНОВИТСЯ ЗДАНИЕМ
Древние греки строили крытые сооружения, напоминающие театры. Это залы городских собраний — булевтерии. Расположенные полукругом или в форме буквы П места заключены в прямоугольную «коробку» наружных стен; для перекрытия, помимо этих стен, используются внутренние опоры. Однако все же это не театры — и дело не столько в небольших размерах булевтерия, сколько в том, что он практически не имеет сцены — важнейшей «рабочей» части всякого театрального сооружения.
Первыми окружили театр капитальными стенами, превратили его в отдельно стоящее здание ближайшие исторические преемники древних греков — римляне. «Хлеба и зрелищ» — таков был вошедший в историю лозунг римского плебса — жителей вечного города, которых стремились удержать в повиновении властители империи. Зрелища нужны как хлеб, и императорский Рим строит театры. Их много, и они, подобно античным, имеют очень большую вместимость. Три римских театра — Бальбы, Марцелла и Помпея — рассчитаны соответственно на 8, 12 и 15 тысяч человек. Это тем более впечатляет, что римские театры строились, как правило, на ровном месте, и для сооружения гигантского наклонного полукруга зрительных мест использовались сводчатые конструкции. Чтобы зрители могли попасть на свои места, строили специальную систему радиальных лестниц и кольцевых кулуаров.
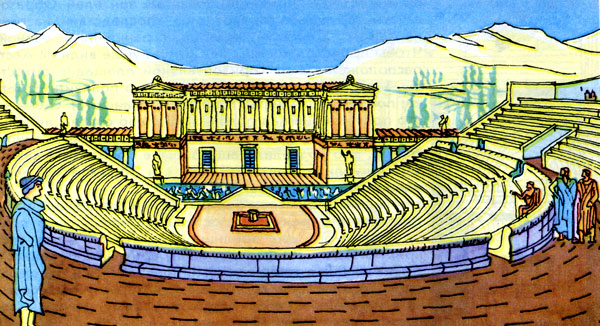
Театр в Эфесе, Древняя Греция
Вместе с тем римляне увеличили размеры и усложнили конструкцию сцены, которая тянется почти на всю ширину полукруга зрительской части. Теперь уже можно сказать — на всю ширину зрительного зала, потому что театр превратился в сооружение, окруженное со всех сторон стенами одной высоты — многоярусный фасад сцены поднялся до отметки верхнего ряда зрительных мест. Роль перекрытия чаще всего выполнял тент, однако строили римляне и театры с капитальным сводчатым покрытием. Правда, меньшей вместимости, как, например, Малый театр или Одеон в Помпеях — на 1500 человек.
Поскольку театральное представление у римлян не включало традиционный греческий хор, орхестра оказалась ненужной для актеров, и на ней стали размещать места для привилегированных зрителей. Образовалась та часть зала, которую впоследствии назовут партером. Действие актеров ограничилось сценой. Чтобы происходящее на ней было лучше видно с мест, расположенных на горизонтальной площадке орхестры — партера, пришлось значительно понизить отметки пола (специалисты говорят — планшета) сцены — его превышение над полом зала стало совсем небольшим — 1,5 метра, как это и сохраняется в современном театре. Это позволило еще больше приблизить действие к публике, слить их вместе в общей атмосфере единого пространства.
Именно в римском театре сделан решающий шаг в создании внутреннего пространства, специально приспособленного для зрелища, для углубленного восприятия сценического действия зрителем. Именно в Древнем Риме театр впервые превратился в отдельно стоящее объемное сооружение, которое имеет сложную внутреннюю структуру и по своему значению является важнейшим в городе.
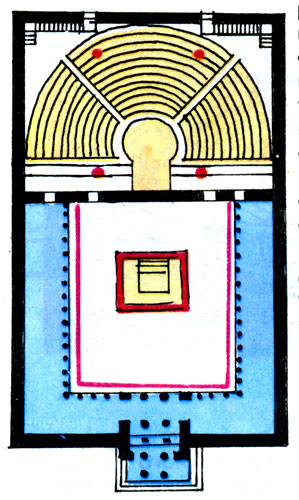
Булевтерий в Милете. План и интерьер
Богатая, изощренная культура Древнего Рима вызвала к жизни и другие родственные театру типы зрелищных сооружений. Прежде всего это амфитеатры, или двойные театры, где ступенчатые субструкции зрительных мест сплошным кольцом обступают открытую арену действия. Здесь происходили бои гладиаторов и травля зверей. Иногда даже морские баталии — с помощью специального инженерного оборудования арена амфитеатра могла быть превращена во вместительный бассейн. Римский амфитеатр не только стал прообразом современного стадиона или Дворца спорта, он впервые продемонстрировал принцип сцены аренного типа, когда действие со всех сторон окружено зрителями. Зрители видят представление уже не во фронтальной плоскости сценической картины, а объемно, так сказать, на фоне самих себя, более полно ощущают себя участниками происходящего. Не случайно новаторская сценография XX века так настойчиво экспериментирует именно со сценой аренного типа.
Гигантский эллипс римского амфитеатра Флавиев — знаменитого Колизея — имеет 188 метров по большой оси и 156 метров по малой при общей высоте здания 44 метра. По самым осторожным подсчетам, он вмещал 50 тысяч человек, а при максимально возможной загрузке — до 90 тысяч. Это вполне сопоставимо с построенным в 1980 году в Москве уникальным спорткомплексом «Олимпийский», который имеет размеры по осям 224 и 186 метров и вмещает 45 тысяч человек. Учитывая, что Колизей старше «Олимпийского» ни много ни мало на 1900 лет, нельзя не отдать дань уважения размаху и мастерству древних зодчих.
Еще более вместительными и впечатляющими по своим размерам были римские цирки, прототипом для которых служили древнегреческие гипподромы, специально оборудованные для конных состязаний. Большой цирк — Циркус максимус — в Риме был рассчитан на 250 тысяч зрителей и имел длину арены 550 метров при ширине ее 90 метров. Это, по-видимому, самое крупное из всех когда-либо построенных человеком зрелищных сооружений.
Элементы зрелища были и в термах — наиболее сложных по своей внутренней структуре общественных сооружениях Древнего Рима. Однако о них речь пойдет впереди, а пока вернемся к театру. Хотя, как явствует из названия главы, театр вечен, нам предстоит теперь перешагнуть через глубокий провал, длительную паузу в его истории. Потому что с крушением Римской империи театральные здания, да и само драматическое искусство в его античном понимании оказались заброшенными и забытыми на долгие, долгие годы.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
Но театру суждено было родиться вновь. Первые упоминания о представлениях театрального характера в средневековой Европе относятся к VII веку. Собственно, это еще не спектакль, а театрализованное зрелище на религиозную тему, которое разыгрывалось чаще всего в церкви или на церковном дворе. Позднее сюжеты таких представлений стали более разнообразными и уже не исключали светской тематики. Появились бродячие труппы актеров. Излюбленными местами для их выступлений были гостиные дворы с выходящими туда балконами и галереями. В качестве сцены использовалась открытая площадка в одном из концов двора.
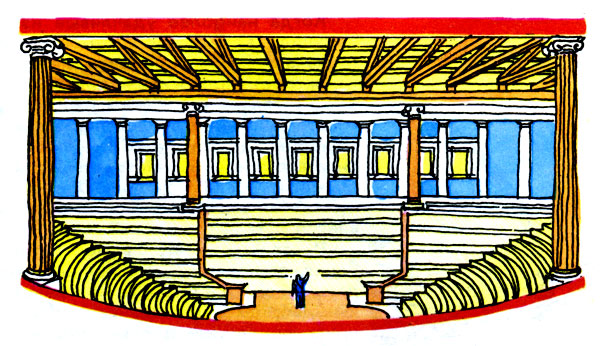
Здание театра
Когда наиболее удачливые из театральных трупп получили возможность строить собственные здания (поначалу это были деревянные постройки временного характера), прототипом для них служил все тот же двор с галереями. Таким был, по мнению историков театра, знаменитый шекспировский театр «Глобус» в Лондоне, где труппа «Слуги лорда-камергера» поставила все пьесы великого английского драматурга, написанные после 1594 года. Легендарный театр просуществовал всего 45 лет — он был построен в 1599-м и снесен в 1644 году.
Постепенно театральные и музыкальные представления становятся излюбленным развлечением феодальной знати и высшего духовенства. В своих роскошных дворцах они устраивают помещения, специально приспособленные для выступлений актеров и музыкантов. Театр снова завоевывает свои права, и к концу XVI века театральное здание возрождается как монументальное архитектурное сооружение.
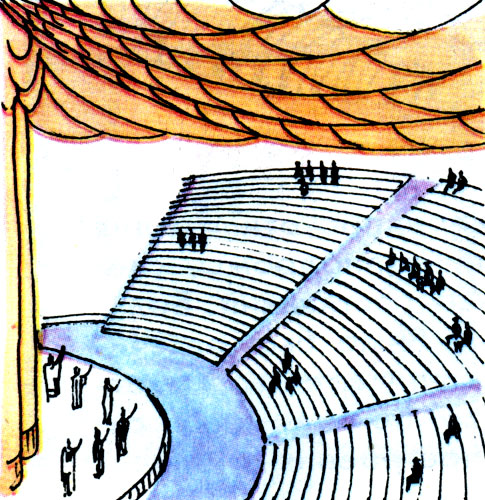
Интерьер театра в Древнем Риме
Особый вклад в развитие архитектуры театра внесла Италия. Творческое переосмысление древнегреческих и латинских образцов, самый дух Высокого Возрождения сделали Италию идеальной почвой для создания нового театра. Она словно передала европейской культуре эстафету античности. В 1580 году по проекту одного из великих мастеров зодчества Андреа Палладио было начато строительство театра «Олимпико» в итальянском городе Виченце. После смерти Палладио постройку завершил другой известный итальянский архитектор — Скамоцци. С тех пор вот уже в течение четырех столетий этот театр не перестает удивлять и радовать необычностью и изяществом архитектурного решения всякого, кто имеет возможность в него попасть. Причем отнюдь не только как памятник театральной архитектуры прошлого, а как систематически действующий до наших дней современный театр — это ли не высшее признание мастерства зодчего!
За основу построения зала Палладио принял античный принцип полукруглого амфитеатра. Однако затесненный участок вынудил его трансформировать полукруг в полуэллипс. Этот крутой и узкий амфитеатр — всего восемь метров отделяет его последний ряд от первого — упруго упирается в открытую на всю высоту зала двухъярусную сцену. Органическое единство зрительской части и сцены подчеркнуто тем, что изящная колоннада, идущая по верху амфитеатра, получает непосредственное продолжение в колоннаде второго яруса сцены. Главные элементы античного театра — греческий амфитеатр и классическая римская сцена — соединены в совершенно новое пространственное целое. Появился совсем иной, гуманный масштаб сооружения, столь свойственный архитектуре итальянского Возрождения, — ведь театр «Олимпико» рассчитан всего на 1 тысячу зрителей.
Но главное новаторство Палладио заключалось в архитектурной обработке традиционной сцены. Он значительно увеличил размеры одного из трех, а именно центрального проема, связывающего неглубокий просцениум, то есть главную игровую площадку римского театра, с глубинными, внутренними помещениями сцены. В античном театре они служили для чисто вспомогательных целей. Палладио же, мастерски используя эффекты оптической перспективы, хорошо изученные художниками Возрождения, построил за проемами фасада сцены постоянную декорацию «улиц», уходящих в глубину сценического пространства. С любого места амфитеатра видна по крайней мере одна из таких уличных перспектив. Тем самым Палладио создал возможности для переноса действия на задние планы сцены, которые оказались открытыми для зрителя. Своим решением архитектор дал театральной мизансцене третье измерение — глубину, по сути дела, не существовавшее до сих пор на узком просцениуме римского театра, и это открытие во многом предопределило целую эпоху в развитии театрального искусства. Вот пример того, как настоящая, большая архитектура не только отвечает требованиям жизни, воплощенным в функции сооружения, но и стимулирует ее развитие, открывает новые, не существовавшие до этого возможности.
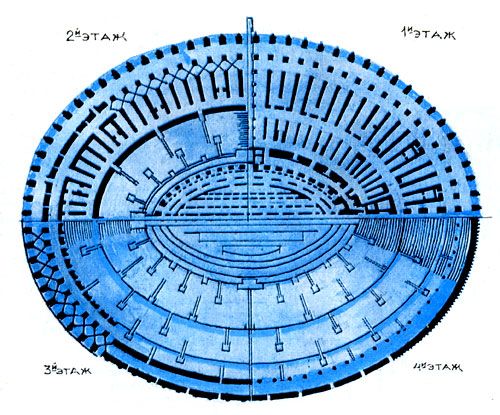
План Колизея
В театре «Олимпико» сделан первый и поэтому самый трудный шаг к тому, что потом стали называть глубинной сценой. А всего 25 лет спустя, в самом начале XVII века, эта идея была доведена до своего логического завершения в театре Фарнезе, построенном в итальянском городе Парме. Здесь фасадная стена сцены практически аннулирована, ее центральный проем превращен в портал — широкую раму, обрамляющую очень глубокую (22 метра!) сцену, оборудованную боковыми кулисами. Такая глубинная сцена (ее называют также портальной или кулисной) была особенно удобна для входивших в моду живописных декораций типа «задников», позволяла заранее готовить и быстро заменять их по ходу спектакля. Практически все последующие театральные сооружения в XVII, XVIII, XIX веках, а чаще всего и до сих пор оборудуются портальной сценой глубинного типа.

Так выглядело театральное представление в средние века
Зато в отношении устройства зрительных мест театр Фарнезе стал одним из последних примеров использования амфитеатра античного образца — интерес к нему был утрачен почти на три сотни лет.
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ЯРУСНОГО ТЕАТРА
Появление и быстрое распространение нового вида театрального искусства — оперы предъявило к театральному зданию новые требования. Чтобы улучшить акустические свойства зала, необходимо было прежде всего уменьшить расстояние от зрителя до сцены. Классический амфитеатр был слишком громоздким и препятствовал достижению этой цели. Необходимо было найти новый принцип более компактного расположения зрительных мест.
Такой принцип был подсказан самой жизнью, традицией народного представления, бытовавшей еще в раннем средневековье. Как было не вспомнить гостиный двор, временные деревянные балаганы с их балконами и галереями, позволяющими разместить зрителей по вертикали, друг над другом. Начиная с XVII века этот стихийно сложившийся прием получил права гражданства в архитектуре итальянского театра, который так и стали теперь называть ярусным — по типу расположения зрительных мест. Однако демократическая традиция средневекового народного зрелища была совершенно переосмыслена в духе идеологии правящих классов феодального, а затем и капиталистического общества. Ярусный театр называют еще сословным или ранговым, потому что он разделил зрителей на категории в соответствии с занимаемым положением в многоступенчатой сословной и имущественной иерархии. Самая привилегированная часть публики заняла партер и нижний ярус балконов. Менее знатным и менее богатым приходилось забираться повыше — чем ниже достаток, тем выше ярус.
К концу XVII века сложился устойчивый стереотип архитектуры ярусного театра. Каждый из ярусов, как правило, разгораживался на отдельные изолированные ячейки—ложи — со своими входами. Требования акустики побудили архитекторов отказаться от прямоугольной формы зала и сменить ее на овальную, подковообразную, сужающуюся к порталу сцены. Глубинная сцена с большим порталом создала необходимые условия для постановки оперных и балетных спектаклей. Действие полностью сосредоточилось в глубине сценической коробки. Зритель наблюдал со стороны, из темного зала ярко освещенный, сказочный, иллюзорный мир спектакля, который был отделен от него мощной рамой портала и мог в любую минуту исчезнуть за непреодолимой преградой занавеса.
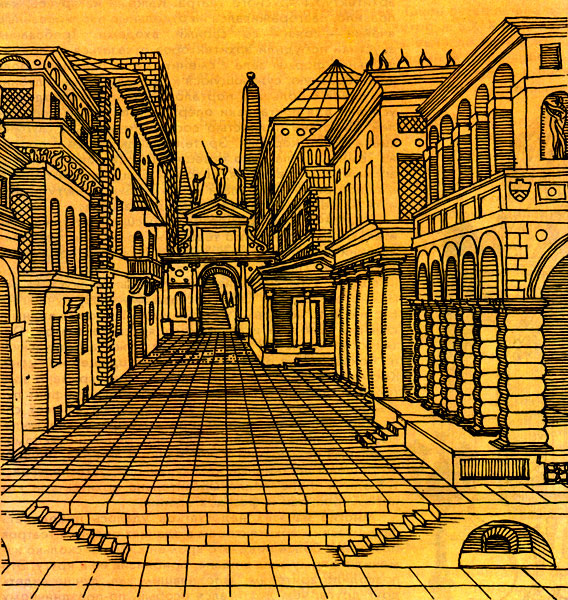
Архитектурная декорация в театре «Олимпико», Виченца, Италия. Архитектор А.
Палладио
Классическим примером и высшим достижением итальянского рангового театра по праву считается Миланский оперный театр «Ла Скала», построенный в 1776 году. Партер и 240 лож шести ярусов театра вмещают 3 тысячи зрителей. Идеальная акустика огромного оперного зала снискала ему славу лучшего в Европе. В то же время на примере «Ла Скала» видны и главные слабости итальянского ярусного театра. Оптические свойства зала заметно хуже акустических: из боковых лож плохо видно происходящее на сцене. Кроме того, разгороженные ячейки лож скрывают зрителей в глубине и создают своеобразный эффект пустынного, незаполненного зала, который мешает созданию общей эмоциональной атмосферы спектакля. Недостаточное внимание уделено решению вспомогательных помещений для публики и актеров, неудобно решены лестничные коммуникации, затеснены вестибюли и фойе. Маловыразительна архитектура как интерьеров, так и фасадов здания.

Средневековье. Перед театром
Многие из этих недостатков удалось преодолеть французским архитекторам в зданиях оперных театров постройки более позднего времени. Они несколько изменили форму зала в плане, приблизив ее к кругу. Это позволило зрителям, заполнявшим зал, лучше видеть друг друга, чем достигался особый, по-праздничному торжественный настрой зрелища. Начиная с конца XVIII века во французском театре применяется купольное перекрытие зрительного зала, что значительно обогащает его архитектуру. Фойе, кулуары, парадные лестницы занимают теперь большую часть сооружения. Это дает сложную структуру организации внутреннего пространства и большие возможности для создания архитектурно выразительной объемной композиции. Театральное здание получает представительные, монументальные фасады. Все это налицо в здании Большой Парижской Оперы, построенном Шарлем Гарнье в 1861—1875 годах.
Однако для того, чтобы своими глазами увидеть классический ярусный театр, читателю нет нужды совершать далекое путешествие. Такое путешествие проделали сами ярусные театры, которые в XIX веке получили повсеместное распространение по всей Европе. Большой театр в Москве и бывший Александрийский (театр имени А. С. Пушкина) в Ленинграде — в числе лучших, мирового значения образчиков ярусного театра.
Большой театр, построенный в 1825 году архитектором Осипом Ивановичем Бовэ и перестроенный после пожара 1853 года архитектором А. Кавосом, удачно совместил лучшие черты итальянского и французского театров. Хорошая акустика зала сочетается с нарядным, торжественным интерьером. Каждый, кто бывал в Большом театре, испытывал то ощущение приподнятости и праздничного ожидания, которое так точно выражено в пушкинских словах: «Театр уж полон, ложи блещут...»

Интерьер ярусного театра
В Александрийском театре, построенном Карлом Ивановичем Росси в 1827—1832 годах (как и Большой театр, он успешно функционирует до сих пор без всяких скидок на возраст), особенно впечатляют внешние формы здания. Росси сделал театр центром обширного архитектурного ансамбля. Он доминирует на площади, раскрытой на Невский проспект, а изящный портик главного фасада воспринимается как символ, характерный опознавательный знак театрального здания.
Но хотя внешняя архитектурная форма ярусного театра на удивление консервативна и многократно воспроизводится в разных европейских странах, его внутреннее устройство оказалось менее стабильным. В этом отношении вторая половина прошлого столетия стала временем настойчивых поисков, которые несли с собой новые радикальные перемены.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АВАНСЦЕНУ
Не раз уже на страницах этой книги читателю приходилось убеждаться в справедливости поговорки, что новое — это хорошо забытое старое. Однако каждое время по-своему «вспоминает» старое, так что оно не просто повторяется, а принимает совсем иную форму и в конце концов действительно становится новым. И хотя новаторские предложения в области сценографии и архитектуры театра — мы уже предупреждали об этом читателя — заставляют вспомнить о том, с чего начиналась глава, они, конечно, не сводятся к реставрации идей античного театра.
Правда, именно под таким лозунгом еще в первой четверти прошлого столетия выдвинул свою программу реформы театра известный немецкий архитектор Фридрих Шинкель. Предоставим возможность самому Шинкелю обосновать свой взгляд на театр: «В античном театре не было и следа иллюзорности. В современном театре (напомним, что это говорится 150 лет назад. — А. Г.) зритель становится рабом сценической обстановки, и его фантазии ничего не приходится дополнять; уже один взгляд на просцениум показывает ему, что он находится в театре... Если бы сцена вместо сложной декорации представляла только стену с одной картиной на ней, она служила бы символическим фоном и давала возможность свободного развития фантазии». Не правда ли, любопытно, что архитектор, притом работавший в традиционных, классических формах, решая функционально-пространственные задачи создания театрального сооружения, приходит к такой глубине понимания природы сценического действия, что на целое столетие предвосхищает идеи великих реформаторов сцены — Станиславского, Пискатора, Мейерхольда, Брехта.
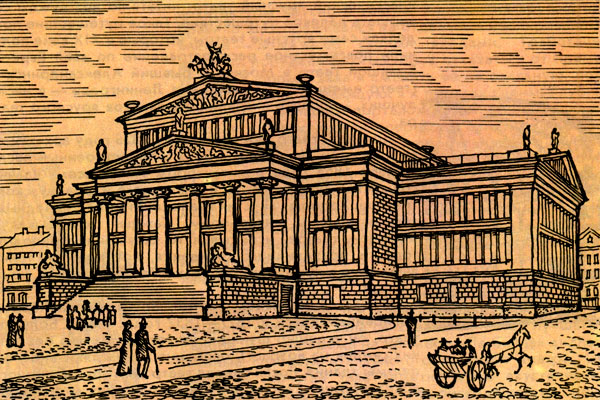
Берлинский театр. Архитектор Шинкель
Итак, Шинкель предлагает перенести действие ближе к зрителю, на авансцену, увеличив при этом ее размеры, а заднюю, глубинную сцену, напротив, уменьшить, придав ей заведомо второстепенное значение. Чтобы лучше связать зрителя со сценой, преодолеть сословный, недемократический характер рангового театра, он считает необходимым отказаться от ярусов и заменить их амфитеатром античного образца. Но при этом — важное новшество — полукруг амфитеатра обрезается с боков и получает форму сектора, скошенного к сцене. Тем самым обеспечивается хорошая видимость происходящего на сцене со всех мест. Далее, Шинкель считает нужным выдвинуть оркестр вперед, посадив его перед сценой на специально углубленной площадке (оркестровая яма). При этом голоса актеров не тонут в звуках музыкального аккомпанемента, а отделяются от него, доминируют над ним.
Однако Шинкелю не удалось воплотить в жизнь свои идеи — обычная расплата за слишком далекое предвидение. Построенный им в 1821 году новый драматический театр в Берлине был выдержан вполне в духе своего времени — традиционный ярусный театр с обычной глубинной сценой. Лишь полвека спустя — в 1872 году — ученик Шинкеля немецкий архитектор Готфрид Земпер приступил к реализации идей своего учителя. Театр в Байрейте был специально предназначен для постановки опер великого немецкого композитора Рихарда Вагнера, который имел свои особые требования к организации театрального пространства. В сотрудничестве с Вагнером Земперу удалось осуществить некоторые пункты своей программы реформы театра, важные для дальнейшего развития его архитектуры. Секторный амфитеатр зрительской части зала — двойной портал, фиксирующий среднюю часть сцены между авансценой и арьерсценой, заглубленная оркестровая яма — эти особенности стали характерными для многих театральных зданий более поздней постройки.
Особенно перспективной оказалась идея трехчастного разделения сцены на развитую авансцену — переднюю игровую площадку, среднюю часть — для постановки мизансцен второго плана и заднюю — арьерсцену, которая служила главным образом для установки фоновых декораций. И хотя у Земпера это членение было намечено пока еще достаточно робко, в последующем оно закрепилось как стереотипный прием построения сценического пространства.
В КАМЕРГЕРСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
Уже не за горами XX век — век великих реформаторов театра. 14 октября 1898 года в старом здании театра «Эрмитаж», что в Каретном ряду в Москве, началась целая эпоха в развитии русского и мирового театра. Состоялось официальное открытие Московского Художественного театра под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Новый театр неспроста назывался общедоступным — это был подлинно демократический театр, который обращался не к сильным мира сего, а к самой широкой публике с новой драматургией Чехова и Горького. Правда жизни, честность, свободомыслие — такова была линия театра, и такое содержание требовало соответствующей архитектуры.
С этой точки зрения рассчитанное на увеселительные представления сомнительного вкуса театральное здание в Каретном ряду, где МХАТ провел свои первые три сезона, никак не соответствовало новаторской программе театра. (Неоднократно перестроенное, это здание и по сей день стоит в саду «Эрмитаж» — в нем играет теперь Московский театр миниатюр.) Вот почему, получив щедрую финансовую поддержку известного мецената С. Т. Морозова, Художественный театр уже в 1902 году приступил к постройке нового здания. Точнее, к обширной и капитальной реконструкции старого здания в бывшем Камергерском переулке, который позднее сменил свое название на проезд Художественного театра. По иронии судьбы и это здание, где предстояло работать новому театру, было связано прежде с увеселительным заведением — кафешантаном французского антрепренера Омона. «Вертеп Омона», как его называли в Москве, должен был превратиться в храм современного искусства. За решение этой непростой задачи взялся — кстати сказать, совершенно безвозмездно — один из лучших московских аритекторов, человек передовых взглядов и в своей профессиональной, и в общественной деятельности, Федор Иванович Шехтель.
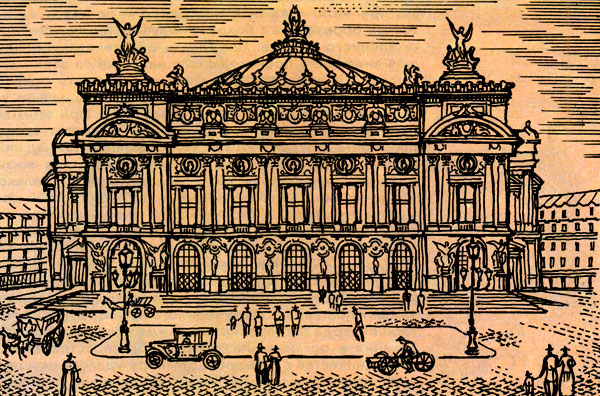
Парижский оперный театр. Архитектор Ш. Гарнье
И справился с этой задачей блистательно. Правда, ему пришлось считаться с конструкцией фасада старого здания, но, несмотря на это, удалось отразить в архитектуре дух правды и простоты, который несло в себе искусство Художественного театра. Особенно ярко проявилось мастерство Шехтеля в интерьерах. Удобно расположенные фойе-кулуары оформлены с подчеркнутой скромностью и подчинены целиком функциональным требованиям. Оборудованная по последнему слову театральной техники того времени, сцена раскрыта в зал на всю его ширину и максимально приближена к зрителю, чтобы не создавать барьера между ним и актером, упразднена даже оркестровая яма. В размещении зрительных мест использован принцип ярусного театра, но как не похож мхатовский зал на традиционный зал такого типа! Ложи заменены сплошными балконами — этот подчеркнуто демократический прием позволил улучшить видимость и усадить в сравнительно небольшом зале 1300 человек. Богатых украшений, лепнины, позолоты, расписного потолка нет и в помине. Интерьер выполнен в сдержанных серо-зеленых тонах, мягко очерченных, лаконичных формах. Ничто не отвлекает внимание зрителя от сцены, от самого содержания театрального действия.
Это было так необычно, так не похоже на парадный блеск, а подчас и аляповатую безвкусицу прежнего театра, где развлекательность зрелища то и дело брала верх над его идейным и художественным содержанием. Необычным был даже ставший впоследствии знаменитым занавес с эмблемой чайки — не расписной или тканый, не бархатный, а подчеркнуто скромный, выдержанный в приглушенных тонах зала. Словно одна из стен театра, раздвигаясь, открывалась прямо в окружающий мир, в ту самую реальную жизнь, которая, по замыслу Станиславского, должна была царить на сцене. В этом еще одна примечательная и, может быть, главная особенность работы Ф. И. Шехтеля — он построил здание для Московского Художественного театра, и ни для какого другого. Здание, которое стало одним из первых примеров плодотворного творческого сотрудничества архитектора и режиссера.
КОГДА РАЗРУШАЮТСЯ КАНОНЫ
В наше время такое сотрудничество архитекторов с деятелями театра — сценографами, режиссерами — стало не только распространенным явлением, но и одним из главных факторов дальнейшего развития архитектуры театра. В 1919 году немецкий архитектор Ганс Пельциг построил новое здание Большого драматического театра в Берлине по специальному заданию режиссера-новатора Макса Рейнгарда. Пельциг применил в качестве декоративной отделки зала свисающие с потолка и колонн «сталактиты». Этот прием обеспечил хорошую акустику зала, вмещающего 2500 зрителей, и придал ему своеобразный, несколько экзотический вид.
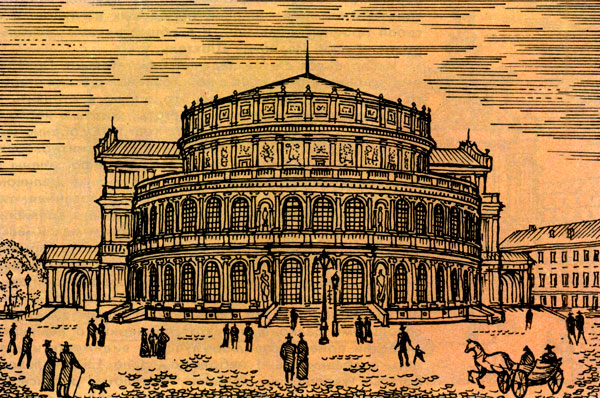
Оперный театр в Дрездене. Архитектор Г. Земиер
Однако не в этом главное достижение Пельцига. Большое пространство зрительного зала (почти 40х50 метров) решено единым амфитеатром, который окружает сильно выдвинутую вперед, к зрителям, площадку просцениума. Эта площадка в случае необходимости может быть превращена в партер. Таким образом она совмещает в себе признаки орхестры древнегреческого и римского театров одновременно — может быть окружена зрителями, как у греков, или, напротив, занята зрительными местами, как у римлян. Режиссер получает возможность трансформировать зал в соответствии с замыслом спектакля, устройство сцены все меньше сковывает его творческую фантазию. Значит, архитектура театрального здания более полно, чем раньше, отвечает своему функциональному назначению, более того, она стимулирует развитие театрального искусства.
Еще большие возможности трансформации сцены предусмотрены в проекте театра, который создал в 1928 году один из основателей и лидеров современного движения — немецкий архитектор Вальтер Гроппиус для знаменитого режиссера Эрвина Пискатора. Правильнее, наверное, сказать — не для режиссера, а вместе с режиссером. По замыслу Гроппиуса и Пискатора, амфитеатр зрительных мест вписан в овальный зал правильной формы. В узкой части овала к нему примыкает глубинная сцена, которая при полном раскрытии составляет единый, слитный объем вместе с залом. Перед порталом сцены расположен выдвинутый в зал вместительный просцениум в форме вращающегося круга, который может также быть занят партером. Этот малый круг является частью поворотного круга большого диаметра, на котором располагается первый ярус амфитеатра. При повороте большого круга на 180 градусов малый круг меняет свое положение и оказывается почти в середине зала, превращаясь в арену, окруженную амфитеатром. Таким образом, действие может быть перенесено из глубины сцены в центр зала. Но это еще не все. Вокруг амфитеатра по периметру овального зала запроектирован широкий пандус, который идет в одном уровне с рядами зрительных мест и может служить для игры актеров или передвижения специальных платформ со сценическими установками.
Театральное действие получает небывалую свободу пространственного развития. Оно уже не замыкается в иллюзорном пространстве плоской сцены — картины или объемной сцены-коробки, на которую зритель смотрит извне, как бы со стороны. Театр смело перешагивает рамки портала, отделяющего волшебный мир сцены от реального пространства зала, он выходит на середину этого зала, концентрируя зрителей вокруг себя, или, наоборот, окружает их с разных сторон, заставляя оглядываться, или делает то и другое одновременно. Зритель оказывается участником действия, которое возникает буквально рядом с ним, в любом месте единого пространства сцены-зала. В довершение всего Гроппиус и Пискатор предусмотрели размещение кинопроекционных аппаратов по всему периметру зала и на сцене, так что повсюду действие может быть легко дополнено кинематографическими эффектами. Авторы так и назвали свой театр — универсальным, или тотальным, то есть всеобщим. Проект Гроппиуса — Пискатора не был осуществлен. Однако он оказал большое влияние на строительство театров во всем мире.
Сходные идеи были положены в основу оригинального проекта нового здания театра Всеволода Мейерхольда в Москве. Новаторские эксперименты Мейерхольда оставили глубокий след в истории мирового театра, его наследие до сих пор дает пищу для раздумий и служит отправной точкой для новых поисков. Когда в премьере легендарной «Чайки» со сцены Московского Художественного театра прозвучали взволнованные чеховские слова о том, что театр нуждается в переменах, мало кто мог предполагать, сколько перемен принесет театру произносящий эти слова исполнитель роли Треплева молодой ученик К. С. Станиславского Всеволод Мейерхольд, которому суждено было стать создателем новых форм массового революционного спектакля. Есть что-то глубоко символическое в этой преемственной связи двух великих реформаторов нашей сцены, определивших своим творчеством все последующее развитие советского театрального искусства.

Детский музыкальный театр в Москве. Архитекторы В. Красильников, А. Великанов
Можно понять, какая нелегкая задача стояла перед молодыми архитекторами Михаилом Бархиным и Сергеем Вахтанговым (сыном известного режиссера) — спроектировать театр, который отвечал бы поистине не знающей границ постановочной фантазии Мейерхольда. К тому же на тесном участке, где надо было сохранить капитальные стены старого театрального здания. Тем не менее им удалось найти решение, которое позволяло учесть самые современные достижения архитектуры театра во всем мире в сочетании с конкретной спецификой постановок Мейерхольда. Открытая сцена с развитым просцениумом, выдвинутым в середину овального амфитеатра двумя поворотными кругами разного диаметра. Обходная игровая галерея по периметру зала. Возможность проезда грузовиков и движения демонстраций прямо через зал (было в спектаклях Мейерхольда и такое). В стене, отделяющей зал от вспомогательных помещений арьерсцены и артистических, были предусмотрены специальные проемы в нескольких уровнях для выхода актеров и раскрытия дополнительных игровых площадок — античный прием, получивший развитие в театре Палладио, много лет спустя с блеском использованный Мейерхольдом в знаменитой постановке гоголевского «Ревизора». Архитектор Михаил Григорьевич Бархин вспоминает, что Мейерхольд мечтал даже о раздвижном потолке.
К сожалению, всем этим интересным замыслам не суждено было осуществиться. Здание было построено по сильно измененному проекту и для другой цели — ныне в нем размещается Концертный зал имени П. И. Чайковского. Но некоторые черты первоначального решения все же просматриваются в его архитектуре, несмотря на появившуюся позднее нарядную отделку — плоский стеклянный потолок над овальным залом, крутой амфитеатр зрительных мест, далеко выдвинутая вперед, открытая навстречу зрителю сцена...
ПРЕДЕЛЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
И все-таки новаторские идеи обязательно пробивают себе дорогу, если в их основе лежит попытка найти более точное и глубокое соответствие реальным жизненным потребностям, духу и велению времени. Так происходит и в архитектуре театра. В XX веке театр завоевал прочное место не только в художественной культуре, но и в жизни всего общества. Если раньше театральные сооружения были главным образом принадлежностью сравнительно немногочисленных столиц и уникальных культурных центров, то теперь география театров заметно расширилась.
В нашей стране количество театров, построенных в годы Советской власти, перевалило за две сотни. Среди этих зданий есть огромные театры-дворцы, которые по представительности и нарядности убранства могут соперничать с самыми знаменитыми театрами прошлых эпох. Есть и более скромные постройки, выполненные в современном стиле. Невозможно даже перечислить, не то что охарактеризовать, хотя бы кратко, каждое из этого множества сооружений, потребовалась бы отдельная книга. Нам важно, что среди них немало таких, где архитекторы вместе с деятелями театра продолжают настойчивые поиски наилучшей организации сценического пространства во взаимосвязи со зрительным залом.
В том, что настоятельная необходимость такого рода поисков существует, несмотря на проверенные жизнью достоинства привычной портальной сцены, убеждает сама практика театрального творчества. Предоставим слово видным режиссерам советского театра.
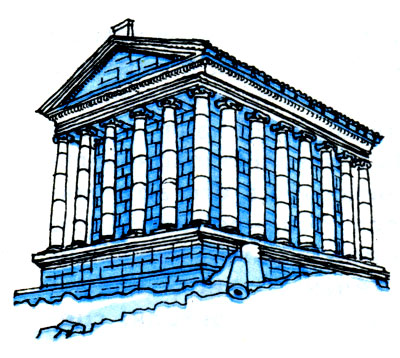
Храм в Гарни (Армения) служит своеобразной декорацией для представлений и
празднеств, связанных с традициями национальной культуры
Николай Акимов: «...любое сочетание новых театральных средств с добрым старым купеческим зданием театра, построенным антрепренером для своих, а не для наших нужд, никогда не сможет дать органического единства, ибо стиль XVIII века... не соответствует эстетике нашего времени. И только когда в одном театре нашей страны появится вполне современное построение сценической площадки и оснащение ее такой же современной техникой, мы увидим рождение современного театрального стиля, в котором динамика действия будет сочетаться с яркой, выразительной изобретательностью каждого фрагмента спектакля».
Николай Охлопков: «Гаснет свет. Сцена и зал вместе со зрителями медленно поворачиваются. Как по волшебству исчезают крыша и стены театра — и перед нами бесконечная гладь реки, все ближе знакомый контур «Авроры», гремят ее исторические залпы... Идет спектакль о революционном Петрограде...»
Георгий Товстоногов: «Чем условнее среда, в которую попадает на сцене актер, тем достовернее должно быть его бытие. Тогда возникает живая связь, прямая зависимость между условным и безусловным, между достоверной жизнью человеческого духа и условным изображением того, что его окружает. Связь среды и актера на сцене должна осуществляться постоянно, ежесекундно».
Итак, режиссеру необходимо разнообразие возможностей организации сценического действия. Это разнообразие определяется по меньшей мере пятью возможными типами взаимного расположения сцены и зрительных мест. Они уже фигурировали в примерах театральных зданий, которые упоминались в этой главе. Перечислим их по порядку.
Традиционная портальная (глубинная) сцена, действие на которой воспринимается фронтально, как картина в обрамлении портала, отделяющего пространство актеров от пространства зрителя.
Сцена — арена, окруженная зрителями со всех сторон. Действие разворачивается на фоне массы зрителей и воспринимается объемно, в едином пространстве сцены-зала.
Открытая сцена с развитым, вынесенным в зал просцениумом, окруженным зрителями с трех сторон, комбинирует трехмерное восприятие действия с традиционным сценическим фоном.
Кольцевая сцена, окружающая зрителей со всех сторон, делает сценическим фоном развивающегося в пространстве зала действия весь периметр его стен.
Панорамная сцена является своего рода симбиозом открытой и кольцевой сцен, когда просцениум получает развитие главным образом в ширину зала и, используя в качестве сценического фона его боковые стены, охватывает зрительные места с трех сторон.

Таллин. Трибуна для хора на Певческом поле, где проходят праздники национальной
песни
Можно ли добиться убедительного и, что очень важно, практически целесообразного сочетания всех этих типов сцен в одном зале? Современная архитектура театра пытается решить эту сложную проблему на двух основных направлениях гибкой трансформации зала. Первое — механизированная трансформация сценических площадок и зрительных мест в залах большой вместимости, то есть развитие идей универсального театра Гроппиуса — Пискатора. Второе — создание небольших залов с так называемым гибким пространством, трансформируемым вручную. Модулем трансформации являются небольшие стандартные платформы, которые могут менять свое положение по горизонтали и вертикали, создавая тем самым самые различные комбинации сценической площадки и зрительского пространства.
Сегодня обе эти системы продолжают оставаться идеализированными представлениями о театре будущего, они так и не получили реализации в законченной и полной форме. Причина заключается не только в высокой стоимости как механизированной, так и ручной трансформации. Но еще и в том, что столь решительная универсализация театра внушает определенные опасения. Конечно, театральное искусство непрерывно развивается, универсальный театр, рассчитанный на все случаи жизни, казалось бы, дает единственную возможность избежать преждевременного морального старения. Но, с другой стороны, индивидуальные возможности каждого отдельного типа сценографии не всегда можно использовать до конца в универсальном трансформируемом зале. Унификация, универсализация всегда имеют в своей основе компромисс, который неизбежно означает определенные издержки.
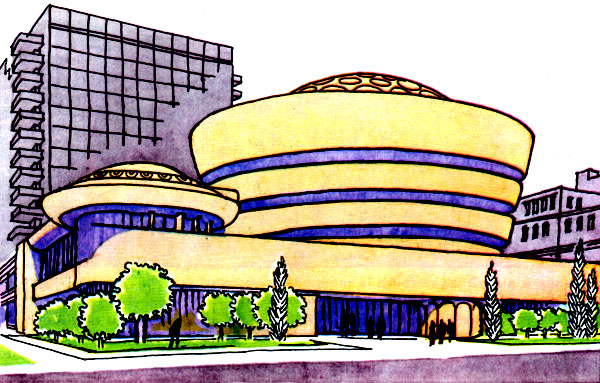
Едва ли не каждое общественное здание содержит в себе элементы театра. Музей
Гугенгейма в Нью-Йорке, США. Ярусы-пандусы музейной экспозиции открываются в
единое пространство центрального холла-зала
Конечно, можно приспособить один и тот же зал, например, для оперных и драматических постановок. И все же оперу лучше слушать в специально приспособленном для этого оперном зале, а драму смотреть (и играть) в совсем ином по своим размерам, оптическим и акустическим свойствам пространстве. Этот довод кажется тем более основательным, что с течением времени специализация различных видов театров все более углубляется. Помимо оперного и драматического, уже теперь существуют театры музыкальной комедии, юного зрителя, пантомимы, кукол; балетные труппы имеют тенденцию отделяться от оперных... Есть все основания полагать, что этот перечень будет расти. Появление каждого нового вида театра усложняет и без того сложные требования к параметрам и пространственному диапазону трансформаций универсального зала.
Но даже если удалось бы сконструировать и построить такой зал, считают многие сценографы, избыток изобретательного и дорогостоящего сценического оборудования может совершенно неожиданно негативно сказаться на развитии театрального искусства. Отсутствие постановочных ограничений плохо стимулирует творческую фантазию режиссера, который всегда стремится их преодолеть. Ограничения нужны, чтобы от них отталкиваться. Чтобы вывести действие за раму портала, нужно, чтобы она существовала. Да какому театру, какому режиссеру может понадобиться вся гамма возможных трансформаций такого зала не то что в один вечер, но и в один сезон? А ведь если театр оборудован современной системой электронного программированного дистанционного управления сложной механизации, то систематически использовать ее наполовину или всего на одну треть — это слишком дорогое удовольствие.
Поэтому даже самые рьяные поборники трансформации сегодня не стремятся объединить все возможные виды сценических построений в одном зале. Жизнь подсказывает, что театр должен быть предельно гибким лишь в рамках ограниченной группы требований, которые определяются жанром и творческой направленностью самого театра.
Советские архитекторы В. Е. Быков и И. Е. Мальцин разработали в 50—70-е годы целую серию экспериментальных проектов для различных театров страны. В работе приняли участие крупнейшие режиссеры и сценографы, руководители театров. Как убедительно показал опыт этой работы, каждый из них стремился получить для своего театра широкие и гибкие, но отнюдь не беспредельные возможности. Ленинградский театр комедии (режиссер Н. Акимов) — широко раскрытую глубинную сцену с предельно быстрой механизированной сменой передних планов. Художественный театр Латвийской ССР имени Я. Райниса (режиссер Э. Смильгис) — сочетание глубинной сцены с развитым вдоль сцен панорамным просцениумом. Еще более высока роль панорамного раскрытия глубинной сцены за счет просцениума в экспериментальном проекте Ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького (режиссер Г. Товстоногов). Для драматического театра имени М. Горького в Туле было разработано решение, сочетающее открытую панорамную сцену со сценой-ареной. Для театра имени В. Маяковского в Москве (режиссер Н. Охлопков) — сцену-арену с открытой кольцевой сценой. Для Ленинградского театра юных зрителей (режиссер А. Брянцев) предпочтительным оказалось сочетание глубинной сцены с вынесенным в зал просцениумом-орхестрой.
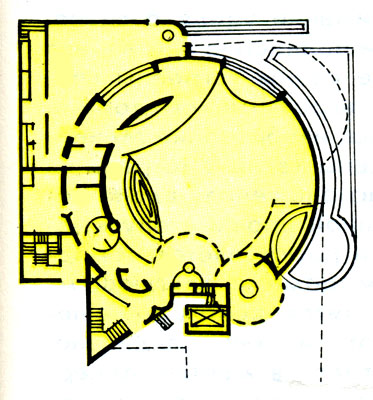
Музей Гугенгейма в Нью-Йорке. Архитектор Ф.-Л. Райт (схема плана)
Тенденция умеренной, рациональной, экономически и планировочно оправданной трансформации (вместо тотальной или универсальной) становится главным доминирующим направлением современной архитектуры театра. Именно так решены лучшие театральные сооружения, построенные в нашей стране за последние годы. В их числе уже упоминавшиеся Тульский драматический театр имени М. Горького, Ленинградский ТЮЗ, а также Театр юного зрителя в городе Горьком, Детский музыкальный театр в Москве — список примеров этим не исчерпывается.
ТЕАТР РАЗДВИГАЕТ СТЕНЫ
Пожалуй, самый характерный и наиболее свежий пример — здание Московского театра драмы и комедии на Таганке. Архитекторы А. Анисимов, Ю. Гнедовский, Б. Таранцев и их коллеги столкнулись с необычайно сложной задачей. Надо было построить новое здание для популярной московской труппы на небольшом неудобном участке вблизи шумной транспортной магистрали — Садового кольца, к тому же не прекращая работы театра на расположенной здесь же старой сцене.
Авторы пришли к рациональному и необычному решению. Скромные по размерам вестибюль и фойе буквально «протискиваются» между двумя старыми зданиями к внушительному объему нового зала. Геометрически неправильная, сложная конфигурация плана, перепады уровней придают этим помещениям особенно уютный, камерный характер. Пологий амфитеатр зала с небольшим уступчатым балконом в глубине решен просто, без всяких претензий на показную монументальность. Главное внимание уделено сцене. Основная сцена открыта в зал и полностью слита с его пространством. В задней стене сцены устроены специальные проемы в три этажа с игровыми коридорами сзади них — вот где пригодилось изобретение Мейерхольда. Слева от основной сцены (если смотреть из зала) имеется вторая сцена, расположенная вдоль боковой стены зала. Справа большой проем с опускающейся в трюм стеной. Когда он раскрывается, городской пейзаж с настоящим небом, домами, двигающимся по улице транспортом становится фоном сценического действия. Может быть, это не так грандиозно, как раздвижные стены или потолок в мечтах Мейерхольда и Охлопкова, но зато вполне реально — через - этот проем вошли в зал актеры — участники спектакля «10 дней, которые потрясли мир» — в торжественный день открытия нового здания театра. Представление может переместиться с одной площадки на другую, сосредоточиться в пределах традиционной глубинной сцены или охватить зрителей с трех сторон широкой панорамой. Но это не все — первые шесть рядов зрительных мест установлены на съемных платформах и могут быть преобразованы в арену, окруженную зрителями со всех сторон.
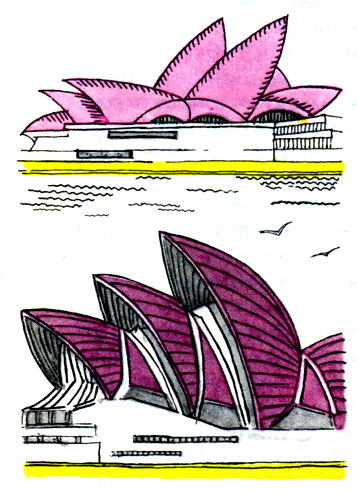
Оперный театр в Сиднее. Архитектор И. Утцон
Дело здесь не только в том, что труппа театра получает разнообразные постановочные возможности, хотя, разумеется, это очень важно. Трансформируется сцена и пространство зала, меняется также и его архитектура, художественный образ самого театрального сооружения. Она полностью лишена той помпезности, ложной представительности, которые идут от установки на показ нарядной публике и так свойственны классическому ранговому театру. А ведь эти чуждые духу нашего времени и особенно нашего общества черты классового, сословного театра, против которых выступал еще великий Станиславский, очень живучи — не всегда удается сладить с ними даже самым талантливым, выдающимся архитекторам. Нет-нет и пробиваются они наружу под покровом, казалось бы, самых современных архитектурных форм и конструкций.
В зале Театра на Таганке чувствуешь себя как в своего рода постановочном цехе или студии — здесь идет напряженная творческая работа, здесь рождается искусство, и люди приходят сюда не как пассивные наблюдатели, а как полноправные участники самого процесса. Это относится не только к залу, но и ко всему сооружению. Театральное действие может происходить в фойе, во внутреннем дворике — здесь предусмотрены галереи, балконы, широкие и пологие лестницы. По сути дела, все части здания задуманы как потенциальные игровые площадки — главный вход, наружные лестницы, даже крыша. Наверное, поэтому и кажется таким уместным натуральный красный кирпич и во внутренней отделке, и во внешнем облике этого подчеркнуто делового, скромного здания.
В здании на Таганке ярко проявилась важная особенность современной архитектуры театра. Разрушив преграду между сценой и залом, театральное действие стремится за его пределы, «растекается» по всему зданию. Кажется, оно готово спуститься по его уступчатым скульптурным объемам и выйти в город. Тут уж не до симметрии фасадов четко отграниченного в пространстве, открытого со всех сторон, геометрически правильного объема классического театра. Еще одного традиционного архитектурного «штампа», от которого непросто избавиться. Разве не стал навязчивым, повторяющимся из раза в раз признаком театра нехитрый контраст двух параллелепипедов — горизонтальной стеклянной пластины зрительской части, нависающей над входом, и глухого вертикального объема сценической коробки. Смотришь на такой канонически правильный театральный фасад — так и кажется, что старый добрый портик проглядывает сквозь стеклянные витражи и бетонные пилоны современной архитектуры. Ничего подобного нет в динамичной скульптурной объемной композиции Театра на Таганке. Подчиняясь внутренней логике театрального «цеха» и особенностям сложного участка, авторы в то же время удачно создают интересный пластический, почти скульптурный образ театра, не самодовольно замкнутого в себе самом, но раскрытого в город, — театра, раздвигающего свои стены.
Конечно, можно по-разному относиться к архитектуре Московского театра на Таганке. Как и всякая конкретная работа, она вызывает споры, и, наверное, не всем нравится так, как автору этой книги. Но с одним спорить нельзя — это здание отражает те проблемы, которые стоят перед современной архитектурой театра (да и перед современной архитектурой в целом), и предлагает свою версию ответа.
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МЕТАМОРФОЗЫ ТЕАТРА
В этом отношении особенно интересны проекты театров будущего, с которыми в последние годы успешно выступают советские архитекторы на представительных международных конкурсах. Вот один из этих проектов, отмеченный первой премией международной организации сценографов. Он выполнен группой молодых московских архитекторов под руководством профессора И. Г. Лежавы. Авторы предложили «встроить» в ткань сложившейся городской застройки пространственную решетку-субструкцию высотой в несколько этажей. В вертикальных устоях и горизонтальных фермах-мостах этой субструкции заключены специальные постановочные механизмы, позволяющие превратить в сценическую площадку или зрительный зал практически любой участок перекрытого внутреннего пространства этого сооружения, прилегающих к нему улиц и площадей. Огромный театр-город превращает в театр целый участок города.
А ведь это только одно из множества возможных направлений поиска. Театр под открытым небом — театр массового действия, полностью вынесенный за пределы закрытого сооружения. Театр в исторической среде, где сами здания становятся неодушевленными персонажами театрального представления. Мобильный театр, который дает спектакли прямо с колес автомобиля, железнодорожной платформы, с борта парохода, прилетает на дирижабле... Фантазия архитекторов и сценографов, кажется, не имеет границ.
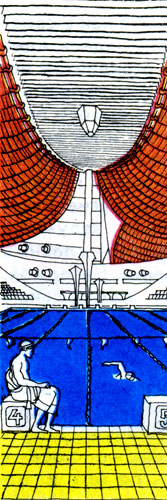
Современные покрытия больших залов придают общественным сооружениям необычные
очертания. Олимпийский бассейн в Токио (интерьер и общий вид)
Вдумаемся в парадоксальный смысл метаморфоз театра, свидетелями которых мы были в этой главе. Сначала отделенные друг от друга в античном театре и места зрителей и сцена соединяются в компактном объеме древнеримского театра. Затем амфитеатр сменяется ярусами лож рангового театра, а само театральное действие прячется в глубине сценической коробки. Но вот оно опять выдвигается на авансцену, переносится в зал и уже окружает зрителя, вспыхивая в разных местах и делая его своим участником. Наконец, словно не удовлетворившись разрушением условной преграды сценического портала, оно начинает «раздвигать» массивные стены зрительного зала, да и всего театрального здания. Театр стремится выйти в город, овладеть любым, казалось бы, самым неподходящим для зрелища пространством.
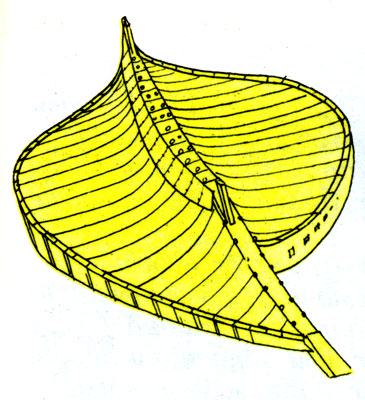
Метаморфозная форма театра
Может быть, эти необычные превращения станут более понятными, если выйти за рамки выбранной нами узкой темы архитектуры театра и посмотреть на дело более широко. Ведь театр в наши дни не единственный и даже не основной вид зрелища или массового действия, как это было начиная со средних веков и вплоть до середины прошлого века. Разнообразные спортивные соревнования, концерты, демонстрация кинофильмов, телевизионные представления, наконец, фестивали, конгрессы, конференции — все это зрелища, требующие особой организации пространства и специальных типов сооружений. По мере развития форм социальной активности человека, роста его технического могущества число зрелищных сооружений все больше увеличивается. Но каждое из них содержит в себе обязательный элемент театра, поскольку сценическое действие в той или иной форме присутствует в любом виде зрелища, составляет его основу. Театр поистине вечный спутник человека, в нем проявляется изначальная социальная природа человеческого общения. И потому он, как и прежде, остается средоточием поисков наилучших пространственных форм человеческого общения, своего рода исследовательской лабораторией архитектуры как искусства организации жизненного пространства.
С этой точки зрения тенденции всепроникающего театра, выходящего за пределы обособленного, строго специализированного сооружения, кажутся более понятными. Они осмысливаются как попытка перенести многовековой опыт архитектуры театра в практику создания других, новых общественных сооружений, не имеющих пока собственной истории и такого опыта. Как попытка овладеть пространством в более широких масштабах, которые обусловлены ростом города и темпами современной жизни. Но здесь начинается следующая глава.
Главная мысль
Архитектура театра проходит длительный и сложный путь развития. На каждом этапе этого пути форма театрального сооружения отвечает характеру сценического действия, а иногда стимулирует дальнейшее развитие сценографии.
Начавшись в античности под открытым небом, театральное представление затем заключается в стены капитального здания, которое приобретает канонические формы ярусного театра. Современные тенденции приводят к переносу театрального действия в зал, за пределы сценической коробки, а затем и за пределы самого театрального сооружения.
Поскольку элементы театра как особой формы общения присутствуют в самых различных сооружениях общественного назначения, тенденции открытого, пространственного театра следует рассматривать как проявление важных черт развития всей современной архитектуры.
ГЛАВА 6. АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНТРАСТЫ
Что такое «типологический взрыв».
Из чего состоит каждое архитектурное сооружение.
Чему учит промышленная архитектура.
Функция безуспешно пытается определить форму.
Гиперболоид архитектора Леонидова.
Главное здание страны.
От здания-монумента — к зданию-структуре.

Архитектурные контрасты
«ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ»
Жилой дом и театр лишь два типа из всего огромного многообразия архитектурных сооружений, которыми мы пользуемся в своей жизни. Школа и магазин, кинотеатр и бассейн, гостиница и административное здание, вокзал и аэропорт, санаторий и больница, музей и библиотека — каждому из этих типов сооружений можно было бы посвятить целую главу. А ведь это только общественные сооружения, есть еще и производственная сфера — целый мир построек со своими весьма специфическими проблемами.
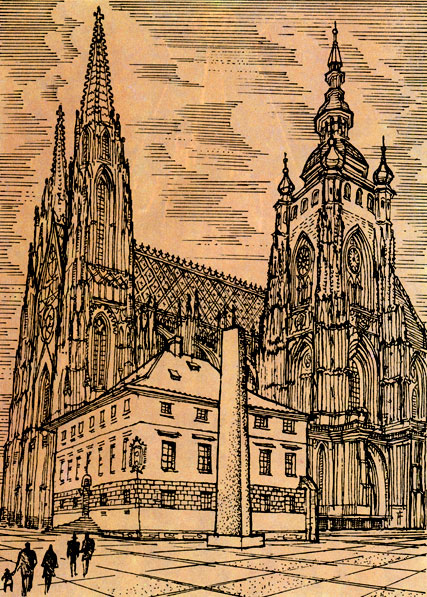
Собор св. Вита в Праге, ЧССР
Однако каждое из этих несхожих друг с другом сооружений является объектом деятельности архитектора. Не случайно, оканчивая архитектурный факультет или институт, выпускник получает диплом, где в графе «специальность» написано: «архитектура». Это означает, что он имеет необходимые знания и юридические права для того, чтобы проектировать любые типы архитектурных сооружений. Конечно, в жизни каждому приходится больше или меньше специализироваться в какой-то области, однако непреодолимой пропасти между этими областями нет. Работающие в них специалисты всегда в состоянии понять друг друга и имеют сферу общих, так сказать, «надтипологических интересов».
Вот и нам хотелось бы, не погружая читателя в пучину специальных типологических проблем, дать ему тем не менее почувствовать тот необычайно широкий диапазон творческих поисков и возможных решений, который связан с проектированием современного архитектурного сооружения. Сооружения вообще, а не какого-то одного конкретного типа. Правда, надо оговориться, чаще всего мы будем иметь в виду общественные здания — они больше знакомы читателю по личному жизненному опыту, и наши примеры не должны показаться ему в диковинку. Что же касается промышленных зданий, то придется ограничиться лишь краткой характеристикой значения их специфики для архитектурного творчества, поскольку для более предметного разговора пришлось бы углубиться в весьма специальные вопросы технологии и организации промышленного производства, которые, конечно же, выходят далеко за рамки нашей книги.
Название этой главы — «Архитектурные контрасты». Контрасты — потому что архитектор может идти весьма разными путями в решении своей задачи — организации пространства сооружения. И соответственно приходит к весьма несхожим по виду результатам. Но прежде чем обсуждать различия в методах формирования структуры современного сооружения — речь пойдет именно об этом, то есть о сложении целого из элементов, — надо понять, какова эта структура в самом общем виде. То есть из каких структурных элементов состоит архитектурное сооружение. Задача непростая, если учесть то множество типов сооружений, о котором говорилось выше.

33 богатыря
Чтобы ответить на поставленный вопрос, полезно, как мы уже не раз делали в этой книге, обратиться к неоскудевающей сокровищнице истории архитектуры. Первое, что при этом бросается в глаза: количество типов архитектурных сооружений со временем растет. Действительно, если не считать жилых и культовых построек, число типов общественных зданий вплоть до XIX века было сравнительно невелико, а по-настоящему лавинообразное увеличение их разновидностей началось лишь в нынешнем столетии. Быстрый рост численности населения на планете часто называют демографическим взрывом. Похоже, что в архитектуре происходит что-то вроде «типологического взрыва». Важно, однако, даже не само по себе увеличение числа типов. Важно то, что оно происходит на фоне значительного усложнения их внутреннего строения.
Поясним эту мысль на примере древнейшего типа общественного здания — культовой постройке. Обратите внимание: при всем различии конкретной архитектурной формы античного храма, римской базилики, готического собора или русской церкви каждое из этих сооружений обладает элементарной пространственной структурой; состоит из единого, функционального и визуально связанного пространства. Это пространство может быть достаточно сложным по форме и иметь свои членения (алтарная часть, боковые нефы, приделы и т. д.), однако эти части не обособлены наглухо, а слиты воедино. Современная архитектура, «открыв» для себя такой тип пространства, назовет его потом «перетекающим».
Вот почему в любом рассуждении об архитектуре трудно обойтись без ссылок на культовые постройки. Не только потому, что они самые старые по времени и аккумулировали в себе многовековую культуру и художественный опыт человечества. Но еще и потому, что они являются своего рода идеальными архитектурными объектами, где внешняя форма сооружения является оболочкой единого, целостного внутреннего пространства. Конечно, из этого еще не следует, что внешняя форма полностью вытекает из задач организации внутреннего пространства — высокие шпили готического собора «не работают» в его интерьере, так же как не определяются задачами организации внутреннего пространства шатровые завершения русских церквей. Но тем не менее определенная целостность, так сказать, монолитность архитектуры такого сооружения в значительной степени задана изнутри, предопределена самой логикой его строения. В интересующем нас аспекте структурной организации сооружение такого типа можно назвать моноструктурным — единоструктурным, единосущностным.
Очень немногие сооружения в истории мировой архитектуры могут «похвастаться» тем, что они моноструктурны. Разве что наиболее примитивные, архаичные типы жилых построек. Даже изба-пятистенка, не говоря уже о помпейском доме, состоит из нескольких различных по характеру использования изолированных помещений. А значит, имеет сложную, составную внутреннюю структуру. Такую структуру имеет подавляющее большинство сооружений, когда-либо построенных человеком. Сооружения подобного типа можно в отличие от моноструктур назвать полиструктурами. Речь далее пойдет исключительно о полиструктурах, однако, чтобы избежать использования специальных терминов, мы будем говорить просто о сооружениях, полагая, что читатель помнит об этой оговорке.
Понятно, что, проектируя такое «составное» сооружение, архитектор стоит перед весьма сложной задачей создания единого целого из нескольких — часто из очень большого количества — относительно самостоятельных частей. Что же это за части? Каждый тип сооружения состоит из набора отдельных помещений; пытаться дать их перечень или даже общую классификацию — дело еще более безнадежное, чем перечислить все типы общественных зданий. Но, может быть, для наших целей можно ввести какой-то очень общий принцип унификации элементов здания, который позволил бы, конечно обобщенно, описать структуру любого сооружения. Уточним, имеются в виду не конструктивные (стена, перекрытие, опора и т. п.) и не художественно-пластические (деталь, фактура, абрис и т. п.), а собственно пространственные, а еще точнее — функционально-пространственные элементы. То есть относительно обособленные пространства, из которых состоит сооружение и которые отвечают определенным типам функциональных процессов, протекающих в этом сооружении.
ЯЧЕЙКИ И ЗАЛЫ
Теперь необходимо признаться в том, что жилище и театр были не случайно выбраны для подробного рассмотрения. Элементарная жилая ячейка-комната и зрительный зал, который составляет основу театра, могут лучше, чем что-либо иное, служить моделями двух принципиально различных пространственных элементов структуры любого сооружения. Ячейка и зал. С одной стороны — интимное пространство для изоляции, уединения, пребывания одного человека или общения небольшой группы. С другой стороны — пространство для единовременного коллективного пребывания, массового действия множества людей. Речь идет, разумеется, необязательно о жилой ячейке и зрительном зале, но о ячейке и зале вообще. То есть о малом пространстве индивидуального пользования и о большом пространстве коллективного пользования.
С определенной долей условности любое сооружение может быть представлено как комбинация ячеек и залов. Это хорошо видно на плане одного из самых сложных по структуре сооружений древности — дворца царя Миноса на острове Крит. Того самого, который вошел в историю как мифический лабиринт. Большие залы и малые ячейки расположены здесь нерегулярно, без видимой системы (на то и лабиринт!). Но тем не менее они отчетливо прослеживаются на плане, что позволяет нам строить гипотезы о том, как протекала жизнь в этом сложном сооружении.
Гораздо более определенное взаимодействие ячеек и залов обнаруживают планы одного из наиболее интересных общественных сооружений древности — римских терм. Это, по сути дела, универсальный центр общения, где занятия физической культурой тела сочетались с интеллектуальной деятельностью. Первый прообраз клуба по интересам или многофункционального общественного центра, рассчитанного на одновременное пребывание нескольких тысяч человек. Термы были наиболее распространенным общественным сооружением римлян. В каждом городе имелись свои термы, а то и несколько. В самом Риме функционировало ни много ни мало около восьмисот (!) терм различного размера. Но самыми крупными и роскошными среди них были те, что строились императорами. Наибольшую известность из дошедших до нас в руинах получили термы Каракаллы — гигантское сооружение площадью 400х400 метров, построенное в 217 году.
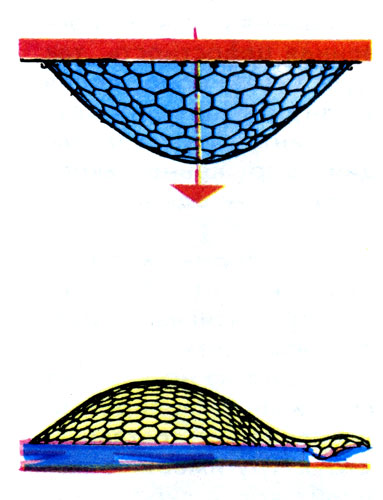
Множество типов зданий — множество архитектурных форм. Наилучшая форма
купольного покрытия моделируется на висячей модели
Центральный блок терм Каракаллы представляет собой комплекс помещений, сгруппированных в прямоугольник размером 150х250 метров. На плане четко выделяются три главных зала, расположенных по короткой оси здания. Они связаны с банной процедурой: центральный зал, в котором мылись и натирались благовониями, и два зала с бассейнами — горячим и холодным. Эти главные залы окружены ячейками — вспомогательными помещениями гораздо меньшего размера, которые служили для подготовки к мытью и занятий гимнастическими упражнениями. Ячейки группируются в два блока вокруг открытых двориков, расположенных симметрично по отношению к главной оси здания. Это весьма характерная деталь — группировка большого числа ячеек в компактном объеме сооружения требует организации внутренних световых дворов. Таким образом, в структуру здания включаются открытые пространства, своего рода залы под открытым небом — еще один важный элемент наряду с ячейками и залами.
Но это не все. Центральный блок терм стоит посреди огромного двора — сада, обнесенного массивной стеной. В стену встроены залы, предназначенные для научных, литературных, художественных бесед и других форм культурного общения, а также целая система вспомогательных помещений — ячеек. Даже если бы цо нашего времени не дошли литературные источники с детальными описаниями римских терм, сами по себе помещения, их размеры, оборудование и характер взаимного расположения позволили бы нам в общих чертах довольно точно воспроизвести, что в них происходило. Иными словами, реконструировать то, что можно назвать функциональной технологией здания, запечатленной в его пространственной структуре. Вообще, как это ни странно, рационализм, четкость структурного построения монументальных, подавляющих своими масштабами римских построек в чем-то сродни аскетической ясности совершенно несхожих с ними по форме и пространственной концепции произведений архитектурного функционализма 20—30-х годов нашего столетия, которые продолжают оказывать активное воздействие на развитие современной архитектуры.
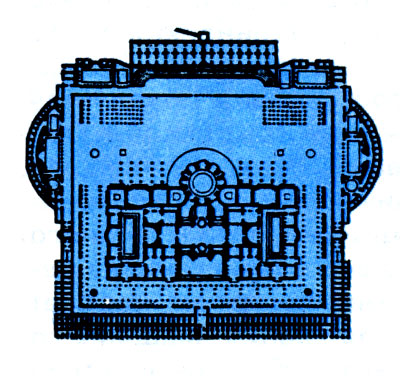
Термы Каракаллы в Древнем Риме (схема плана)
В эпоху средневековья, а затем и на все долгие годы господства феодальных монархий вплоть до XIX века общественная активность замыкается в стенах частных резиденций богатых аристократов и царственных особ. Уже упоминавшийся Версальский дворец королей Франции и подобные ему гигантские дворцовые комплексы являются, по сути дела, многофункциональными сооружениями, сочетающими в себе жилые, представительские, служебные помещения, залы для собраний, картинные галереи, театры и т. п. Таков и Зимний дворец в Ленинграде — его план представляет собой сложную комбинацию ячеек, залов и внутренних дворов. И хотя общая конфигурация здания выглядит геометрически упорядоченной, взаимосвязь составляющих дворец помещений еще заставляет вспомнить о мифологическом лабиринте.
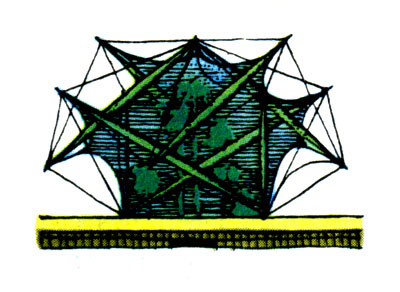
Проект оранжереи — необычная форма получена благодаря применению оригинальной
вантовой конструкции
Правда, здание стало многоэтажным и появились лестницы. Кратчайшие пути сквозного движения между лестницами начинают фиксироваться в плане здания, на них нанизываются ячейки и залы. Коридоры, которые раньше несли функции вспомогательного обслуживания парадных помещений, постепенно преобразуются в своего рода планировочные оси композиции зданий. Вместе с лестницами они составляют единую систему внутренних коммуникаций здания. Ставшая символом путаницы, полной потери ориентации в пространстве случайная конфигурация внутренних взаимосвязей помещений дворца-лабиринта постепенно распутывается. Она обретает черты ясной, геометрически четкой системы, не только обеспечивающей физическую возможность движения людей из помещения в помещение, но и ориентирующей, организующей это движение.
Так в структуре сложного сооружения появляется еще один, чрезвычайно важный, интегрирующий элемент — внутренние коммуникации. Планы построек XIX века характеризуются увеличением роли внутренних коммуникаций в организации пространственного построения здания. Кажется, что все возрастающая регулярность, механистичность этих построек черпает силы в бесперебойном ритме движения машинного механизма, который начинает свое победное шествие по планете, все больше определяя не только чисто внешние приметы времени и аксессуары быта, но и многие существенные стороны деятельности и сознания человека.
АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССА
С момента своего возникновения и по сей день строительство производственных зданий и промышленных объектов оказывает огромное революционизирующее воздействие на архитектуру. Здесь нам придется несколько отвлечься от общественных зданий, которые являются главным объектом данной главы, однако это отступление оправдано всем ходом последующих рассуждений, да и сама тема — промышленная архитектура — того стоит.
Влияние промышленной архитектуры порой недооценивают, возможно, потому, что сами промышленные постройки размещаются чаще всего за городом или в непрестижных, отдаленных его районах. Однако достаточно взглянуть на контрастные сочетания ажурных металлических конструкций из стекла и металла и пластичных бетонных форм, столь свойственные современной архитектуре общественных зданий, чтобы удостовериться в несомненности этого влияния, в его поистине всепроникающих масштабах. И конечно, не случайно многие из пионеров современной архитектуры и у нас, и за рубежом имели опыт проектирования промышленных сооружений — братья Веснины, Константин Мельников, Вальтер Гропиус возглавляют этот список, который может быть продолжен другими известными именами.
Воздействие промышленной архитектуры на гражданскую определялось несколькими различными факторами и поэтому развивалось по разным направлениям. Прежде всего следует отметить выдающуюся роль промышленной архитектуры в освоении новых конструктивных систем и конструкционных материалов. Большепролетные покрытия из металлических и железобетонных ферм, а затем и из монолитного железобетона, пространственные и пневматические конструкции, использование стекла в качестве ограждающей конструкции — все это впервые изобретено и прошло проверку жизнью в промышленных сооружениях. Металлический и железобетонный каркас, навесная панельная конструкция наружной стены также впервые были применены при возведении промышленных сооружений.
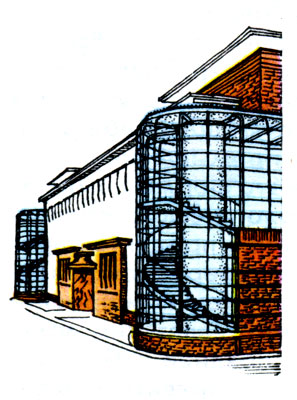
Фабрика в Кёльне. Архитектор В. Гропиус, 1914 г.
Дело здесь не только в использовании прогрессивных конструктивных систем, без которых просто невозможно представить себе современную архитектуру, но еще и в освоении связанного с их использованием художественного языка. Будучи утилитарной по своему смыслу, промышленная архитектура гораздо в меньшей степени, чем гражданская, скована условностями канона, ей внутренне чужд дух украшательства и, напротив, свойственна ясность, откровенность в использовании материала и конструкции. Разве могла железобетонная колонна «выйти» из тела стены и вызывающе встать посреди помещения в жилом доме или общественном сооружении, если бы она не «научилась» этому в непритязательной складской постройке? Разве случайность, что именно в одном из промышленных объектов, как уже отмечалось, впервые в советской практике панельного строительства был предложен и осуществлен открытый стык панелей? И кем — академиком И. В. Жолтовским. Разве не достойно удивления, что даже этого маститого поборника классики и выдающегося мастера архитектурной декорации промышленная архитектура увлекла на путь тектонической правды и борьбы со стилизаторством?
А один из главных художественно-пластических мотивов современной архитектуры — большие поверхности остекления. Ведь они пришли из практики оранжерейного и фабричного строительства, без опыта которого не могло быть ни хрустального дворца Пэкстона, ни мечты Миса Ван дер Роэ о стеклянных небоскребах. Даже мечты, не говоря уже о ее реализации. Кстати, сравнительно недавнее увлечение зеркальным, поляризованным стеклом точно так же опирается на опыт промышленного строительства. Именно там была поставлена и решена задача эффективной защиты больших остекленных поверхностей от перегрева путем увеличения коэффициента отражения стекла. Подобных примеров можно было привести великое множество, однако этим не исчерпывается роль промышленной архитектуры как своего рода школы или полигона архитектурного новаторства.

Промышленная архитектура
Промышленная архитектура часто и охотно обращается к использованию лаконичных поверхностей, простых и четких геометрических форм. Это определяется не только тем, что ей нет нужды отягощать себя деталями, но еще и самой природой промышленной технологии. Шар, цилиндр, куб — все это формы компактной «упаковки» различных технологических процессов, накопления и хранения сырья или продуктов промышленного производства. Форма гиперболоида вращения изысканно трактована в замечательном проекте здания Наркомтяжпрома, созданного советским архитектором Иваном Леонидовым, а позднее с блеском использована Корбюзье в комплексе правительственных зданий города Чандигара в Индии и бразильцем Оскаром Нимейером — в архитектуре столицы Бразилии города Бразилиа. А ведь она восходит к самой обыкновенной градирне, которую можно без труда опознать в знакомом силуэте теплоэлектроцентрали.
Причина приверженности промышленной архитектуры к лаконичным геометрическим формам коренится также и в том влиянии, которое оказывает на нее эстетика машинного производства и его продукции. Рациональная логика сложного сочленения простых деталей работающего механизма невольно переносится на архитектуру сооружения, в котором этот механизм работает. Архитектура служит как бы продолжением машины, ее футляром, отражающим не только общие контуры, но и сам принцип устройства. Промышленная архитектура становится своеобразным символом машины и стандартной машинной продукции. Но эта символика не беспочвенна, а правдива еще и потому, что строительство, и в первую очередь промышленное, действительно становится областью индустриального производства.
Но самое главное — промышленная архитектура воспроизводит в пространстве технологический процесс, то есть весь путь, который проходит сырье или заготовка до своего превращения в конечную продукцию. Этот процесс включает последовательное движение изделия по всем этапам его обработки, каждый из которых представляет собой определенную технологическую операцию и имеет специфические требования к организации пространства.
Таким образом, основу пространственной структуры промышленного сооружения составляет движение изделия, его маршрут, главная производственная коммуникация, на которую, как на единый стержень, нанизаны отдельные блоки поточно-функциональной схемы производственного процесса. Разумеется, при этом 4 учитываются и специфические требования, связанные с условиями трудовой деятельности человека. Однако они являются всего лишь дополнительным условием по отношению к рациональной технологии, да и автоматизация производства во многих случаях сводит их к минимуму. Что же касается требований технологии, то они достаточно определенны и однозначны. В итоге архитектура промышленного сооружения сводится к задаче наиболее рациональной и художественно выразительной компоновки технологически обусловленных пространственных форм в заданной технологией последовательности.

Мост
Здесь и возникает заманчивая идея аналогичным образом рассмотреть и объект гражданского строительства. Ведь общественное сооружение, к примеру магазин или вокзал, тоже имеет свою технологию или функционально-поточную схему. Правда, роль изделия в этой схеме играет человек, но ведь и он должен пройти определенные обязательные стадии «технологической обработки» — приобрести билет, подождать посадки, выйти на перрон и т. д. И каждая из этих технологических операций имеет опять-таки свои специфические требования к организации пространства.
Конечно, как только вместо бессловесного изделия появляется обладающий свободой воли и выбора человек, все становится во много раз сложнее. Он волен менять свой маршрут, произвольно выбирать последовательность операций, миновать некоторые из них. И тем не менее все множество возможных вариантов поведения с большой долей вероятности может быть уложено в строго ограниченное число функционально-технологических «цепочек». Заметим, что при этом аналогия с промышленным сооружением имеет еще один любопытный аспект: первичными при такой трактовке общественного здания являются требования рациональной технологии «обработки человека-изделия», то есть покупателя, пассажира, а требования удобства рабочего персонала — продавцов, сотрудников вокзала — играют роль дополнительного, второстепенного по важности условия.
Итак, промышленная архитектура предлагает не только новые конструкции и пространственные формы, но и новый метод архитектурного творчества. Может быть, и не такой новый, как это может показаться, потому что архитектор всегда исходил в своем творчестве из поведения и удобства человека. Но, во всяком случае, предлагается новая, уточненная формулировка этого метода и связанные с этим вполне определенные практические рекомендации.
ЗДАНИЕ НОВОГО ТИПА
Здесь уместно вернуться к основной теме главы — к вопросу формирования пространственной структуры архитектурного сооружения. И продолжить его рассмотрение на примерах из советской архитектуры двадцатых-тридцатых годов. Причин тому несколько. Во-первых, именно в эти годы и именно в советской архитектуре особенно заметно сказалось революционизирующее влияние промышленной архитектуры, причем во всех перечисленных выше аспектах. Во-вторых, потому что объективные предпосылки организующего воздействия промышленной архитектуры на метод и результаты архитектурного проектирования общественных сооружений оказались особенно созвучны новому осмыслению социальной роли труда и поискам новых типов массовых общественных зданий именно в молодой Советской России, только что приступившей к активному социалистическому строительству. Наконец, в-третьих, еще и потому, что это был один из самых насыщенных, сложных, интересных периодов становления современной архитектуры, который оказал огромное влияние на все ее последующее развитие не только у нас в стране, но и во всем мире.
1923 год. Один из первых архитектурных конкурсов на здание Дворца труда в Москве. Программой было предложено запроектировать «большое каменное здание» на участке, который занимает теперь гостиница «Москва». Конкурс на Дворец труда лишь самый первый шаг на пути поисков архитектурного образа главного здания молодого Советского государства. И хотя эта небывалая по сложности задача уже поставлена, наивное упоминание о «каменном здании» указывает на то, как далека еще архитектура от понимания того, что ей предстоит совершить. На конкурс представлено 47 проектов, среди них серьезные, интересные работы видных архитекторов. Но одному из них суждена особенно долгая судьба — он в очень многом определил тот путь, по которому двинулась дальше советская архитектура.
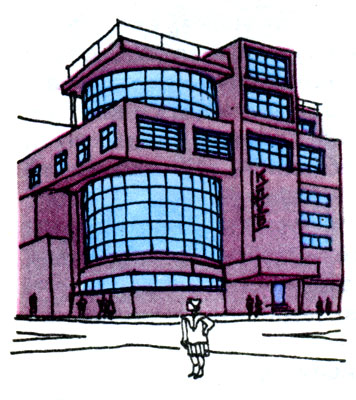
Клуб имени Зуева на Лесной улице в Москве. Архитектор И. Голосов
Правда, авторитетное жюри присудило ему лишь третью премию, а первой премией отмечен проект, сделанный на «основе крепких классических традиций». Но такие несправедливости случаются в архитектуре нередко, особенно в пылу ожесточенной сиюминутной полемики. Время исправило эту ошибку, и проект братьев Весниных занял то высокое место в истории советской архитектуры, которое принадлежало ему по праву. Замечательный творческий коллектив архитекторов Леонида, Виктора и Александра Александровича Весниных сложился еще до революции, однако именно революция вдохновила этих уже зрелых мастеров на новаторские поиски. Проект Дворца труда стал, по сути, первым манифестом того творческого направления, которое они в последующем возглавили.
Проект Весниных подчеркнуто не похож на «каменное здание». Два огромных зала — на 8 и 2,5 тысячи мест, аудитории для лекций, библиотека и читальные залы, музей, столовая, административные помещения, почта, телеграф, радиостанция размещены в нескольких объемах простой геометрической формы, объединенных общим ритмом железобетонного каркаса. Важно тут не только использование современной конструкции, но и то, что Веснины отходят от концепции единого, симметрично решенного объема классического общественного здания. Вместо этого предлагается асимметричная комбинация параллелепипедов и цилиндров, каждый из которых составляет отдельный функционально-пространственный блок здания. Все его части связаны единой системой горизонтальных и вертикальных коммуникаций — переходов, галерей, лестниц, лифтов, которые получают отражение в общей пространственной структуре здания. Эти коммуникации образуют внутренний функциональный каркас здания, около которого группируются многочисленные ячейки и залы его помещений. Открытое пространство активно включается в архитектуру сооружения не только благодаря широкому проезду, рассекающему его на две связанные части,— оно как бы улавливается ажурной сетью антенны радиостанции — ферм и растяжек, оплетающих верхнюю часть здания.
Простота и лаконизм геометрических форм, лишенных деталей, до суровости откровенное обнажение конструкции, функциональное расчленение здания на части и даже включение ферм и растяжек в архитектуру здания — все эти особенности веснинского проекта получат в дальнейшем активное развитие в проектах и постройках молодой советской архитектуры. И все они заставляют вспомнить о том, что Веснины имеют уже к тому времени богатый опыт работы в промышленной архитектуре. Да и не кажется ли, что все это динамическое нагромождение объемов с расчерченными в клеточку, словно перфорированными фасадами, с ажурной вязью металлических конструкций походит на некую чудо-машину, символ единения технического и социального прогресса, труда и народа?
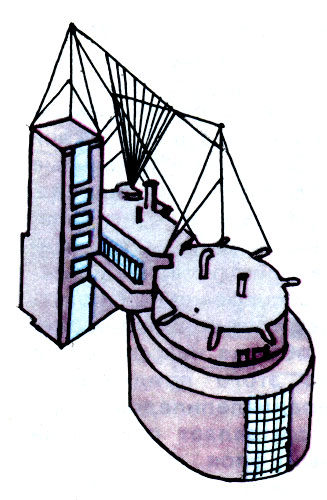
Дворец труда. Конкурсный проект архитекторов Л. А., В. А. и А. А. Весниных
Во всяком случае, тогда, в 1923 году, так должно было казаться многим. И не беда, что, если как следует приглядеться к плану дворца, он совсем еще недалеко ушел от классической симметрии и далеко не во всем оправдывает воинствующую динамичную асимметрию фасада. Главное — воплощенный в нем синтетический образ, порыв, за которым отчетливо угадывается направление движения.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД В ДЕЙСТВИИ
Во второй половине двадцатых годов в Москве появилась целая сеть новых рабочих клубов. Клуб был зданием совершенно нового типа, он не имел прототипа в структуре старого города и объединял набор весьма разнообразных помещений — зрительные залы, библиотеку, кружковые комнаты и т. п. По сути дела, это был своего рода центр общения — символ новой жизни и устремления к ней широких масс победившего народа. Эта символическая роль клуба была взята за основу и вышла на первый план в большинстве осуществленных проектов. Кажется легко объяснимым, даже вполне естественным, что авторы этих проектов искали создания совершенно нового архитектурного образа на том пути, который был проложен конкурсом на Дворец труда. Однако в большинстве своем они развивали тему веснинского проекта не столько в отношении поисков наилучшего функционального решения здания нового социального типа, сколько 6 духе более формальной, хотя подчас и очень талантливой поэтизации труда, техники, машины. Необычные, непохожие на традиционные дома, элегантные в своей неуклюжести, эти здания и сейчас выделяются на фоне обычной городской застройки. Выходящий на угол Русаковской улицы динамично вздыбленным трезубцем балконов зала уже упоминавшийся клуб имени Русакова. Его автор Константин Мельников построил не менее известный клуб завода «Каучук» на Пироговской улице и еще четыре клуба в Москве и ее ближайших окрестностях. Необычайно острые, оригинальные формальные решения Мельникова во многом сохранили свою свежесть до сих пор и служат образцом для многочисленных подражаний, в том числе и за рубежом.
Не менее талантливо найдено объемно-пространственное решение клуба союза коммунальников (ныне клуба имени Зуева) другим замечательным советским архитектором — Ильей Голосовым. И здесь динамично решенный угол — стеклянный цилиндр с врезанным в него нависающим над улицей прямоугольным объемом. И у Мельникова, и у Голосова при всех безусловных индивидуальных различиях их построек очевидны ассоциации архитектурных форм с архитектурой промышленных сооружений и машиной, механизмом, техникой вообще.
По иному, более трудному пути пошли сами Веснины. В 1931 году по их проекту начинается строительство Дворца культуры Пролетарского района Москвы, который должен был стать своего рода сверхклубом — центром культурно-массовой работы в рабочем районе столицы. Реализована лишь часть проекта — клубный корпус, который используется в настоящее время как Дворец культуры крупнейшего Московского автозавода имени Лихачева.
В этой постройке Весниным удалось последовательно провести в жизнь новые принципы проектирования общественного сооружения. Предельно четкая схема дифференциации основных функциональных групп помещений — зрительного зала, клубных комнат, библиотеки, детской секции. Все это удачно скомпоновано в едином Т-образном корпусе, который сохраняет традиционную для Весниных асимметрию расчлененного объемно-пространственного решения. Легкое, не подавляющее своими размерами сооружение одновременно вмещает до 4 тысяч человек. Ясность общего замысла, уравновешенность всех частей композиции, точно найденная мера пластической разработки деталей делают это сооружение подлинно классическим произведением современной архитектуры. Многие из приемов, найденных здесь Весниными, становятся стереотипными для архитектуры общественных зданий. Например, асимметричное расположение зрительного зала в структуре всего здания. Он как бы врезается верхними рядами амфитеатра в перпендикулярный ему протяженный объем фойе, однако главный вход четко фиксирует продольную ось зала.
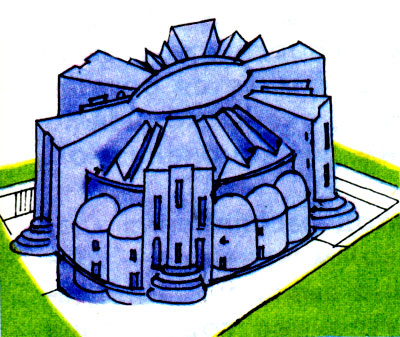
Дворец труда. Конкурсный проект архитектора Н. Троцкого
Метод, с помощью которого Веснины и их последователи — советские конструктивисты — проектируют сооружение, можно было бы назвать аналитическим. Они подвергают тщательному анализу функциональное содержание проектируемого сооружения и фиксируют результаты этого анализа в его объемно-пространственной структуре. Здесь, пожалуй, не обойдешься уже универсальными понятиями о ячейках и залах вообще. Они дифференцируются на множество типов, можно сказать, даже «персонифицируются» — едва ли не каждый из таких пространственных элементов получает специфические отличия. И вот все эти ячейки, залы, открытые пространства разных типов группируются около развитых коммуникационных пространств, которые обеспечивают единство такого «разобранного на части» сооружения-механизма. Отсюда — неизбежная изрезанность, расчлененность пространственной структуры сооружения и его объемного решения, которое всегда строится на динамическом контрасте нескольких форм.
К сходным результатам приходят примерно в те же годы и зарубежные архитекторы современного направления. С той лишь разницей, что в их работах в большей мере проявляется сухой рационализм техницистского подхода. В советской же архитектуре функциональный метод опирается главным образом на выявление нового социального содержания в структуре сооружения.
Почти в то же время, когда Веснины строят Дворец культуры Пролетарского района в Москве, признанный лидер современной архитектуры Запада Корбюзье строит в Париже общежитие швейцарских студентов, где доводит расчленение объема сооружения на функциональные элементы до предельно ясного выражения. Блок жилых комнат-ячеек, зал вестибюля, главная коммуникация — лестница — все составляющие этого маленького здания выделены в отдельные объемы, каждый из которых получает свою пластическую характеристику. Тот же самый прием организации здания Корбюзье демонстрирует и в гораздо более крупном сооружении — здании Центросоюза в Москве. Интересно, что Корбюзье впервые получает возможность построить здание такого масштаба и значения, и заказ этот он получает от первого в мире социалистического государства. Москва с полным основанием претендует на новую для нее роль одной из столиц современной архитектуры.
Гладкий, сплошь остекленный фасад здания Корбюзье выходит непосредственно на улицу Кирова на участке между Бульварным и Садовым кольцом. Однако, чтобы получить правильное представление об этом интересном архитектурном сооружении, надо обойти его и увидеть фасад с обратной стороны. Именно сюда, в сторону будущего Новокировского проспекта, и было ориентировано здание. Отсюда раскрывается богатая игра сложно расчлененных объемов, очень сходная по своему характеру с аналитическим функционализмом Весниных.
Кажется, функциональный метод расчленения здания на части — ячейки, залы, коммуникации — торжествует во всем мире. Он словно выворачивает здание наизнанку, обнажая его внутреннее содержание и превращая скрытую формулу его функционирования в доступную всеобщему обозрению жесткую скорлупу внешней формы. Но, как это часто бывает, именно в момент наивысшего взлета обнаруживаются не только давно очевидные достоинства, но и незаметные ранее недостатки.
ГИПЕРБОЛОИД АРХИТЕКТОРА ЛЕОНИДОВА
Построенное по проекту Корбюзье здание Центросоюза в Москве продемонстрировало многие из тех сложностей, которые несет с собой метод функционального расчленения, дезинтеграции архитектуры применительно к созданию крупного современного сооружения. До этого метод был опробован в основном на сравнительно небольших, можно сказать, камерных сооружениях. Замысел Весниных, как мы знаем, также остался не осуществленным до конца — из всего комплекса Дворца культуры был построен лишь один клубный корпус. А размеры сооружения играли не последнюю роль — общественные потребности и технические возможности строительства ставили на повестку дня задачу создания крупных общественных зданий, отвечающих духу и устремлениям времени. Не случайно в тридцатые годы проводятся крупнейшие международные конкурсы на Дворец Лиги Наций в Женеве и Дворец Советов в Москве.
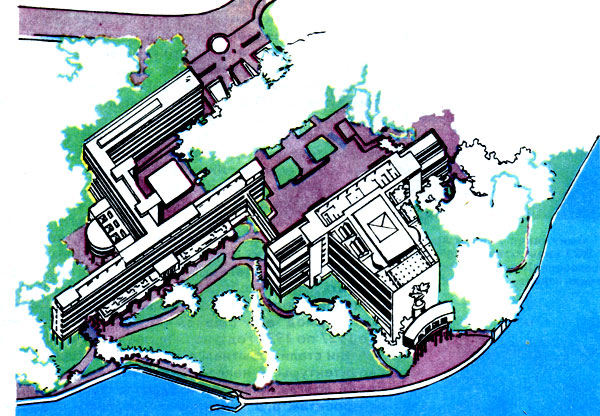
Дворец лиги Наций в Женеве. Конкурсный проект архитектора Корбюзье
Но еще до того, как произошли эти важные события, во многом определившие дальнейшее развитие архитектуры, ограниченность методов функционального анализа для создания современного архитектурного сооружения была выявлена со всей очевидностью, так сказать, в экспериментальном порядке. Парадоксально то, что сделано это было в творчестве одного из самых талантливых и ярых приверженцев функционального метода — архитектора Ивана Леонидова.
Леонидов — человек необычайно яркой и трудной творческой судьбы. Прирожденный новатор, искренне уверовавший в то, что социальная перестройка общества требует ломки отживших, традиционных форм и в области архитектуры, одаренный исключительным художественным чутьем, Леонидов буквально за несколько лет прямо со студенческой скамьи шагнул в число лидеров советской архитектуры. Творческий путь Леонидова был осложнен не только его трудно укладывающимся в общие мерки талантом, но и его бескомпромиссностью, стремлением «во всем дойти до самой сути», с предельной честностью и самоотдачей выразить себя в собственном творчестве.
Ни один из проектов Леонидова, сделанных им в короткий период его ошеломляющего творческого взлета (с 1927 по 1934 год), не был реализован. Но едва ли не все они стали событием в истории советской и мировой архитектуры. А некоторым из них суждена была куда более долгая жизнь, чем благополучно реализованным проектам его «удачливых» коллег и соперников. Проекты Леонидова во многом оказались пророческими, им подражают, от них отталкиваются, их обсуждают до сих пор. Иными словами, они не утратили своего интереса для нашего времени точно так же, как знаменитые дискуссии Эйнштейна и Бора, определившие развитие современной физики примерно в те же годы, когда работал Леонидов.
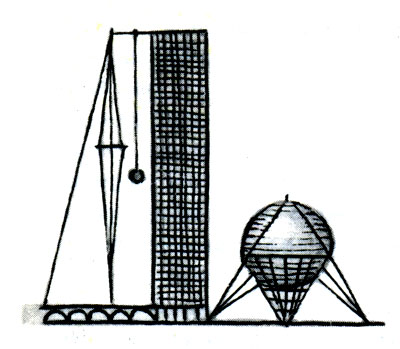
Проект Института библиотековедения имени В. И. Ленина. Архитектор И. Леонидов
Леонидовская тема заслуживает особого разговора на страницах этой книги, но по ходу нашего рассуждения о структуре современного архитектурного сооружения просто невозможно не коснуться его работ. Поэтому мы постараемся сделать это кратко, однако надо предупредить читателя, что, поскольку споры о Леонидове не затихают до сих пор, в трактовке его творчества очень трудно избежать субъективных оценок и суждений. Вот и в нашем случае они остаются на совести автора и не претендуют на полноту объективного научного анализа.

здание СЭВ
Леонидов — ученик, и любимый ученик, Весниных. Как и всякий ученик, не уступающий по таланту учителям, он стремится уйти как можно дальше по проложенной ими дороге и часто доходит до таких пределов, где эта дорога кончается.
В конце двадцатых годов страна строит рабочие клубы, и Леонидов делает свой проект-исследование на тему клуба. Верный функциональному методу своих учителей, он кладет в основу проекта детальный анализ функций клуба как социального явления, как здания нового типа. Но этот анализ Леонидов со свойственной ему последовательностью и бескомпромиссностью доводит до логического конца. Он полностью разбирает здание на части, вместо единого сооружения он предлагает своего рода систему павильонов, свободно стоящих в парке. Большой параболический купол главного универсального зала покоится на одноэтажном распластанном объеме вспомогательных клубных помещений, имеющем в разных вариантах форму квадрата или вытянутого прямоугольника. Рядом расположены малый купол физкультурного зала и связанный с ним стадион. Отдельно стоящие кубические павильоны для кружковой и лабораторной работы образуют цепочку, протянувшуюся в сторону огромного демонстрационного поля. Все эти пространственные элементы разнесены на значительные расстояния. Они связаны изысканной пространственной композицией целого, но это связь больше символическая, художественно-образная, если не сказать — графическая. Физическая, функциональная связь между элементами сооружения практически отсутствует.

Крымский мост в Москве
В этой ситуации для того, чтобы придать искусственно разъятому на части целому облик единого архитектурного сооружения, требуется уникальное мастерство создания композиции. Как и всякий гениально одаренный художник, Леонидов ставит перед собой задачу на пределе возможного и справляется с ней. Но какой ценой! Он опровергает собственные исходные посылки, приводит к абсурду изначальную идею функциональной дифференциации сложного, но целостного организма сооружения. Во-первых, потому, что во имя предельной чистоты «функционального» решения клуб теряет элементарные эксплуатационные удобства единого компактного сооружения. Во-вторых, потому, что формальные приемы пространственной организации различных элементов здания, по сути дела, невыводимы из их конкретного функционального назначения. Получается, что функциональный анализ служит не однозначно трактуемой основой объемно-пространственного решения, а всего лишь предпосылкой (фактически только одной из предпосылок) для формальных, композиционно-художественных поисков. Поисков у Леонидова — новаторских, но в смысле метода творческой работы архитектора традиционно художнических, то есть совершенно ортодоксальных.

Плотина Днепровской ГЭС имени В. И. Ленина
Характерная деталь — во время обсуждения леонидовского проекта ему задают вопрос: «Чем, как не эстетически формальными соображениями, можно объяснить введенные вами одинаковые формы для разных функций?» (Имеются в виду два купола разных размеров, но одинаковой формы, использованные для перекрытия универсального и спортивного залов.) Леонидов отвечает: «Вопрос говорит о том, что спрашивающий прежде всего интересуется внешней формой... а для нас же форма — результат организации и функциональных зависимостей рабочих и конструктивных моментов...» Ответ не по существу. Более того, он демагогичен. Видимо, потому, что ответить нечего.

Административное здание в Тбилиси
Клуб Леонидова со всей наглядностью демонстрирует недостаточность функционального анализа для формирования пространственной структуры сооружения. Наводит на мысль о том, что расчлененность здания на пространственно обособленные элементы нельзя считать априорно функциональной и что при определенных условиях она легко переходит в свою противоположность. Что с точки зрения решения комплексной архитектурной задачи структурно-функциональной и композиционно-художественной организации здания эта расчлененность является всего лишь одним из возможных средств. Но отнюдь не единственно возможным.
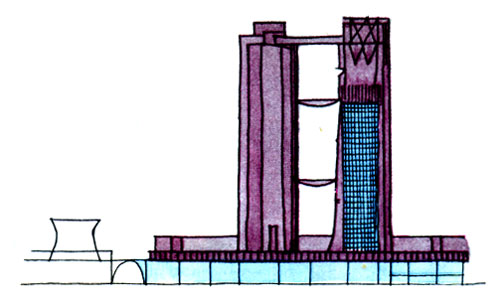
Конкурсный проект дома Наркомтяжпрома на Красной площади (архитектор И.
Леонидов)
Леонидов находит свой, по сути дела, совершенно иной путь — путь создания крупной, цельной архитектурной формы. Этот путь ясно виден в его проекте Института Ленина в Москве на Ленинских горах, который выполнен приблизительно в то же время, что и клуб. Тонкий параллелепипед книгохранилища, прозрачный шар большой аудитории, вознесенный над землей на ажурной конической опоре-ферме, перекрестье низких одноэтажных корпусов, убегающих в зелень парка... Уже в этом проекте пространственная расчлененность сооружения является не самоцелью и выходит далеко за рамки собственно функционального анализа, она служит лишь предпосылкой для поиска укрупненного, цельного, символически значимого образа сооружения. Если для Леонидова и принципиально наличие нескольких составляющих в общей композиции сооружения, то, по-видимому, главным образом для того, чтобы подчеркнуть объемный, бесфасадный характер сооружения, как сложной пространственной структуры.
Интересно, что в последнем из своих крупных «идейных» проектов — здания Наркомтяжпрома на Красной площади в Москве — он сводит число основных пространственных элементов сооружения к минимально возможному. Всего три башенные вертикали — параллелепипед, трилистник и цилиндр (точнее, близкий к цилиндру гиперболоид вращения) — тесно сошлись на одном стилобате и образуют, по сути дела, единую, но опять-таки бесфасадную, проницаемую пространством форму сооружения.
Удивительно не только то, что Леонидов в своих проектах предвосхищает поиски укрупненной пространственной структуры сооружения, которые развернутся в мировой архитектуре лишь к началу шестидесятых годов. Он как бы «перешагивает» через творчество таких гигантов, как Корбюзье и Мис ван дер Роэ, хотя ему суждено раньше их уйти из жизни. Может быть, предчувствуя это, он жадно торопится заглянуть в будущее, и насколько точен, проницателен его взгляд. Леонидовский шар будет неуклюже воспроизведен американцами на Нью-Йоркской выставке 1937 года. Лишь в 1967 году американский архитектор японского происхождения Минору Ямасаки доведет трактовку полностью лишенных деталировки сплошных стеклянных фасадов небоскребов нью-йоркского Трейд-центра до чистоты стеклянного параллелепипеда из леонидовского Института Ленина. Таких примеров прямого влияния творческого наследия Леонидова немало — ив нашей архитектуре, и в зарубежной.

Проект здания издательства «Ленинградская правда». Архитекторы братья Веснины
В своих поисках укрупненной архитектурной формы Леонидов исходил из молчаливой констатации того, что в рамках найденного формального решения он в состоянии решить функциональные проблемы. Тем самым он вступал в определенное противоречие с методом своих учителей — методом функционального анализа. Собственно, речь шла не столько о противоречии, сколько о развитии. Отталкиваясь от понимания социальной природы сооружения, его функции, надо было идти дальше — к поискам формы. Усвоив функциональный метод, надо было расширить его рамки, усовершенствовать, приспособить его для решения новых задач — создания крупных, общественно значимых сооружений, несущих большую образно-символическую нагрузку.
И Леонидов делал это как умел. Однако в обстановке острой творческой дискуссии, нелегкой полемики с представителями самых разных взглядов, в том числе и таких, которые казались ему безнадежно устаревшими, Леонидов безоговорочно поддерживал своих учителей, объявлял себя функционалистом и стремился объяснить свои новаторские поиски в области формы соображениями чисто функционального толка. Это была легко уязвимая позиция, которая приносила вред и Леонидову, и его старшим товарищам — функционалистам. Самому Леонидову — потому что функционалистская фразеология не позволяла ему честно и открыто обозначить и объяснить направленность его поисков, а его противникам только помогала изобличить его в демагогии и «формализме». Его учителям — потому что наличие среди них Леонидова с его далеко не всем понятными формальными поисками больше, чем что-либо другое, свидетельствовало о непоследовательности и внутреннем несовершенстве функционалистских взглядов.
Поворот в сторону освоения классического наследия, изменение направленности советской архитектуры в середине 30-х годов — явление сложное, но во многом исторически обусловленное. И конечно, весьма драматическое для судеб отдельных архитекторов. В том числе, к великому сожалению, и для Леонидова. Потому что именно он одним из первых осознал, что первый функционально-конструктивистский период советской архитектуры во многом исчерпал себя и нуждается в глубоком творческом переосмыслении. И хотя это переосмысление пошло поначалу совсем иным путем, чем предполагал Леонидов, а ему самому не пришлось, к сожалению, пережить эти трудные для него годы, объективный ход развития советской и всей мировой архитектуры снова пробудил интерес к новаторским работам Леонидова конца 20-х — начала 30-х годов. Легко, без всякого напряжения шагнули они прямо в наше время, минуя целые десятилетия.
ДВОРЕЦ СОВЕТОВ
Точки над «и» поставил длительный, в несколько этапов, конкурс на Дворец Советов в Москве, тянувшийся почти три года, с 1931-го по 1933-й. Перед участниками этого конкурса была поставлена необычайная по сложности идейно-художественная задача — создание архитектурного образа главного здания страны. И здесь выяснилось со всей очевидностью, что сам по себе рациональный функциональный анализ и вытекающее из него последовательное расчленение здания на элементы недостаточны для решения поставленной задачи. Даже если они выполнены с таким изысканным, филигранным мастерством, как в представленном на конкурс проекте Корбюзье.
Сложная технология гигантского сооружения (главный зал Дворца Советов вмещал по заданию 21 тысячу человек) должна была быть разрешена в пространстве не просто исходя из соображений удобства, хотя и это само по себе было сложной задачей. Главное в том, что гигантское сооружение должно было стать символом своей эпохи, выразить дух времени в ясных, запоминающихся неповторимых формах. Значит, оно должно было обрести целостную пространственную структуру, единую пространственную композицию. Здесь не годилась пришедшая из промышленности функциональная технология. А других средств разработки пространственной структуры крупного сооружения так называемая современная архитектура (причем не только наша, но и зарубежная) на тот момент, увы, не имела. Оставался единственный выход из положения — вернуться к ортодоксальному методу поисков архитектурной формы, позволяющему сформировать цельный пластический образ здания.
Конечно, можно было попытаться найти такой образ в языке современной архитектуры, в лаконизме простых геометрических форм — для этого надо было более широко и масштабно осмыслить задачу, отказаться от догматической приверженности к машинной технологии, в полной мере ощутить себя художником. Большинство даже видных архитекторов нового направления еще не были готовы преодолеть в себе укоренившийся за эти годы «ползучий» рационализм. Даже Корбюзье — новатор из новаторов — подойдет к такому повороту в своем творчестве лишь в пятидесятые годы. По этому пути шел Леонидов. Но он был одинок, проект здания Наркомтяжпрома только предстояло разработать, а идти было еще очень далеко.
В этих условиях проще всего оказалось повернуть обратно и обрести утраченную цельность на проверенных временем дорогах классики. От тура к туру многоэтапного конкурса проект архитектора Б. М. Иофана, к которому затем присоединились В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, обретал все большую законченность монументального сверхсооружения. Сравнительно небольшой в первом туре спиралевидный объем на высоком стилобате постепенно разрастался, превращаясь в главную тему выбранного для строительства проекта — гигантскую уступчатую башню, устремленную в небо. Целостность пространственной структуры сооружения и вдохновляющая символика образа были достигнуты. Пускай путем обращения к старым классическим мотивам, традиционным фасадным картинкам, но архитектура зато вспомнила о своем извечном предназначении — говорить на языке высокого искусства.
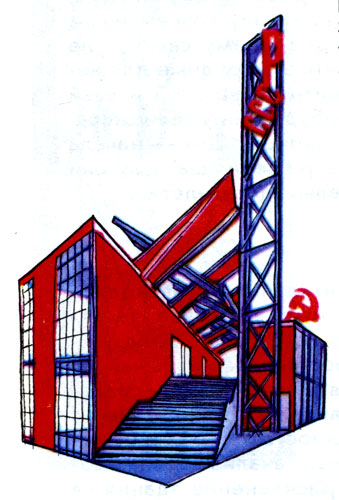
Павильон СССР на выставке в Париже. 1925 г. Архитектор К. Мельников
Что же касается функционального метода, то он вошел в плоть и кровь архитектуры XX столетия, его не отлучить от нее никакой ценой. Он стал историческим завоеванием советской архитектуры. Улягутся, потом снова всколыхнутся и снова улягутся бурные волны полемики — время найдет ему достойное и правильное место в разностороннем творчестве советских архитекторов.
Великая Отечественная война оборвала планы строительства главного общественного здания страны. Подготовленные к монтажу металлические конструкции гигантского сооружения были использованы для нужд обороны — из них строились мосты, изготовлялись противотанковые заграждения. Со временем на месте котлована, отрытого для строительства Дворца Советов на Кропоткинской набережной, был устроен популярный теперь у москвичей круглый бассейн. Однако Дворец Советов не только стал историей советской архитектуры. Построенные в Москве в послевоенные годы высотные здания самим фактом своего строительства и архитектурным обликом обязаны Дворцу Советов — их уступчатые динамичные силуэты напоминают о том, что они наследники и продолжатели этого неосуществленного проекта.
Идея строительства Дворца Советов обрела вторую жизнь в 1957 году. Теперь для него была выбрана новая и тоже очень ответственная площадка — на Ленинских горах, на одной из главных планировочных осей Москвы, соединяющих Кремль с новыми столичными комплексами стадиона в Лужниках и Московского государственного университета. Так уж получилось, что работа над проектированием Дворца Советов отмечала наиболее важные повороты в развитии советской архитектуры. Новый конкурс на проект здания Дворца Советов прошел в атмосфере решительного отказа от псевдоклассических декораций в архитектуре. Вот и облетели разом фасадные картинки, уступая дорогу трехмерным леонидовским макетам и обнажая то главное, что годами формировалось под их иллюзорным внешним покровом — крупномасштабную цельную структуру современного архитектурного сооружения. И хотя представленные на конкурс проекты в конечном счете также остались нереализованными, они обозначили новый этап поисков архитектурного образа крупного общественного здания, свободный от функционалистской предвзятости и от непосильной ноши классического наследия.
Ну что ж, наверное, не наступило еще в нашей архитектуре время глубокой и полной зрелости, чтобы великая идея Дворца Советов в полной мере оказалась ей по плечу. Но повседневная, настойчивая работа неуклонно приближает это время. Накоплен большой и плодотворный опыт проектирования крупных общественных сооружений во всем мире и, конечно, у нас в стране. О чем же он говорит? К какому пониманию композиционно-пространственной структуры общественного здания он подводит? Какие проекты мы увидели бы на третьем конкурсе Дворца Советов, если бы он состоялся в ближайшем будущем?
ПРЯМАЯ И КРИВАЯ
Итак, еще раз уточним интересующую нас проблему: какими принципами руководствуется современный архитектор, компонуя сооружение из множества составляющих его ячеек, залов, коммуникаций, открытых пространств? Каким путем он формирует из этой сложной смеси целое? Мы, разумеется, понимаем, что его волнуют и функция, и конструкция, и форма. Но мы понимаем также, что ни одна из этих составляющих не определяет пространственную структуру сооружения однозначно, жестким образом. Чему отдать предпочтение — тому, другому или третьему?
Едва ли существует одна формула ответа на все эти вопросы. Выбор определяется специфическими условиями проектирования сооружения, его масштабами и значением и лишь после этого предпочтениями самого архитектора. Поэтому есть несколько путей решения задачи, и каждый из них имеет свои особенности.
Наиболее древний и, пожалуй, наиболее распространенный до сих пор — когда архитектор при создании сооружения изначально задается некоторыми характерными чертами его формы, внешнего облика. Можно сказать, что его усилия в данном случае направлены на создание здания-монумента, здания-скульптуры. Задача состоит в том, чтобы как можно более эффективно сочетать функциональные и конструктивно-технические параметры сооружения со спецификой выбранной формы и желаемыми пластическими характеристиками. Чтобы понять, насколько широк диапазон возможностей в рамках такой концепции проектирования, напомним, что таким путем шел и Леонидов в проекте здания Наркомтяжпрома и Иофан в проекте Дворца Советов.
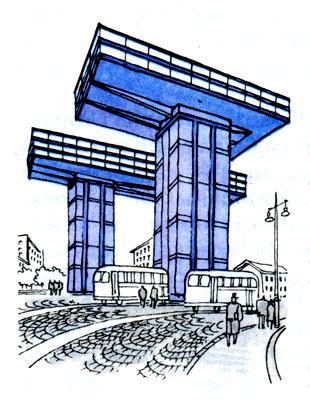
«Горизонтальные небоскребы». Проектное предложение архитектора Л. Лисицкого
Концепция здания-скульптуры лежит в основе пространственной организации подавляющего числа тех сооружений, которые мы называем памятниками архитектуры. И несмотря на то, что их создатели, как правило, были скованы в своем формотворчестве и весьма ограничены техническими возможностями, пристрастиями заказчика и велениями моды, история архитектуры не выглядит нудным повторением одного и того же. Разумеется, было бы безумной затеей анализировать весь процесс трансформации художественных установок архитекторов при проектировании, например, общественных зданий — пришлось бы просто-напросто пересказать всю историю архитектурных стилей. Обратим внимание лишь на одну позицию, которая в полной мере сохраняет свое значение в изменившихся условиях нашего времени.
Через всю историю архитектуры проходит давний спор прямой и кривой, геометрической правильности и органической нерегулярности формы. Это два в корне отличных понимания пластики архитектурной формы, которые тесно соседствуют и непрерывно спорят друг с другом. Примеры того и другого подхода постоянно присутствуют рядом, но всякий раз ощутимо более или менее выраженное засилье одного из них. Так, в сравнительно короткую, но бурную эпоху барокко, кажется, вся архитектура была захвачена буйством криволинейных форм, стремившихся уничтожить всякое воспоминание о прямой линии.
Много позднее, уже в начале XX века, беспримерную по своей последовательности и ожесточению попытку бунта против засилья прямоугольной геометрии предпринял испанский архитектор Антонио Гауди. Его причудливые сооружения кажутся вылепленными из глины моделями или сказочными песочными замками. Сложность криволинейных очертаний в его постройках была такова, что он не всегда в состоянии был изобразить их в чертежах и выдавал на стройку прямо изображения-шаблоны в натуральную величину. Одинокий чудак, Гауди начал главную постройку своей жизни — фантастический собор Святого семейства в Барселоне в 1884 году, но до смерти в 1926 году успел возвести лишь один из его фасадов. Строительство собора продолжается до сих пор.
Конечно, в попеременном обращении к прямой и кривой как двум диаметрально противоположным началам нет какой-либо мистической предопределенности. Можно заметить в этой связи, что тяготение к прямой, к геометрии, к регулярности связано с определенной мировоззренческой стабильностью, с оптимистической апелляцией к разумным основаниям коллективного порядка и с верой в гармонию. Мир неправильных криволинейных форм в большей мере обращен к эмоциональной сфере человека, к его индивидуалистическому началу, ассоциируется скорее с неустойчивым состоянием ожидания изменений, динамикой отрицания и движения к новым целям.
Разумеется, такие толкования в высшей степени условны, их нельзя понимать буквально, они всего лишь помогают уяснить различия в сложной специфике воздействия архитектуры на человека. Было бы грубой вульгаризацией пытаться подвести подобные объяснения под каждое конкретное проявление своеобразной «диалектики прямой и кривой» в развитии архитектурной формы. Чаще всего переход к новой ориентации обусловлен, так сказать, логикой очередного шага, тем, что она является антитезой, противоположностью по отношению к старой, существующей. Такой переход позволяет наиболее убедительно продемонстрировать новые конструктивно-технические возможности архитектуры, появление которых, как правило, ему и предшествует.
Так, быстрое распространение металлического и особенно железобетонного каркаса, использование больших поверхностей стеклянного ограждения во многом стимулировали подчеркнуто ортогональную архитектуру раннего функционализма. Начиная с 20-х годов XX столетия засилье правильных геометрических форм превратило современную архитектуру в своего рода симфонию прямых углов и линий. Эстетика прямого угла, столь свойственная этому времени, несводима, однако, к соображениям сугубо конструктивного характера. Она превращается в своего рода моду, расхожий эталон современной архитектурной формы.

Необычные формы, богатая пластика фасадов отличают постройки испанского
архитектора А. Гауди (1852—1926 гг.)
Лишь немногие, среди них ветеран американской архитектуры Фрэнк Ллойд Райт и финн Алвар Аалто, настойчиво выступали все это время поборниками органических, геометрически неправильных форм. Их опыт убеждает в том, что прямой угол не является единственным инструментом рационального и экономичного функционального решения. Можно построить хорошее конторское здание без единого прямого угла, как это делает Райт для фирмы «Джонсон» в 1936 году. Можно разрешить и все функциональные проблемы студенческого общежития, придав его фасаду волнообразные очертания, как это демонстрирует Аалто в 1947 году в здании, построенном для Массачусетского технологического института. Но все это лишь редкие усилия одиночек на фоне охватившего архитектуру повального увлечения геометрическими формами.
В середине 50-х годов обстановка меняется. И опять трудно назвать какую-либо одну причину. С одной стороны — освоение большепролетных конструкций из монолитного железобетона, с другой — разочарование в стерильном геометризме «современных форм». Этот поворот особенно резко обозначился после того, как Корбюзье, слывший всегда поэтом прямого угла, построил в Вогезах, на востоке Франции, церковь подчеркнуто криволинейных очертаний. Эта часовня в местечке Роншан стала не только примером новой и совсем неожиданной трактовки тектонических свойств открытого, или брутального, бетона, но и символом обращения современной архитектуры к эстетике пластичных, скульптурных форм.
В 1953—1954 годах американцы Мэттью Новицки и Фред Северуд разработали и соорудили необычное легкое покрытие арены в штате Северная Каролина. Основу его конструкции составляют тросы-ванты, натянутые на две пересекающиеся железобетонные арки параболической формы. Изящное седловидное сооружение обошло все архитектурные журналы мира и стало образцом для многочисленных подражаний. «Бабочка» вантового покрытия становится традиционным приемом архитектуры спортивных сооружений и залов.
Эксперименты с тонкостенными конструкциями из монолитного железобетона придают архитектуре особую динамическую устремленность и эмоциональную выразительность. Кажется, никогда еще со времен готики архитектура не демонстрировала такой безудержной смелости конструкции, побеждающей инертную массу материала. Своды-оболочки, возводимые мексиканцем Феликсом Канделой и итальянцем Энрико Кастильони, кажутся легкой тканью, небрежно наброшенной на сооружение и касающейся земли всего в нескольких точках. Именно так и поступает немецкий инженер Фрей Отто — легкая вантовая конструкция превращается, по сути дела, в пленочное покрытие, позволяющее легко перекрыть любую форму плана.
Если здание перекрывается легким тентом, то нельзя ли использовать в качестве опоры давление воздуха, уподобить сооружение воздушному шару? Так рассуждают американский архитектор Виктор Ланди и инженер Уолтер Берд, создатели «пневматической архитектуры». В 1960 году они возводят фантастический выставочный павильон во Флориде, который представляет собой фактически аэростат с двойной оболочкой, напоминающий своими округлыми очертаниями гигантского белого кита. Другой американец, Бакминстер Фуллер, возвращает современной архитектуре традиционную форму купола. Конструкция Фуллера состоит из прямоугольных элементов, что обеспечивает легкость перевозки и быстроту возведения сооружения. Такой купол — Фуллер называет его геодезическим — можно видеть в московском парке «Сокольники», он был построен в качестве павильона Американской выставки в Москве.
Как будто вырвавшаяся из прямоугольного плена архитектура с неуемной жадностью осваивает эстетику криволинейных форм по всему свету. В здании филармонии, которую построил в 1964 году в Западном Берлине немецкий архитектор Ганс Шарун, вообще, кажется, нет ни одного прямого угла. Сложнейшая технология крупного концертного зала умело встроена в это сооружение, напоминающее кристалл диковинного минерала или сморщенную палатку и бесконечно далекое от какой бы то ни было регулярности.
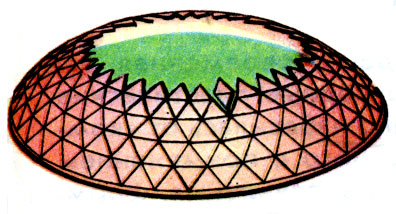
Купольное покрытие из сборных элементов
Тяга к криволинейным формам проявляется не только в изысканных и легких покрытиях спортивных залов — олимпийских сооружений Токио, олимпийского велотрека в Москве. Она видна и в массивных, словно оплывших деталях фасадов, казалось бы, традиционно прямоугольных по конфигурации плана представительных городских сооружений. Такая подчеркнуто скульптурная трактовка архитектурной формы характерна, например, для здания ТАСС в Москве (архитектор В. С. Егерев с соавторами). Фасад дома решен большими квадратными рамами с закругленными углами. Как раз эти закругления являются главным мотивом пластического образа. Они недвусмысленно восходят к формам современного дизайна, пробуждают неопределенную, но стойкую ассоциацию с автомобилем, самолетом, телевизионным экраном и в конечном счете вызывают символический образ окон, широко раскрытых в мир. Не менее важно и то, что такой прием позволяет запомнить, отличить здание в ряду стереотипных, бездумно расчерченных в клеточку коробок.
Пример ТАСС показателен. Он говорит о том, какое большое и глубокое воздействие на человека может оказывать пластика архитектурной формы в том случае, когда она является не только внешним признаком сооружения, а глубоко осмыслена архитектором с содержательной точки зрения. Эта связь формы с содержанием может быть подчеркнуто декларативной, почти плакатной, как, например, в здании советского павильона на Всемирной выставке в японском городе Осаке, которому архитектор М. В. Посохин придал очевидное сходство с развернутым знаменем. Может быть трактована более лирично, в условно-символическом ключе, как это сделал архитектор А. Т. Полянский, — формы построенного им санатория на озере Иссык-Куль напоминают белый пароход, создавая по ассоциации с замечательной повестью Чингиза Айтматова атмосферу раздумья и внутренней сосредоточенности. Наконец, связь формы и содержания может быть сложно опосредованной, завуалированной в деталях, как в ТАСС, но в конечном счете — всегда опознаваемой, надежно воссоздаваемой в процессе восприятия архитектурного сооружения как целого.
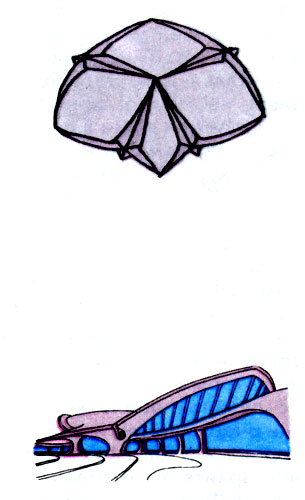
Органические криволинейные очертания аэропорта имени Дж. Кеннеди в Нью-Йорке
(вид сверху и общий вид) отдаленно напоминает птицу. Архитектор Э. Сааринен
ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ СВОБОДА
В решении этой главной задачи современная архитектура использует любые пригодные пластические средства. Похоже, она совершенно избавилась от «комплекса неполноценности», связанного с применением криволинейных, геометрически неправильных форм. Она освободилась не только от жесткой классической симметрии большой формы, но и от механистической регулярности, ортогональной робости в ее пластической разработке. Архитектор владеет настолько мощным арсеналом конструктивных возможностей, его пространственное мышление настолько раскованно и свободно от предвзятых архитектурных догм, что в принципе может совместить едва ли не любую функциональную технологию с едва ли не любой пространственной формой. Придать любой заданной функции желаемую форму. Вписать в любую заданную форму нужную технологию. Конечно, такая свобода небеспредельна, и все-таки в значительной мере она присутствует на практике.
Не этим ли определяется, в частности, уже упоминавшаяся парадоксальная тенденция современной западной архитектуры использовать в новых постройках своеобразные «цитаты» из старых архитектурных стилей. В прежние времена подобные возвраты к классике были продиктованы, как правило, искренним желанием прикоснуться к ее вечным истинам. Теперь такие проявления, как его называют, «постмодернизма» чаще всего служат циничной демонстрацией неограниченных возможностей современного архитектора, своеобразной пластической вседозволенности, которую он исповедует в своем творчестве. Такая эклектика, как бы оптимистически ее ни объясняли, служит показателем определенного кризиса.
Понятно, когда архитектор борется с угрозой однообразия в жилищном строительстве, настаивая на расширении номенклатуры стандартных изделий и приемов их блокировки. Однако гораздо менее понятно, когда пугающий призрак однообразия встает из утомительного хаоса претендующих на уникальность форм общественных зданий. Когда однообразие становится порождением той самой желанной свободы формы от функции в трактовке пространственной структуры сооружения, за которую боролось не одно поколение архитекторов XX столетия. Вот какой предательской грозит стать эта завоеванная с таким трудом свобода пластического решения здания-скульптуры.
Оказывается, наличие определенных сдерживающих факторов, связанных с конструкцией, технологией, наконец, с жестким формальным каноном — одним словом, внешней дисциплины,— столь же необходимо для архитектурного творчества, как и определенная мера свободы от них. Чрезмерное ослабление этих дисциплинирующих ограничений не дает возможности углубиться в поиски наилучшего решения, порождает поверхностность архитектурного мышления. Более того, обнаруживает принципиальную ограниченность, повторяемость пластических возможностей архитектурной формы, которая сама по себе требует определенной упорядоченности. Призрак регулярного порядка, системы снова появляется на горизонте. Как парадоксальное условие разнообразия в не менее парадоксальном однообразии уникальных зданий-скульптур.
В поисках или даже в предощущении этой целостности естественно прежде всего обратиться к взаимоотношениям зданий между собой. Точно так же как в свое время классическая архитектура сооружения обрела себя, сумев упорядочить взаимоотношения между своими частями (вспомним античный ордер). Встав на такую точку зрения, сразу же понимаешь, что из всех «несвобод», с которыми так исступленно боролась современная архитектура, она оставила без внимания лишь одну, но самую главную «несвободу» — саму концепцию здания-скульптуры. Здания, жестко ограниченного определенной формой и объявляющего себя центром окружающего пространства. Здания, игнорирующего то, что пространство нашей жизни утратило статичность и беспредельность размеров, оно стало переменчивым, подвижным и более тесным.
В этих условиях пересмотр классической концепции здания-монумента становится неизбежным. Это не значит, конечно, что здание-скульптура полностью сходит со сцены — как и всякое значительное достижение прошлого, оно продолжает играть определенную (и важную) роль в современной архитектуре. Однако всякий раз в конкретной, обусловленной специфическими задачами и особо подходящей ситуации. Здание-скульптура все больше перестает быть массовым явлением и уж тем более единственной, не имеющей альтернативы концепцией пространственной организации сооружения. Все чаще оно уступает дорогу иной концепции — здания-структуры, которая несет с собой новые методы освоения пространства, насыщенного динамичной, всепроникающей активностью современной жизни.
СТРУКТУРА ЗДАНИЯ И ЗДАНИЕ-СТРУКТУРА
Структура, то есть совокупность устойчивых внутренних взаимосвязей, лежит в основе строения любого сложного составного объекта. А значит, практически всех объектов материального мира. И конечно, всех архитектурных объектов, начиная от самого нехитрого сооружения и кончая гигантским городом. Кстати, именно в городе структура наиболее отчетливо проявляет свои свойства, выходит наружу. Так и говорится — планировочная структура, то есть основные связи между различными элементами, составляющими город. Эти связи, а именно конфигурация улично-дорожной сети, или, как говорят, планировка, определяет и удобство функционирования города, и его архитектурный облик, и постановку отдельных архитектурных объектов и многие их специфические характеристики. Взгляните на гравюру средневекового города, и вам сразу станет понятно, что он представляет собой структуру улиц, плотно обстроенных стереотипными домами-ячейками со сравнительно редкими вкраплениями отдельных «нетиповых» элементов (ратуши, собора и т. п.) в узловых, центральных участках. По такому же принципу строится и современный город, хотя большие размеры и множество составляющих его элементов иногда мешают нам это распознать.

Сочетание различных зданий в застройке старого города. Рыночная площадь с
ратушей в Гданьске (ПНР)
Примерно так же «устроено» и всякое сооружение — мы не случайно ведем в этой главе речь о ячейках, залах и коммуникациях. Здесь нетрудно усмотреть аналогию с типовыми жилыми домами, уникальными зданиями центра и сетью улиц. Однако до поры до времени структура эта не проявляет себя слишком явно Она как бы затаилась внутри, в глубине, подчиняясь диктату внешней формы здания-монумента. Всякий кто не является архитектором или проектировщиком воспринимает сооружение фасадно, интерьерно, очень редко он представляет его себе в плане. А ведь именно в плане яснее всего обнаруживает себя структура.
К тому же сооружения прошлого в большинстве своем все-таки довольно небольшого размера или даже при больших абсолютных размерах имеют сравнительно простое внутреннее строение. Структура, состоящая из небольшого числа элементов, незаметна, она как бы растворяется в едином, монолитном целом. И только когда элементов настолько много, что их становится сложно объединить в целое, структура заявляет о себе в полный голос. Гигантские, состоящие из тысяч помещений дворцовые ансамбли эпохи барокко и классицизма заставляют ощутить организующее воздействие структуры. Возникают внутренние дворы, становится небезразличной расстановка лестниц, появляются сквозные коридоры. И все-таки структура возникает здесь еще не из самой логики внутренней организации сооружения, а, так сказать, снаружи, чтобы совладать с непривычно большими размерами сооружения, обеспечить симметрию его фасадов, правильное расположение входов... Как если бы город формировался не в результате упорядоченной обстройки улиц, а в результате пробивки улиц сквозь сплошной массив хаотически расположенных домов.
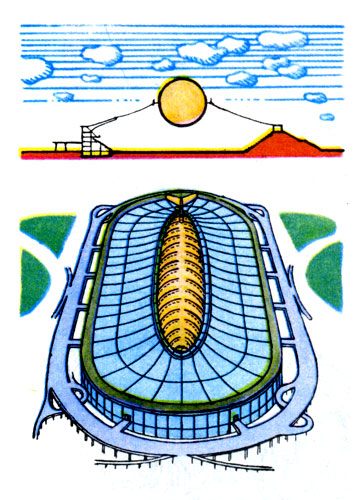
Шатровое покрытие стадиона, поддерживаемое дирижаблем. Предложение киевских
архитекторов
Теперь мы можем лучше понять, как велика была заслуга первых поколений архитекторов-функционалистов, осмысливших организующую роль структуры, внутренней планировки сооружения. Однако они располагали еще слишком ограниченным опытом проектирования, как правило, небольших по масштабу сооружений и не могли в полную силу продемонстрировать формообразующие возможности пространственно развитой структуры. Структура в их проектах и постройках только пыталась выдать себя за форму, а сама пряталась и подделывалась под нее, по-прежнему приспособляясь к зданию-скульптуре.
Правда, еще во второй половине прошлого века стали возникать сооружения, форма которых была действительно, а не только символически обусловлена их внутренней структурой. Хрустальный дворец в Лондоне, крытый рынок в Париже, многочисленные выставочные павильоны, торговые пассажи, ярмарки, вокзалы. Хорошим примером такого здания является всем известный ГУМ — торговые ряды на Красной площади в Москве. Все последующие рассуждения можно без труда проверить на этом примере. Сооружения такого рода не оказали решающего воздействия на архитектуру общественных зданий своего времени. До сих пор их вспоминают обычно в учебниках архитектуры лишь в разделах, связанных с применением новых конструкций из стекла и металла, но отнюдь не в связи с той необычной и новой концепцией организации пространства, которую они в себе несли. Происходило это по той причине, что они воспринимались как второсортные коммерческие постройки часто рекламного или временного характера, своего рода «сараи», несопоставимые по значению с настоящей «монументальной» архитектурой. К тому же и по размеру их легче было счесть за перекрытый для большего удобства участок города, чем за отдельное здание.
Между тем именно эти постройки в большой мере являются прообразом архитектурных сооружений нового типа. С этой точки зрения обращают на себя внимание несколько моментов. Определяющими элементами архитектуры этих сооружений становятся их внутренние коммуникации, то есть сама структура. Коммуникации становятся определяющей основой размещения всех других элементов здания и пространственной организации всех функциональных процессов, выполняя роль своего рода внутренних улиц. В традиционном здании-скульптуре мы говорим о его пространственной структуре как о чем-то, что в нем скрыто, лежит внутри, является содержанием, независимым в какой-то мере от его внешней оболочки. Здесь же структура полностью и однозначно выражает себя в оболочке сооружения. Уже бессмысленно говорить о пространственной структуре сооружения. Структура становится сооружением, и сооружение становится структурой. Два понятия совмещаются в общем представлении о здании-структуре.
Кстати, характерное следствие коммуникационной природы здания-структуры — предельная четкость визуальной ориентации в большом и сложном внутреннем пространстве. Подобная проблема в традиционном здании-монументе больших размеров создает подчас немалые сложности. Попробуйте, например, отыскать нужную секцию в «Детском мире» или даже в новом универмаге «Московский», что у площади трех вокзалов в Москве. И вам станет ясно, какими преимуществами в этом отношении обладает ГУМ, построенный 100 лет назад и скромно оборудованный всего лишь знаковой информацией.
Еще одно важное качество здания-структуры — возможность его беспрепятственного наращивания в пространстве и приспособления для новых видов функционального использования. Стереотипную систему внутренних коммуникаций легко продолжить, а обслуживаемые ими помещения столь же несложно перестроить или использовать в ином качестве, временно «отключить» или заменить, не нарушая функционирования всего сооружения. Это свойство динамичной модульной решетки, делающее здание-структуру особенно живучим, гибким в использовании, со всей определенностью было обозначено еще в первом сооружении такого типа — Хрустальном дворце в Лондоне. Его создатель Джозеф Пэкстон определил длину здания в 1851 фут — символическая цифра, соответствующая году строительства. Тем самым он как бы указывает на принципиальную незавершенность здания, не скованного мертвой оболочкой «скульптурной» формы. Его размеры могут быть легко изменены в случае необходимости путем прибавления или изъятия стандартных модулей-секций.

Высотный дом на площади Восстания
И последнее — в связи со всем вышесказанным в здании-структуре сводится на нет, становится второстепенной роль фасадов. При таких размерах здания их и не всегда-то можно разглядеть целиком, особенно в условиях плотной городской застройки. Главным объектом восприятия становится сама структура, воплощенная во внутреннем пространстве сооружения. Интерьер фактически берет на себя традиционно «фасадные» функции репрезентативной внешности здания. Стирается грань между внешним и внутренним пространством здания-структуры, их взаимные переходы улавливаются с трудом.

Министерство сельского хозяйства
Однако все эти черты нового трудно было заметить сразу. Углубившаяся в самолюбование «большая» архитектура самонадеянно прошла мимо скромных пассажей и выставочных павильонов. Правда, время от времени мотив сквозной горизонтальной коммуникации тревожит воображение архитекторов — переходы, соединяющие разные корпуса в одну систему, можно видеть в футуристических рисунках итальянца А. Санта-Элиа и советского художника-архитектора Я. Чернихова, в некоторых проектах советских конструктивистов 20-х годов. Однако пока они выглядят случайными и не образуют четкой системы.

Здание ТАСС в Москве
По-настоящему вспомнили о старых пассажах несколько позднее. Накануне второй мировой войны уже известный нам Мис ван дер Роэ разрабатывает и начинает осуществлять проект планировки Иллинойского технологического института в США. Он размещает отдельные сооружения — павильоны на единой модульной сетке. Остается только соединить их сквозной системой горизонтальных переходов. Десять лет спустя тема коммуникационной решетки активно разрабатывается в проектах университетских городков, медицинских центров и других крупных комплексов, занимающих большие участки территории. В то же время возникают первые попытки использовать сквозные крытые коммуникации в жилых образованиях. Однако эффект здания-структуры не достигнут окончательно и в эти годы. Коммуникации уже стали частью сооружения, но участки открытого пространства пока доминируют над отдельными павильонами, которые сохраняют обособленное положение. Чтобы был сделан решающий шаг к созданию компактного здания-структуры, понадобилось привнести в эти поиски богатый и своеобразный опыт высотного строительства.

Деревянная церковь в Кондопоге, Карельская АССР
ГОРИЗОНТАЛЬ, ПОМНОЖЕННАЯ НА ВЕРТИКАЛЬ
Высотные дома, или небоскребы, ведут свой счет времени довольно давно — с 80-х годов прошлого века. Однако долгое время строительство небоскребов оставалось в стороне от основных путей развития современной архитектуры. Архитекторы видели в нем скорее экстравагантную причуду и воплощение коммерческого духа породившей его Америки, чем конструктивную идею организации пространства. Вплоть до середины нынешнего столетия американский небоскреб так и оставался своего рода зданием-переростком, который во всем (за исключением, разумеется, необычной высоты) следовал коммерческому репрезентативному стилю «деловой» архитектуры, традиционному для той поры.
Но начиная с конца 40-х годов небоскребами вплотную занялся Мис ван дер Роэ. Этот немецкий архитектор, эмигрировавший в США, уже не раз упоминался на страницах нашей книги, и это вполне отвечает тому большому вкладу, который он внес в развитие современной архитектуры. Однако особенно велики его заслуги в высотном строительстве. Можно без преувеличения сказать, что Мис ван дер Роэ создал архитектурный облик современного высотного здания. Правда, к тому времени, когда он получил возможность реализовать свои идеи в этой области, Корбюзье уже изобразил крестообразные небоскребы «лучезарного города», а Леонидов уже продемонстрировал на макете знаменитый стеклянный параллелепипед Института Ленина. Да и у самого Мис ван дер Роэ еще в 20-е годы были полуфантастические эскизы высоких стеклянных зданий. Но именно ему первому удалось реализовать эти образы в натуре.
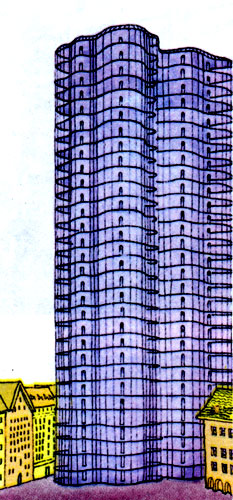
Проект небоскреба на стальном каркасе со стеклянными стенами. Архитектор Мис
ван дер Роэ
Небоскребы Мис ван дер Роэ представляют собой лаконичные, лишенные всякой деталировки прямоугольные геометрические объемы, сплошь обтянутые стеклом. Тонкая стеклянная кожа на металлическом каркасе. В трактовке Мис ван дер Роэ небоскреб сразу приобрел несколько особенностей, которые очень важны для пространственной концепции современного сооружения.
Во-первых, крупная, геометрическая четкая форма всего сооружения подчинила себе достаточно разнообразный набор функций — конторы, жилье, магазины, конференц-залы и т. д. Все это благополучно умещается в стереотипной пространственной структуре, которая располагает необходимыми возможностями гибкой внутренней перепланировки.
Во-вторых, небоскреб хотя и остается зданием-монументом, но все же демонстрирует очень тесную взаимосвязь внешней формы здания и его внутренней структуры, причем эта структура полностью обусловлена системой вертикальных коммуникаций.
В-третьих, этот структурный характер небоскреба подчеркнут лаконизмом и нейтральностью его внешней формы. По своему виду он напоминает пространственную решетку, которая может наращиваться в любую сторону. Чтобы понять эту важную особенность современной трактовки формы высотного здания, достаточно сравнить облицованный зеркальным стеклом небоскреб «Сигрэм», построенный Мис ван дер Роэ в Нью-Йорке в 1958 году, со стоящими неподалеку от него небоскребами первого поколения, облицованными камнем и украшенными псевдоготическими башенками. Примерно тот же эффект дает сравнение здания СЭВ или гостиницы «Националь» в Москве с г высотным зданием на Котельнической набережной или гостиницей «Украина».
Скрытая динамика, заложенная в нейтральной, не имеющей верха и низа форме небоскреба, получила еще более последовательное воплощение в гигантских уступчатых зданиях, которые появились в США в 70-е годы. Небоскреб «Сере и Робак» в Чикаго состоит из нескольких вертикальных блоков, сгруппированных в один ствол, но доходящих до разной высоты, так что здание создает иллюзию незавершенности, словно оно всегда находится в стадии непрекращающегося монтажа.
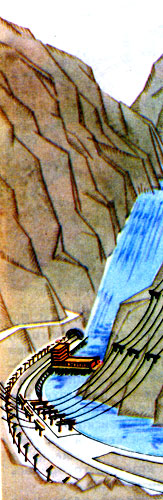
Высотная плотина Нурекской ГЭС
Все эти черты позволяют считать небоскреб еще одним прообразом здания-структуры, но уже не горизонтальной, а вертикальной. Помимо этого, он дает богатейший практический опыт разработки и осуществления вертикальных коммуникационных структур. Это делает вполне естественным следующий шаг — соединение вертикальных и горизонтальных коммуникаций в едином пространственном здании-структуре. Одним из первых высказал мысль о таком развитии сооружения в пространстве советский художник Л. Лисицкий. Он предложил (все в те же двадцатые годы) соорудить на площадях Бульварного кольца в Москве «горизонтальные небоскребы». Поднять здание высоко над городом, соединив его с землей мощным стволом вертикальных коммуникаций. В последующем идеи такого рода приобрели несколько более конструктивную форму в многочисленных поисковых предложениях так называемой пространственной архитектуры. Эти предложения, по сути дела, смыкались с идеями жилого дома-города, о которых говорилось в главе, посвященной архитектуре жилища.
Автор одного из таких предложений, казавшихся многим совершенно фантастическими и нереальными, японский архитектор Кенцо Танге уже в шестидесятые годы сумел продемонстрировать вполне реалистический подход к строительству здания-структуры. Здание центра средств массовых коммуникаций, возведенное им в японском городе Кофу, представляет собой многоярусную бетонную структуру с четко выраженной системой вертикальных устоев-коммуникаций трубчатого сечения. Постройка Танге мало напоминает архитектурное сооружение в традиционном смысле этого слова. Оно так же не похоже на распластанную решетку университетского комплекса, как и на монолитный массив стеклянного небоскреба.
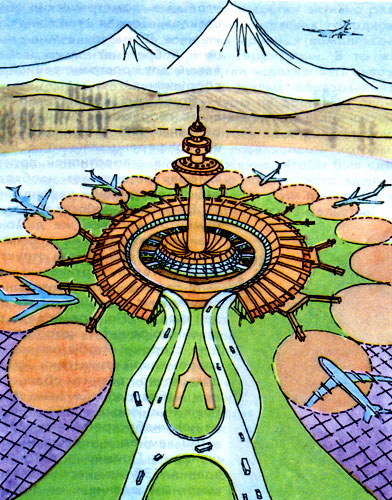
Аэропорт Звартноц в Ереване по праву считается одним из наиболее интересных
произведений архитекторов Советской Армении
Здесь появляется действительно новое качество. Здание не имеет фасадов — оно рассчитано на восприятие не с каких-либо особенных позиций, а с любой точки окружающего пространства. Это пространство не только обтекает здание снаружи, но существует над ним, под ним и даже проходит сквозь него. Здание словно живет в этом пространстве, пропускает сквозь себя, охватывая мощной сетью своих коммуникаций.
Конечно, центр в Кофу — всего лишь один из прообразов здания будущего. Может быть, не во всем удачный — настораживает суровый гигантизм бесчеловечных, проникнутых техницистским духом субструкций. Здесь проявились, по-видимому, урбанистические увлечения и идеалы автора, которые можно объяснить реакцией на хаотическую одноэтажную застройку японских городов. Нам хотелось бы представить здание-структуру более гибко меняющим этажность, менее декларативно и более тактично вносящим регулярную упорядоченность в среду города. Однако, все это частности. Главное же то, что общая концепция пространственной организации сооружения как трехмерного здания-структуры, столь смело воплощенная в жизнь в эксперименте японского мастера, представляется многообещающей.
Этот пространственный, бесфасадный характер архитектурного сооружения нового типа заявляет о себе все чаще и все более определенно. Американский архитектор Кевин Рош в 1968 году в построенном в Нью-Йорке здании фонда Форда ввел в габариты сооружения гигантский холл на всю высоту многоэтажного здания. С тех пор появилось уже немало таких сооружений во всем мире. Для них придумали даже специальное название — «атриумная архитектура».
Нельзя не вспомнить в этой связи интересный проект Дворца Советов советского архитектора А. В. Власова, отмеченный первой премией на Всесоюзном конкурсе 1957 года. Три глухих цилиндрических объема залов были размещены в едином, на всю высоту сооружения пространстве фойе — зимнего сада. Этот оставшийся неосуществленным замысел в очень многом предвосхитил специфический пространственный эффект и главные достоинства «атриумной архитектуры».
Испытать своеобразное, ни с чем не сравнимое пространственное ощущение от пребывания в подобном сооружении можно в Центре международной торговли в Москве. Это ощущение еще больше убеждает в не раскрытых еще до конца, поистине безграничных возможностях здания-структуры. В гигантское пространство атриума-холла введены символы природного окружения — зелень и вода, уровень земли решен в стиле архитектуры сада. Это вносит ноту естественности, человечности, так недостающую многим современным постройкам, придает интерьеру уют, почти интимность, парадоксально контрастирующую с физическими размерами внутреннего пространства. Вся система горизонтальных и вертикальных коммуникаций — поэтажные галереи и лифтовые шахты — обращена в это пространство и открыто обнажает пространственную структуру сооружения, которая берет на себя решающую роль в формировании его архитектурного образа.
Невольно думаешь, что архитектурное сооружение захватывает, включает в себя городское пространство, чтобы проще было слиться с ним воедино, чтобы сбросить с себя мертвящую оболочку фасада. Чтобы быстрее стать тем, чем оно стремится стать уже давно, — растворяющимся в пространстве зданием-структурой, вбирающим в себя контрастное разнообразие окружающего нас архитектурного мира.
Главная мысль
«Типологический взрыв» — неуклонное увеличение числа типов зданий — заставляет думать об универсальной, общей для всех них концепции пространственной организации архитектурного сооружения.
Предпринятая в начале века попытка положить в основу архитектуры здания одни только требования функциональной технологии оказалась несостоятельной.
В результате долгих и трудных поисков, большой вклад в которые внесли советские архитекторы, современная архитектура обрела новые пластические возможности. Она освободилась от классической симметрии и навязчивой геометричности архитектурной формы. Однако сама традиционная концепция здания-монумента, пространственной «скульптуры», жестко ограниченной статичной формой, настоятельно требует пересмотра.
Формируется новое понимание архитектурного сооружения — как здания-структуры. Она обеспечит эффективное и архитектурно разнообразное освоение пространства на основе развивающейся в трех измерениях универсальной решетки вертикальных и горизонтальных коммуникаций.
ЧАСТЬ 3. АРХИТЕКТУРА И ЖИЗНЬ
ГЛАВА 7. ЗДАНИЕ — АНСАМБЛЬ — СРЕДА
Природа архитектурного ансамбля — подобие и контраст, единство и многообразие.
Как Красная площадь стала Красной площадью.
Почему единство времени мешает единству места и как с этим бороться.
Архитектурная среда — хор без солистов.
Почему реконструкция.
Эстетика новаторства и этика традиции.

Архитектура и жизнь
ДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
В словосочетании «архитектурный ансамбль» легко прочитывается идея единства, тесной взаимосвязи нескольких архитектурных сооружений, составляющих вместе органическое целое. Как справедливо заметил доктор архитектуры М. Г. Бархин, проблема такого соседства сугубо архитектурная, поскольку ни в каком другом виде искусства не стоит задача соединения разных произведений (к тому же почти всегда принадлежащих разным авторам). Напротив, выставочная экспозиция, собирающая в один ряд много или даже несколько произведений живописи или скульптуры, часто мешает их полноценному восприятию. По этому поводу хорошо сказал теоретик итальянского Возрождения Леон Баттиста Альберти: «Драгоценности, сбитые в кучу, не восхищают». Однако похоже, что к архитектуре эти слова относятся меньше всего. Сама постановка сооружения, его взаимодействиe с соседними зданиями и пространствами, то есть то, как именно оно «сбито в кучу» с другими, во многом определяет степень его драгоценности.

Здание - ансамбль - среда
Каким же образом может быть достигнута эта парадоксальная цель? Как удается объединить в целое несколько сооружений, притом часто построенных в разное время и разными архитекторами? Первым делом приходит в голову мысль о сходстве сооружений, составляющих ансамбль, о наличии у них некоторых общих черт. Обратимся к хрестоматийному примеру Красной площади в Москве. Кремлевская стена, отмеченная Спасской и Никольской башнями и примыкающим к ней Мавзолеем В. И. Ленина в центре, составляет своего рода «главный фасад» обращенной к ней своей длинной стороной площади. Выполненные в псевдорусском стиле здания ГУМа и бывших средних торговых рядов образуют спокойный фронт застройки противоположной стороны. Сходное по стилю здание Исторического музея обрамляет крутой подъем входа на площадь с узкой северо-западной стороны, и, наконец, в глубине ее, чуть на отлете, торжественно поднимает свои разноцветные купола Покровский собор — храм Василия Блаженного.
Знакомая каждому картина, вызывающая чувство строгой и наполненной гармонии единого и завершенного архитектурного ансамбля. Найдем ли мы черты общности у зданий, составивших этот ансамбль? Несомненно. Башенный силуэт зданий Исторического музея и ГУМа, характер декоративной обработки их стен хорошо согласуются не только с мелко члененными уступчатыми завершениями и шпилями кремлевских башен, но и с декоративной пышностью Василия Блаженного. Горизонтально протяженный, спокойный силуэт ГУМа по-своему воспроизводит мотив стены, а выступающие ризалиты его фасада подхватывают условную симметрию выходящего на площадь «фасада» Кремля, отмеченную ритмом трех башен и куполом правительственного здания (бывший Сенат). Мавзолей В. И. Ленина четко фиксирует эту симметрию, окончательно закрепляя поперечную ось площади. Лаконизм его форм, ступенчатый силуэт хорошо согласуются с монументальной зубчатой стеной и уступами башен.

Город
Еще одно немаловажное обстоятельство — красный кирпич исторических стен Кремля и Василия Блаженного тактично повторен в здании Исторического музея, решительно поддержан темно-красным гранитом Мавзолея. И хотя известно, что название площади Красная (в смысле прекрасная, красивая) дано ей не по цвету выходящих на нее сооружений, то обстоятельство, что она и по цвету отвечает своему названию, еще больше усиливает гармоническую целостность ансамбля.
На этом, однако, сходства заканчиваются, и начинаются различия. Действительно, в стилевом отношении своеобразная архитектура храма Василия Блаженного, здания бывшего Сената, построенного в традициях классицизма архитектором М. Ф. Казаковым, и Мавзолея В. И. Ленина, созданного А. В. Щусевым в характере архитектуры 20-х годов, не имеют ничего общего, кроме того, что каждая из этих построек является шедевром архитектуры своего времени. Архитектура же зданий Исторического музея (архитектор В. О. Шервуд) и ГУМа (архитектор А. Н. Померанцев) носит откровенно декоративный характер и не соответствует их внутренней функционально-пространственной организации. Физические размеры Мавзолея значительно уступают масштабу остальных сооружений, входящих в ансамбль.
Контрастное противопоставление частей нередко становится определяющим фактором гармонии архитектурного целого. Стройный восьмерик Покровской церкви, многоглавая пирамида Преображенского собоpa и вертикаль шатровой колокольни замечательного ансамбля в Кижах. Сложно расчлененный массив собора, мощный купол баптистерия и цилиндрическая «падающая» башня, сошедшиеся вместе на зеленом газоне соборной площади итальянского города Пиза и составляющие его главную архитектурную достопримечательность. Три башни разного сечения — круглого, квадратного, треугольного в проекте здания Наркомтяжпрома И. Леонидова. Однако сам по себе контраст, несходство отдельных сооружений, разумеется, еще не гарантирует создание ансамбля, так же как и полнее их подобие. Стоящие в непосредственной близости на Краснопресненской набережной в Москве здания гостиницы «Украина», СЭВа и Совета Министров РСФСР во многих отношениях подчеркнуто противостоят друг другу — по форме, силуэту, архитектурной стилистике, цвету и фактуре материала, но это не создает единства, целого. Нет нужды приводить примеры неудачных попыток организовать ансамбль из сходных по архитектуре и даже абсолютно одинаковых типовых сооружений.
Задача создания ансамбля — это всякий раз задача на отыскание сложного, часто зыбкого равновесия архитектурных элементов. Контраст и подобие — два разных средства решения этой задачи, которые отнюдь не исключают, но, напротив, взаимно дополняют друг друга. Ансамбль начинается там, где контраст подчеркивает сходство, а сходство оборачивается контрастом. Представим себе гипотетическую таблицу архитектурного разнообразия, в которой есть графы, соответствующие масштабу физических размеров, протяженности и высоте здания, дробности силуэта, характеру ритмического и пропорционального строя фасадов, их деталировки, другим стилистическим особенностям архитектуры, цвету, материалу и т. д. Предположим далее, что мы в состоянии определенным образом измерить или охарактеризовать каждый из входящих в ансамбль объектов по всем перечисленным позициям. Тогда при сравнении таких таблиц мы скорее всего обнаружим, что эти объекты имеют очевидную общность друг с другом по некоторым позициям и столь же очевидные расхождения — по другим. Мавзолей В. И. Ленина не схож со зданием Исторического музея по масштабу физических размеров и степени деталировки, но сочетается с ним по цвету и симметрии фасада. Храм Василия Блаженного имеет мало общего со зданием ГУМа по силуэту и ритмическому построению фасада, но сопоставим по размельченной пластике декоративной обработки формы и т. п.
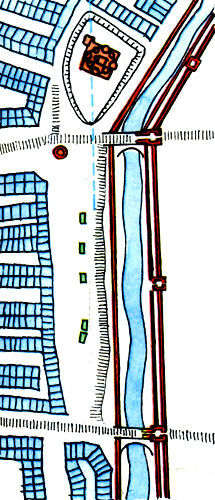
Так начиналась Красная площадь. Конец XVI в.
Очевидно, что полное подобие, так же как и абсолютное несходство по всем позициям, не принесло бы желаемой целостности, и главным является правильно найденная мера подобия и соответственно мера контрастного противопоставления. Именно постоянные переходы от сходства к различиям и обратно, своего рода внутренние колебания между этими оценочными позициями, невозможность однозначно утвердиться в том или другом заставляют нас концентрировать внимание в поисках недостающей для принятия решения информации, удерживают его в рамках определенной области пространства, которая начинает осмысляться как целое. Создается специфический эффект динамического равновесия в восприятии объекта, который служит источником положительных эмоций и ощущения гармонии. Мы как бы без конца вглядываемся в знакомые черты, требовательно выискивая в них все новые детали и отличия, словно боясь поверить в то, что это не разрушит уже сложившейся у нас картины целого, и одновременно испытывая по этому поводу радостное удивление. Так, иногда мы восклицаем: «Не может быть, выслушивая приятное известие, которого давно ждали.

Площадь
Итак, подобие — как специфическое средство установления различий и различие — как средство установления сходства. Разнообразие в единстве и единство в разнообразии — такова диалектическая формула архитектурного ансамбля.
НАЧАЛО АНСАМБЛЯ
Такое понимание ансамбля проливает свет на ту совершенно исключительную роль, которую играет в его формировании время. Не случайно наиболее значительные архитектурные ансамбли прошлого формировались на протяжении многих десятилетий и даже столетий.
Площадь Синьории во Флоренции формируется с конца XIII по конец XV века — почти 200 лет.
Не менее знаменитая площадь Св. Марка в Венеции в своих нынешних габаритах существует с 1150 года, а окончательное завершение получила в 1810 году. Время формирования ансамбля — 660 лет.
Ансамбль собора и площади Св. Петра в Риме складывался с 1506 года, когда к решению этой задачи приступил великий итальянский зодчий Браманте, и приобрел свой сегодняшний вид в 1667 году. За 161 год над ним успели поработать Рафаэль, Микеланджело, Бернини.
Центральный ансамбль Парижа Лувр — Тюильри активно формировался почти 300 лет — с середины XVI века по середину XIX века, Версаль — 150 лет — с начала XVII века по вторую половину XVIII века.
Даже при очень высоких темпах градостроительной активности в Петербурге ансамбль Дворцовой площади потребовал для своего завершения более 80 лет (1753—1834) и участия таких замечательных и разных зодчих, как В. Растрелли, Ю. Фельтен, К. Росси, О. Монферран.
Время выкристаллизовывает ансамбль, давая возможность осмотреться, отойти на расстояние, неторопливо подогнать одно к другому, а иногда и исправить допущенную ошибку. Дело тут, конечно, не в самом по себе времени. Хотя сознание того, что ансамбль несет на себе напластование исторических эпох, придает особую глубину, своего рода стереоэффект восприятию его архитектуры. Главное, однако, заключается в том, что поэтапное развитие ансамбля естественным порядком превращает его в объект коллективного творчества и одновременно в объект заочного творческого соревнования. Ощущение продолжения эстафеты, стыковки во времени, которое неизбежно испытывает архитектор, участвующий в формировании ансамбля, заставляет его искать вневременные, значит, не чисто внешние, а глубокие, сущностные сопоставления своего сооружения с его соседями-предшественниками. Такого рода задача встает перед ним вне зависимости от того, считает ли он нужным подчиниться сложившемуся окружению или стремится включить старые сооружения в новую пространственную концепцию ансамбля.
Попытаемся проследить основные этапы формирования замечательного ансамбля Красной площади.
Самая древняя часть современного ансамбля — восточная стена Московского Кремля со Спасской, Боровицкой и небольшой безымянной башней между ними (потом она получит название Сенатской) — построена в 1491—1493 годах. Старые хроники сохранили для нас имена зодчих: Антон и Марко Фрязины, Пьетро Антонио Солари, Алоиз Фрязин-старший. Ров, укрепленный низкой зубчатой стеной, отделяет Кремль от подступающей к нему почти вплотную застройки посада с древним торгом. После разрушительного пожара в конце XV века большая территория перед рвом выгорела, и ее не стали застраивать. Таким образом, между кремлевской стеной и торгом образовалось обширное пустое место, которое стали называть «Пожаром». Место для будущей Красной площади расчищено, но ее еще не существует.
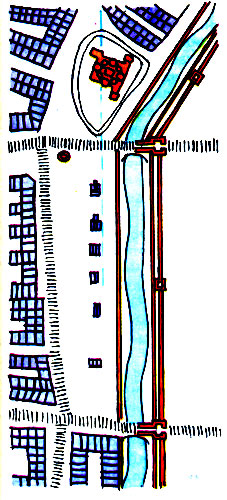
Красная площадь. Начало XVII в.
В 1535—1538 годах строится вторая линия московских укреплений — Китайгородская стена. Она начинается от угловой Арсенальной башни и идет примерно по линии фасадов нынешних зданий Музея В. И. Ленина и Исторического музея. В месте современного Исторического проезда в стене устраиваются Воскресенские (Иверские) ворота — будущий главный вход на площадь со стороны города. К середине XVI века здесь группируются городские административные учреждения (приказы), обрамляющие пустую территорию «Пожара» с севера.
С юга эта территория ограничена крутым подъемом холма со стороны реки (так называемое «взлобье»), где неподалеку от Лобного места, построенного в 1534 году, стояла небольшая белокаменная церковь Троицы. Во времена военных походов Ивана Грозного 1552—1554 годов в ознаменование побед возле церкви Троицы ставились памятные деревянные церкви — к моменту присоединения Казанского и Астраханского ханств их было восемь. Поэтому, когда Иван Грозный решил возвести в ознаменование своих побед грандиозный каменный храм, то и место и форма будущей постройки были подсказаны самой жизнью. Девятистолпный каменный собор Покрова на рву — храм Василия Блаженного — заменил девять церквей — Троицкую и восемь памятных.

Китайская стена
Со строительством собора был сделан первый основополагающий шаг в формировании ансамбля Красной площади. Храм-памятник стал символом торжества русского народа — своего рода гигантским алтарем у исторических стен Кремля. Многолюдные процессии, широкие народные молебствия и шествия, связанные с собором, предопределили священно-патриотический, общенародный характер будущей площади, которая получила в лице собора прекрасный южный фасад. Высотная шатровая композиция, сурово-торжественный и вместе с тем праздничный характер сооружения во многом предопределили архитектурный облик ансамбля Красной площади. Так в «авторский коллектив» Красной площади вошли еще два автора — Барма и Постник. А возможно, только один, поскольку некоторые специалисты полагают, что под этими именами фигурирует одно и то же лицо — Иван Яковлевич Барма.
Собор Покрова на рву дошел до нас с некоторыми изменениями — к девяти его столпам-церквам в XVI—XVII веках были пристроены еще две (по одной из них он получил свое второе название — храма Василия Блаженного) и звонница. Однако эти пристройки не нарушили, а еще больше подчеркнули объемный, пространственный характер композиции многоглавого собора.
В самом конце XVI века происходит еще одно важное событие — восточная граница площади очерчена построенными в 1596—1598 годах рядами одно- и двухэтажных каменных лавок. Регулярно распланированные ряды этих лавок образовали два квартала между улицами Никольской (ныне улица 25-го Октября), Ильинкой (улица Куйбышева) и Варваркой (улица Разина), получившие название Верхних и Средних торговых рядов. Нижние ряды спускались от Варварки в сторону Москвы-реки. В сторону кремлевской стены Верхние и Средние ряды выходили длинными корпусами с арочными галереями по фасадам, которые заворачивали по линиям поперечных улиц. Торговые ряды еще будут многократно перестраиваться, но очень многое сохранится от приема, найденного неизвестным зодчим, жившим почти 400 лет тому назад,— четкие границы торговых кварталов, регулярная планировка рядов, получившая отражение на фасаде, тема протяженных корпусов с арочными галереями.
Теперь сделаем короткую остановку и окинем взглядом этот пока еще не получивший своего легендарного имени ансамбль. Как же он выглядит в конце XVI века, если верить старинным изображениям? Границы площади полностью определились — они уже не изменятся до нашего времени. Но самой площади еще нет. Вдоль заполненного водой рва, идущего параллельно кремлевской стене, прямо посередине нынешней площади множество небольших церквушек. Это так называемые церкви «на крови», по преданию, их ставили на месте казней Ивана Грозного. Незамощенная площадь в поперечном направлении пересечена двумя мощеными улицами — одна выходит из Спасских ворот Кремля и, не доходя до Лобного места, разветвляется на Ильинку и Варварку (читатель запомнил — это нынешние улицы Куйбышева и Разина). Другая — Никольская, берет начало у Никольских ворот и продолжается по трассе нынешней улицы 25-го Октября.
КАК КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ СТАЛА КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ
В 1625 году Спасская башня Кремля, та, что ближе всех к храму Василия Блаженного, получила уступчатую высотную надстройку с характерным шпилем. Первой из всех башен Кремля. Вскоре после этого в документах впервые появилось название «Красная площадь». Так обозначают пока лишь небольшую часть нынешней площади перед храмом Василия Блаженного, между Спасской башней и Лобным местом.
Появление названия вместе с надстройкой башни символично — заложен основной лейтмотив ансамбля. Островерхие завершения Кремля начинают вторить уступчатому вертикальному силуэту Василия Блаженного. Отметим еще два имени мастеров-зодчих, упомянутые в документах в связи с надстройкой Спасской башни, — русский Бажен Огурцов и англичанин Кристофер Галовей.
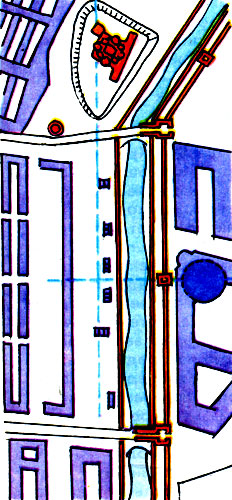
Красная площадь по плану Д. Кваренги
В 1689 году на этот вызов «откликаются» Воскресенские ворота Китайгородской стены — они получают стройное двухшатровое завершение. Теперь и северный подход к площади отмечен характерными шпилями. С перемещением столицы в Петербург он приобретает парадный характер официального въезда в Кремль — с этой стороны движется царский кортеж во время коронаций и других торжеств. В конце XVII века здесь сооружены монументальное здание Монетного двора и Главная аптека (на месте нынешнего Исторического музея), определившие линии застройки современного Исторического проезда. Несколько позднее здесь возводится второй корпус Монетного двора, а Главная аптека с изящным башенным завершением перестраивается для размещения в ней Московского университета. В этой связи в историю создания ансамбля вписано еще одно славное имя — архитектора Д. В. Ухтомского.
Тем временем важное событие произошло на самой площади — снесены церкви «на крови», и все пространство между укреплениями рва и торговыми рядами от храма Василия Блаженного на юге до Главной аптеки на севере стало свободным. Параллельное расположение торговых рядов и кремлевских укреплений, обращенность в сторону Спасской башни и храма Василия Блаженного, подчеркнутая парадным въездом с противоположного конца площади, — все это четко фиксирует продольную ось площади как главный стержень складывающегося ансамбля.
Однако в это же время происходят важные изменения в главном, кремлевском фасаде Красной площади. В 1780 году высокое шатровое завершение получает Никольская башня, чем восстанавливается симметрия участка кремлевской стены, выходящего на площадь. Эта симметрия сразу же получает неожиданную и очень сильную поддержку. С 1776 по 1787 год один из главных строителей Москвы архитектор Матвей Казаков возводит в Кремле треугольное здание Сената. Одна из сторон этого треугольника лежит параллельно выходящей на Красную площадь стене Кремля, так что высокий купол главного круглого зала хорошо просматривается с площади как раз посередине между Спасской и Никольской башнями, непосредственно за малой безымянной башней, которая получает по этому поводу наименование Сенатской. Так, построив свое здание вне пределов площади, зодчий во многом предрешил все последующее развитие ансамбля.
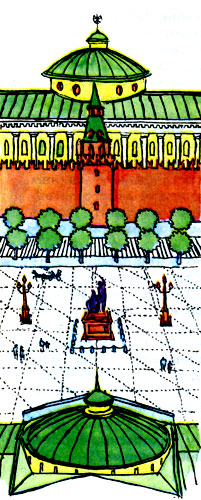
Красная площадь без церквей
Внимание, читатель. Мы подошли к наиболее драматическим событиям в архитектурной судьбе главного ансамбля Москвы. В 1786 году начинается перестройка торговых рядов, которая продолжается вплоть до 1810 года. Автором этого проекта предположительно считают знаменитого Джакомо Кваренги. По новому плану двухэтажные аркады новых торговых рядов охватывают двумя скобками весь периметр площади между Никольской улицей и Ильинкой, оставляя проезд вдоль продольной оси. Образуются две площади — большая, заключенная в каре торговых рядов, и малая — непосредственно перед Спасскими воротами и храмом Василия Блаженного. Кваренги (если это действительно был он) отказывается от поддержки намеченной Казаковым поперечной оси. Правда, он все же реагирует на ее появление, оставляя прямо напротив Сенатской башни разрыв в здании новых торговых рядов, идущих вдоль кремлевского рва.
Пространство площади получает дробное, камерное решение. Перекрыты дальние подходы к храму Василия Блаженного. Новые торговые ряды стоят «спиной» к Кремлю, отгораживая его от города. Не имеет ясной ориентации и северная часть площади. Не правда ли, парадоксально? Один выдающийся архитектор — Казаков — успешно развивает ансамбль площади, построив здание за ее пределами. Другой, тоже выдающийся — Кваренги, — разрушает ансамбль, построив здание прямо посреди площади. Во всяком случае, его решение оказывается настолько неубедительным, что, как мы сейчас увидим, подвергнется радикальному пересмотру. Лишь два нововведения этого периода прошли проверку жизнью — замощение площади булыжником и пробивка Москворецкой улицы, давшей выход площади к реке.
В пожаре 1812 года большая часть торговых рядов выгорела, а корпуса, построенные вдоль рва, обрушились в результате взрыва. Уже через год, в 1813 году, архитектор Осип Иванович Бове, руководивший работами по восстановлению столицы, предлагает свой «прожект», который становится решающим шагом в определении композиции ансамбля Красной площади.
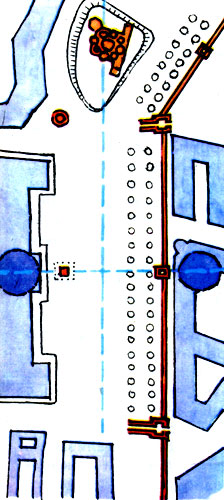
Красная площадь по проекту О. Бове
По проекту Бове, реализованному уже в 1817 году, западная, «новая» часть торговых рядов не восстанавливается. Бове решительно возвращает площади пространственное единство, достигнутое к концу XVII века. Более того, он доводит его до логического завершения, уничтожив ров, отделявший кремлевскую стену от площади. На его месте появляется неширокий, всего в два ряда деревьев, бульвар, который подчеркивает утрату ее оборонного значения. Теперь древняя стена Кремля с башнями и куполом Сената окончательно получает главенствующую роль в ансамбле площади. Бове подчеркивает это умелой перестройкой старых торговых рядов. Верхние торговые ряды получают единый монументальный фасад. Трехэтажный корпус воспроизводит мотив аркады в полукружиях окон верхнего этажа и имеет трехчастное построение. Мощный центральный портик с возвышающимся над ним куполом расположен прямо напротив Сенатской башни и купола казаковского Сената. Перед центральным портиком устанавливается выразительный монумент национальным героям Минину и Пожарскому. Тем самым зафиксирована поперечная ось площади, которая развернулась в сторону Кремля.
Бове сделал самое главное — он определил окончательно размеры и композицию площади — пространственное раскрытие вдоль продольной оси, ориентированной на храм Василия Блаженного, и симметрию относительно поперечной оси, которая подчеркивает безусловное доминирование Кремля в ансамбле. Еще многое изменится в архитектурном облике Красной площади с той поры до нашего времени, полностью перестроятся два из четырех ее фасадов — северный и восточный. Но градостроительный замысел Бове останется незыблемой и надежной основой всех последующих архитектурных вмешательств в судьбу главной площади страны.
ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ СТРАНЫ
В конце XIX века на Красной площади происходит сразу несколько важных событий. В северном торце площади на месте Главной аптеки архитектор В. О. Шервуд в 1847—1883 годах строит массивное здание Исторического музея. В очередной раз (уже в который!) перестраиваются торговые ряды. Помните — сначала одноэтажная арочная галерея, которая неоднократно восстанавливалась после губительных пожаров, затем двухэтажные торговые ряды 1810 года и затем трехэтажные ряды Бове 1817 года. На месте последних в 1894 году архитектор А. Н. Померанцев в содружестве с выдающимся русским инженером В. Г. Шуховым возводит новое здание Верхних торговых рядов — ныне ГУМ. Средние торговые ряды Бове пятью годами раньше перестраивает архитектор Р. И. Клейн.
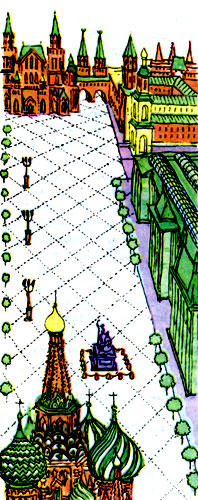
Главная площадь страны
Все три здания построены в характерном для конца века эклектическом псевдорусском стиле. Нередко это служит основанием для пренебрежительной или даже негативной оценки этих зданий с позиций чистоты архитектурного стиля. Однако нельзя не признать, что с точки зрения задач формирования ансамбля Красной площади все три архитектора решили свою необычайно ответственную задачу с высоким профессионализмом.
Мелко расчлененные фасады с обилием декоративных деталей служат своеобразной репликой на архитектуру храма Василия Блаженного. Несмотря на некоторую искусственность такого измельченного решения фасадов крупных сооружений современного плана, какими, несомненно, являются торговые ряды и Исторический музей, это позволило придать площади большую цельность, чем это было при более благородной и самостоятельной архитектуре старых зданий Ухтомского и Бове. Теперь торговые ряды и Исторический музей вместе с храмом Василия Блаженного образовали своего рода каре, обращенное в сторону Кремля, оттеняя прихотливой пластикой своих форм монументальный, строгий характер его крепостной архитектуры. Вместе с тем новое здание Верхних торговых рядов воспроизводит трехмастную структуру фасадов Бове, безоговорочно принимая тем самым сформированную им поперечную ось площади.
Роль Кремля как ведущего элемента всего ансамбля еще больше закреплена постановкой внушительного островерхого массива здания Исторического музея. Его разновысокие объемы и башенки перекликаются со сложной композицией расположенного в противоположном конце площади храма Василия Блаженного. Это укрупнило решение северного фасада площади и поддержало общую симметрию ее ансамбля. В то же время прием спаренных башен, венчающих здание музея, тактично подчеркивает доминирование центричного, восходящего к одной точке объема храма Василия Блаженного. Пример высокой градостроительной культуры, глубокого понимания сложившихся принципов пространственной композиции ансамбля. И Шервуд, и Померанцев, и Клейн сознательно ограничивают себя задачей создания фоновой застройки, своеобразного архитектурного обрамления наиболее древних и ценных в художественном отношении сооружений — Кремля и храма Василия Блаженного. А ведь каждый из этих зодчих по своему профессиональному опыту и творческой репутации в момент строительства вполне бы мог претендовать на более заметную роль «премьера» в замечательном спектакле на самой представительной архитектурной сцене Москвы. Великое им спасибо за то, что проверенная временем режиссура этого спектакля оказалась для^тх на порядок выше индивидуальных творческих амбиций.
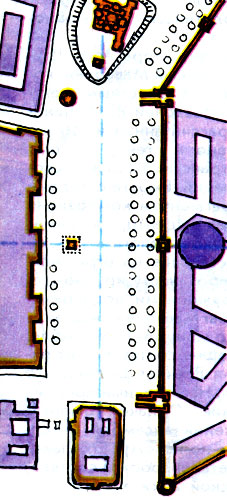
Красная площадь в начале XX в.
Наверное, многим в канун Великой Октябрьской социалистической революции казалось, что ансамбль Красной площади сложился окончательно. Однако революция не могла не отразиться на ее судьбе. Московский Кремль с 1918 года стал резиденцией Советского правительства. Расположенная у его стен Красная площадь становится традиционным местом проведения митингов, торжественных собраний, парадов и демонстраций. Естественный эпицентр этих важных общественно-политических мероприятий формируется в средней части протяженной площади, около кремлевской стены.
Здесь, у Сенатской башни, в 1917 году были захоронены красногвардейцы, погибшие при взятии Кремля. Тем самым было положено начало почетному некрополю в этом священном месте Москвы. В 1918 году в первую годовщину Октябрьской революции, на Сенатской башне устанавливается мемориальная доска: Павшим в борьбе за мир и братство народов». Ее автор — известный советский скульптор Сергей Коненков. Перед доской сооружается деревянная трибуна по проекту праздничного оформления площади, авторами которого были архитектор Леонид, Виктор и Александр Веснины. С этой трибуны выступал Владимир Ильич Ленин.
Когда В. И. Ленин умер, все эти обстоятельства повлияли на принятие исторического решения о его захоронении на Красной площади и предопределили выбор участка для сооружения Мавзолея вблизи кремлевской стены, по оси Сенатской башни. Шеренги бойцов революции будут проходить мимо священной могилы своего вождя, отдавая честь его памяти и присягая на верность великим идеалам, за которые он боролся. Ленин умер, но дело его живо. Гробница великого Ленина станет главной трибуной страны — это необычное сочетание функций глубоко символично. Оно придает Мавзолею огромное идейно-политическое и эмоционально-художественное значение.

Мавзолей
Первоначально по проекту архитектора А. В. Щусева возводится временный деревянный Мавзолей, который сменяется в 1930 году хорошо известным всему миру гранитным сооружением. Мавзолей В. И. Ленина стоит в обрамлении трибун, рассчитанных на 10 тысяч человек. Здание приближено к стене, поэтому оставляет большую часть пространства площади свободной для шествий и демонстраций. Вместе с рядами трибун Мавзолей становится фрагментом композиции фасадной стены Кремля, создавая ее центр, уже намеченный Сенатской башней и куполом Сената.
При такой центрической постановке на огромном пространстве площади, сформированном крупномасштабными архитектурными сооружениями, подчеркнуто скромные, небольшие размеры Мавзолея лишь усиливают его значение как главного монумента ансамбля. Уступчатая форма Мавзолея внешне соответствует пирамидальной композиции храма Василия Блаженного и башенных завершений Кремля. Насыщенный красный цвет усиливает это соответствие. Однако композиционная тема главных сооружений ансамбля интерпретируется в Мавзолее совсем по-новому. Его лаконичные, очищенные от всяких деталей формы соответствуют не только стилю советской архитектуры того времени, но и суровому характеру эпохи великих ленинских свершений, функциональному содержанию, идейному смыслу и уникальному значению сооружения. Щусев контрастно противопоставляет свою постройку декоративной роскоши храма Василия Блаженного, а тем самым и архитектуре всех остальных сооружений ансамбля, до сих пор послушно следовавших в его «фарватере». И в то же самое время, тем же самым гениальным по простоте приемом, ему удается усилить звучание самого древнего, основополагающего архитектурного мотива ансамбля — монументальной кремлевской стены. То, что зодчий вполне целенаправленно шел по этому пути, видно из того, что при замене деревянного Мавзолея гранитным он упростил объем сооружения, уменьшил число горизонтальных уступов завершения. Были полностью устранены рельефные обрамления плоскостей фасада, выступающие накладные буквы надписи заменены инкрустацией, не нарушающей гладкую поверхность каменной плиты.
Архитектору удается добиться здесь, кажется, невозможного — выделить свой объект в ряду уникальных сооружений. И каких — ведь речь идет о Кремле, храме Василия Блаженного! Не только выделить, но придать ему качество главного центра исторического ансамбля, сформированного на протяжении почти четырех веков. При этом не разрушить целостность ансамбля, напротив, сделать его еще более монолитным, придать ему новое идейно-политическое содержание, сделать его созвучным новой революционной эпохе. Щусевский Мавзолей В. И. Ленина не только одно из высших достижений советской архитектуры, но пример глубокого понимания природы архитектурного ансамбля.
С возведением Мавзолея связан целый комплекс градостроительных мероприятий, которые сделали Красную площадь такой, какой мы знаем ее сегодня. Строительство Москворецкого моста и расчистка застройки между ним и храмом Василия Блаженного обеспечили выход площади к реке, лучше связали ее с городом. В противоположном конце площади аналогичную цель преследовала разборка участка Китайгородской стены с Иверскими воротами. Роль последних в формировании силуэта ансамбля в большой степени взяли на себя островерхие башенки Исторического музея. Памятник Минину и Пожарскому был перенесен в южную часть площади, к храму Василия Блаженного, поскольку организующая и символическая роль этого монумента перестала быть доминирующей в ансамбле с появлением Мавзолея.
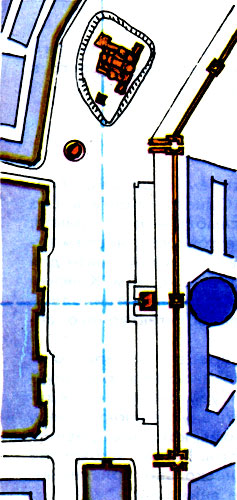
Красная площадь в Москве
Все эти мероприятия дали Красной площади широкое, мощное раскрытие в город. Находясь на ней, всякий раз ощущаешь дыхание всей страны, движение широких масс, волнами прокатывающихся по площади в дни народных торжеств, важнейших событий общественно-политической жизни. Древняя и обновленная, Красная площадь стала главным, доминирующим элементом в системе быстро развивающегося столичного центра Москвы, архитектурным символом первого в мире социалистического государства.
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ
Надо извиниться перед читателем за долгий, перегруженный деталями рассказ. Однако обойтись без него трудно. Архитектурный ансамбль — дело тонкое, и судить о нем, не вникая во все тонкости, невозможно — на них он и строится. И едва ли можно найти для такого разбирательства пример лучше, чем Красная площадь. У каждого она перед глазами, все единодушны в оценке ее достоинств как архитектурного ансамбля.

Старый Тбилиси — единство сложившейся городской застройки и природной среды
Теперь, когда мы знаем весь процесс поэтапного — шаг за шагом — сложения этого ансамбля, растянувшийся на целые столетия, попробуем окинуть его единым взглядом. Попытаемся понять внутреннюю логику, механизм преемственного развития, который привел к созданию архитектурного шедевра. В ряду множества упомянутых событий отметим несколько привлекающих к себе в этой связи особое внимание.
1561 год. Барма и Постник возводят собор Покрова на рву. Незастроенный пустырь перед кремлевской стеной получает продольную ориентацию. Появляется архитектурная тема ярусной пирамидальной композиции.
1625 год. Б. Огурцов и К. Галовей развивают эту тему уступчатой надстройкой Спасской башни и тем самым кладут начало созданию характерного силуэта Кремля.
1787 год. М. Казаков располагает купол нового здания Сената в Кремле прямо за безымянной (отныне Сенатской) башней. Намечается поперечная ось площади.
1817 год. О. Бове развивает эту ось, отмечая ее центральным портиком и куполом нового здания Верхних торговых рядов, а также постановкой памятника Минину и Пожарскому.
1883—1894 годы. В. Шервуд и А. Померанцев развивают тему островерхих архитектурных завершений, поддерживая уже сложившиеся продольную и поперечную оси ансамбля в архитектуре новой застройки северного и восточного фасадов площади.
1930 год. А. Щусев создает новый центр ансамбля — Мавзолей В. И. Ленина. Он подчеркивает доминирование поперечной оси и ярусного принципа в формировании ансамбля. Раскрытие площади с севера на юг способствует ее активному включению в систему столичного центра Москвы и одновременно усиливает значение древнейшей продольной оси ансамбля как главного направления сквозного движения людских потоков через площадь.
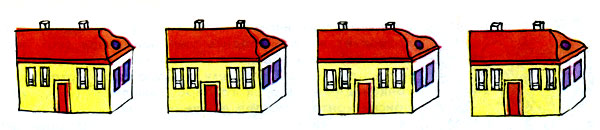
механизм преемственного развития
Итак, три главные архитектурные идеи, или темы.
Первая. Продольная ось площади, вытянутой вдоль стены Кремля, с ориентацией на храм Василия Блаженного и последующим раскрытием площади в город.
Вторая. Ярусная, пирамидальная композиция архитектурных объемов, формирующая островерхий, многобашенный силуэт ансамбля.
Третья. Поперечная ось площади, определяющая доминирование ее главного кремлевского фасада и общую симметрию построения основных архитектурных масс ансамбля.
Первая и вторая темы берут свое начало в гениальной постройке Бармы и Постника. Третья, абсолютно новаторская идея заявлена Казаковым и последовательно реализована Бове. Каждый из членов заочного «авторского коллектива» Красной площади внес свой вклад в развитие ансамбля в меру своего понимания этих определяющих его своеобразных тем. Такое понимание и является главным фактором органического формирования ансамбля. Не только потому, что оно позволяет воспроизводить уже найденное (вот оно, сходство) и тем обеспечить историческую преемственность целого. Еще и потому, что оно служит отправной точкой для новаторского переосмысления (а это уже поиски контраста), для движения вперед.
Только творческая разработка идеи продольного развития ансамбля вдоль кремлевской стены могла привести Бове к трехчастной симметрии фасада здания Верхних торговых рядов, фиксирующей не существовавшую ранее поперечную ось площади. И вот ведь странная вещь — в буквальном смысле этого слова «не осталось и камня на камне» от архитектурной деятельности Бове на Красной площади. Снесены и заменены новыми, непохожими на них зданиями некогда построенные им торговые ряды. Памятник Минину и Пожарскому тоже не устоял на том месте, которое первоначально определил ему зодчий. И все-таки именно Бове может по праву считаться, пожалуй, главным автором ансамбля. Это он дал новую трактовку площади, ориентировал ее на Кремль, сделал ее современной Красной площадью. Этой трактовке подчинились все, кто строил на площади после него, она обрела вторую жизнь в постройках Шервуда, Клейна, Померанцева, в замечательном творении Щусева.
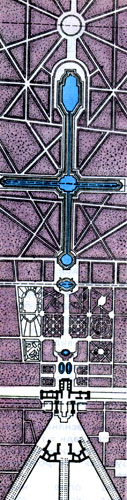
Ансамбль Версаля поражает воображение масштабами и грандиозностью замысла
Имя Щусева по праву занимает место рядом с именем Бове. Он довел до предельно ясного выражения идею симметричной композиции ансамбля, заложенную Бове. Более того, он обогатил ее новаторской идеей развития площади в продольном направлении, превратив ее замкнутое, изолированное от города пространство в раскрытую на город эспланаду. И здесь мы видим все то же сочетание преемственности и новаторства. Развитие ярусной композиции древних сооружений натолкнуло Щусева на идею контрастного противопоставления лаконичных форм Мавзолея декоративной пластике шатровых завершений исторического ансамбля.
Шаг вперед оказывается конструктивным и надежным только тогда, когда он опирается на понимание всей логики предшествующего развития. Дорога из настоящего в будущее всегда ведет через прошлое.
ПОЧЕМУ НЕ ПРОИЗОШЛО ТО, ЧТО НЕ ПРОИЗОШЛО
Красная площадь дает пример традиционного архитектурного ансамбля, который формируется на протяжении длительного времени усилиями многих архитекторов, а точнее, даже многих поколений архитекторов. Ансамбль постепенно кристаллизуется во времени, на каждом этапе его формирования архитектурно-пространственная композиция уточняется и переосмысляется с позиции новых задач. В ходе такой эволюции происходит своего рода «естественный отбор» наиболее жизнеспособных решений, причем новое возникает всякий раз, как правило, в форме частичного, локального изменения общей пространственной концепции, которое закрепляется (или не закрепляется) в следующих этапах развития ансамбля. Хороший пример — купол Сената, помещенный Казаковым за Сенатской башней Кремля. Кваренги не придал этому значения, а Бове увидел и закрепил рождение поперечной оси площади. Новое, причем радикально новое возникает здесь исподволь, так что его поначалу трудно отличить от случайности. Если продолжить биологическую аналогию, то это напоминает мутацию.

Панорама современного города. Ульяновск — вид на Ленинский мемориальный
комплекс
Итак, развитие малыми порциями, на ощупь, методом проб и ошибок. Такой «естественный» путь развития, может быть, и не самый эффективный, но зато самый надежный с точки зрения органической преемственности, сохранения уже накопленных и многократно оправдавших себя признаков ансамбля. Разумеется, чем дольше существует такой ансамбль, чем больше «шагов» насчитывает его предшествующая градостроительная эволюция, тем большую устойчивость он проявляет по отношению к попыткам радикального реконструктивного вмешательства. Речь, конечно, идет не о каком-то осмысленном «поведении» самой архитектуры, а о ее влиянии на общественное сознание, о социально осмысленной общекультурной и художественной значимости ансамбля, которая воздействует на принятие решений о его дальнейшей судьбе.
С этой точки зрения кажется не случайным, что в свое время потерпел неудачу такой выдающийся, новаторский проект, как Кремлевский дворец Баженова. Созданный в конце XVIII века, быть может, наиболее ярко одаренным зодчим всей русской архитектуры, этот проект требовал радикальной трансформации исторического ансамбля Красной площади, и такая цена оказалась, по-видимому, слишком дорогой, неприемлемой для коллективного общественного сознания. В соответствии с замыслом Баженова новый въезд в Кремль должен был диагонально прорезать кремлевскую стену между безымянной (потом Сенатской) и Никольской башнями, то есть в месте довольно случайном с точки зрения формирования композиции Красной площади. Тем самым подчеркивалось второстепенное значение Красной площади, да и самой кремлевской стены по отношению к составленной Баженовым новой внутренней планировке Кремля и запроектированному им дворцу. Сменив Баженова в руководстве делами «кремлевских строений», Казаков действует совсем иным образом. Он строит в Кремле здание Сената, ориентируя его на расположенную снаружи, за стеной, Красную площадь и в известном смысле подчиняет все свое решение задаче ее пространственной организации. Подчеркнув симметричным относительно башен Кремля расположением купола Сената значение кремлевского фасада Красной площади, Казаков самым радикальным образом повлиял на формирование ее ансамбля. А через это — и на всю последующую архитектурную судьбу Московского Кремля. С виду гораздо более скромное, не «лобовое» решение Казакова оказалось и тоньше, и жизненнее, и гораздо значительнее по своим последствиям.
По сходным причинам не получили осуществления и замыслы строительства на Красной площади грандиозного здания Наркомтяжпрома, намеченные на представительном архитектурном конкурсе 1934 года. Предусмотренное конкурсной программой пространственное раскрытие Красной площади в сторону площади Революции требовало сноса Верхних и Средних торговых рядов, значительной части расположенной за ними застройки. Это подрывало самые основы исторически сложившегося ансамбля и в конечном счете вело к противоположному результату — ослаблению архитектурного влияния Кремля и Мавзолея В. И. Ленина в системе центра Москвы. Вот почему оказались в равной мере неприемлемыми самые разнообразные, притом блестящие по мысли и архитектурному исполнению предложения крупнейших советских зодчих И. Леонидова, К. Мельникова, И. Фомина.
ЕДИНСТВО ВРЕМЕНИ И ЕДИНСТВО МЕСТА
Не всегда архитектурный ансамбль формируется в ходе многоэтапной, длительной эволюции — путем, напоминающим скорее развитие живого организма, чем строительство единого сооружения. История архитектуры знает и примеры единовременного осуществления значительных архитектурных ансамблей, как об этом мечтал Баженов, проектируя свой Кремлевский дворец, или Леонидов — дом Наркомтяжпрома. Правда, примеров таких сравнительно немного, но все же они есть. Еще в эпоху Возрождения итальянский архитектор Джордже Вазари построил ставшую знаменитой улицу Уфицци во Флоренции. В XIX веке прославленный зодчий Петербурга Карл Росси тоже построил целую улицу неподалеку от Невского проспекта. Теперь она так и называется: улица Зодчего Росси.
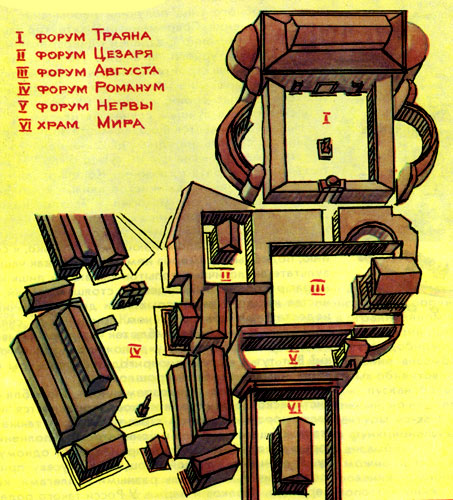
собрание форумов
Эти примеры особенно интересны потому, что, хотя в истории формирования архитектурных ансамблей они были скорее исключением, чем правилом, сегодня задачи подобного типа получили необычайно широкое распространение. Современный архитектор чаще всего сталкивается именно с задачей единовременного создания архитектурного ансамбля. Необычайно убыстрившиеся темпы строительства (да и всей жизни) отводят на формирование законченных архитектурных комплексов сжатые сроки, которые измеряются уже не столетиями, а в лучшем случае пятилетками.
Наконец сбывается вековая мечта зодчего о реализации, так сказать, на одном, дыхании единого крупномасштабного замысла. Но не тут-то было. На деле все оказывается гораздо сложнее. Конечно, центральная площадь с новым административным комплексом в Ярославле, Ленинский мемориал в Ульяновске или площадь имени Л. И. Брежнева в Алма-Ате свидетельствуют о том, что «единовременный» ансамбль может быть выразительным и запоминающимся. Однако, к сожалению, подобных примеров немного. Куда как чаще в результате аналогичных попыток мы видим лишь конгломерат разрозненных, отдельно стоящих зданий, достоинства каждого из которых то и дело оборачиваются недостатками целого. В чем причина? За счет чего «единовременный» ансамбль так часто проигрывает ансамблю «эволюционному», сложившемуся исторически? Вот тут и могут нам пригодиться примерь) единовременных ансамблей прошлого.
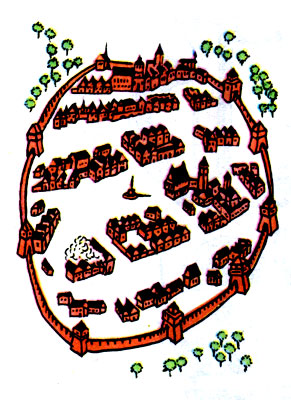
Так начинался город — огороженное стеной пространство
Главная черта единовременного ансамбля — стилистическое единство, которое определяется исторически коротким сроком строительства. А также единством общего замысла и конкретного исполнения, которые в подобных случаях принадлежат одному автору. В случае с Красной площадью Щусеву пришлось «сотрудничать» со столь разными коллегами, как Померанцев, Казаков и Барма. У Росси такого рода трудностей не было — он сотрудничал лишь с самим собой.
Однако взамен одних сложностей возникают другие. Стилистическое единство архитектуры резко сужает область поиска контрастных отношений между сооружениями, а вместе с тем и возможности создания полноценного архитектурного ансамбля. Каким путем шли в этом случае зодчие прошлого? Они очень жестко контролировали физические размеры ансамбля и стремились придать, ему логически ясную пространственную структуру. То есть фактически трактовали ансамбль как одно сооружение. Вот почему и Вазари и Росси решаются распространить единое архитектурное решение лишь на предельно ясный пространственный стереотип улицы. И вот почему эти улицы имеют столь небольшие размеры. Проходя по такой улице, чувствуешь себя в интерьере сооружения.
Значит, возможный выход из положения (один из возможных выходов) в сведении ансамбля к такой степени целостности, которая свойственна сооружению. Концентрация этих сооружений в ограниченном по размерам и ясном по структурной организации пространстве — вот стратегия архитектора в подобном случае. Но это означает на деле вырождение ансамбля как сложного взаимодействия различных объектов, подмену ансамбля одним сооружением, пускай большим и достаточно сложным. Путь возможный, но не всегда реальный для современной архитектуры из-за больших размеров и широкого диапазона функциональных различий сооружений, входящих в ансамбль.
Есть другие пути. Например, можно пытаться получить необходимые для формирования полноценного ансамбля контрастные противопоставления между его элементами за счет привлечения к реализации единого замысла различных архитекторов. На одной из площадей Вильнюса три административных здания, образующие единый комплекс, запроектированы тремя авторскими группами. Эксперимент в Вильнюсе можно считать удачным, но так получается далеко не всегда. Реальная временная перспектива в отношениях между архитекторами, та, что связывает их при формировании исторического ансамбля и придает их заочному соревнованию характер коллективного творчества, здесь отсутствует. Она подменяется своего рода игрой в преемственность, имитацией сложности, которая сродни скорее поверхностному разнообразию выставочной архитектуры, чем внутренней противоречивости, диалектическому единству органического архитектурного целого.

Водная гладь Невы, многочисленных рек и каналов составляет характерную
особенность архитектурного облика Ленинграда
Еще одна возможность — принять стилистическую однородность как неизбежное условие единовременной реализации ансамбля. Искать необходимое для единства целого разнообразие не в пластическом решении сооружений, а в их пространственных отношениях. То есть формировать ансамбль на основе усложнения его общей пространственной композиции. Этот путь кажется наиболее естественным и многообещающим. И хотя современная архитектура чаще всего пытается решить проблемы создания ансамбля именно таким путем, здесь есть свои ограничения и сложности. Они связаны с природой взаимодействия архитектурного сооружения и окружающего пространства.
Обсуждение проблем архитектурного ансамбля возвращает нас к первоосновам архитектурного творчества, восприятия архитектурного пространства. Однако до сих пор мы рассматривали их применительно к отдельному архитектурному сооружению. Теперь пришло время поинтересоваться пространством, которое формируют сооружения. Пространство архитектуры смыкается с архитектурой пространства.
АРХИТЕКТУРА ПРОСТРАНСТВА
Существуют два принципиально отличных метода организации открытого архитектурного пространства. Первый — создание замкнутого пространства в обрамлении архитектурных сооружений, выгораживание пространства посредством расстановки сооружений. Классический пример — монастырский двор, огороженный стенами, площадь, по периметру обстроенная домами. Другой способ — постановка здания-монумента, создающего вокруг себя специфическое пространственное поле, зону активного влияния. Характерный пример — здание в природном ландшафте. Примеры такого рода нетрудно найти и в городе — по такому принципу «работают» сооружения-доминанты, создающие архитектурные акценты в силуэте застройки.
Оба способа известны очень давно. Древние греки знали и замыкающую внутреннее пространство колоннаду-перистиль, и обращенную наружу колоннаду-периптер. Оба способа связаны некоторыми ограничениями в смысле физических размеров. Так, эффект замкнутости пространства достигается лишь при определенных отношениях его высоты и ширины. Если это отношение меньше некоторой величины (исследователи называют в качестве такой величины угол наблюдения порядка 20 градусов), то стена вообще перестает восприниматься как пространственная граница. Находясь в сплошь обстроенном по периметру пространстве, мы не воспринимаем его как двор или площадь, в том случае если горизонтальные размеры несоизмеримо больше высоты ограничивающих его вертикальных стен. Вот почему так неуютно в иных современных дворах или в пустом выставочном пространстве. Точно так же и пространственное влияние монумента небеспредельно. Чем он больше, тем, понятно, больше зона его влияния. И все-таки, находясь на слишком большом расстоянии даже от очень большого монумента, не ощущаешь себя в пределах организуемого им пространства. Для этого надо подойти к нему достаточно близко. Критерием такой близости может служить все тот же угол наблюдения, определяющий границу реального влияния сооружения, так сказать, зону его «архитектурного тяготения».

Часто расположенные мосты делают Сену частью городского пространства центра
Парижа
Разница заключается в том, что в первом случае сооружение играет роль более или менее нейтральной стены, отграничивающей пространство. Восприятие определяется свойствами самого пространства, его конфигурацией, степенью замкнутости, расчлененности и т. д. Сооружение служит фоном, «солирует» само пространство. Во втором случае сооружение выступает в качестве главного элемента композиции. Пространство воспринимается как совокупность разных точек зрения на сооружение-монумент. «Солирует» сооружение, пространство ведет аккомпанемент.
Оба эти способа используются в композиционном построении архитектурного ансамбля, причем чаще всего одновременно. Красная площадь имеет четкие пространственные границы, выгороженные сооружениями фонового характера (кремлевская стена, торговые ряды, Исторический музей). В то же время она представляет собой зону влияния сооружений-монументов — храма Василия Блаженного, кремлевских башен, Мавзолея В. И. Ленина. Нетрудно представить себе, что в отсутствие этих монументов пространство площади скорее всего казалось бы избыточным, непомерно большим, пустынным. Именно здания-монументы придают ему насыщенность и внутреннюю напряженность единого архитектурного целого.

Церковь. Вблизи
Такое же сочетание фоновой застройки, фиксирующей внешние пространственные границы, и зданий-солистов, которые «держат» это пространство, накладывая на него сложную структуру своего взаимодействия, характерно для многих первоклассных архитектурных ансамблей. Площадь Св. Марка в Венеции, Дворцовая и Сенатская площади в Ленинграде, площадь Звезды в Париже могут служить наглядным подтверждением сказанному.

Церковь. Вид издалека
В каждом из этих случаев наличие четких пространственных границ, создаваемых фоновой застройкой, дополнено организующим воздействием одного-двух (не более) четко взаимосвязанных зданий-монументов. Если принять это во внимание, становятся понятны те трудности, на которые наталкивается современная архитектура в попытках создания больших «единовременных» ансамблей. С одной стороны, при увеличении физических размеров ансамбля сформировать его внешнюю пространственную границу становится все труднее. Она перестает ясно читаться, приобретает дробность, одним словом, размывается в окружающем пространстве. С другой стороны, такое ослабление внешней границы приходится компенсировать введением в композицию ансамбля большего числа зданий-монументов. А это делает запутанной систему их пространственных взаимосвязей друг с другом. В конце концов, она вообще перестает быть эффективным средством визуальной ориентации и превращается в свою противоположность. К тому же с увеличением числа зданий-монументов все труднее сделать их уникальными, непохожими друг на друга, тем более в рамках одного проекта.

Вход
Каков же рецепт лекарства от этой болезни? Прежде всего — борьба с гигантоманией. Надо отдать себе отчет в том, что возможности архитектуры небезграничны и она всякий раз должна выбирать себе «орешек по зубам». Оперируя фоновой застройкой (а она гораздо чаще имеется в распоряжении современного архитектора, чем действительно уникальное здание-монумент), важно не переступать масштабы размеров, в пределах которых прием выгораживания пространства сохраняет свою эффективность. Давайте представим себе, что стало бы с Красной площадью, если бы мы сдвинули здание ГУМа хотя бы метров на сто подальше от кремлевской стены. А ведь подобные растекающиеся в пространстве композиции отнюдь не редкость в современной архитектуре. Каждому из нас приходилось испытывать раздражающее чувство растерянности среди бесформенных пространств, уставленных зданиями по непонятной для непосвященного системе.

Исторический ансамбль Кремля и Красной площади — основа
архитектурно-художественной композиции центра Москвы
Ориентируясь на здание-монумент, надо прежде всего позаботиться о пластическом своеобразии, уникальности его архитектуры, поскольку именно этим определяется его организующая роль в композиции ансамбля. И уж конечно, надо избегать довольно частых в современной практике случаев использования самых заурядных фоновых сооружений в качестве зданий-солистов. Представьте себе хотя бы Исторический музей на месте храма Василия Блаженного, чтобы по достоинству оценить далеко идущие последствия подобной подмены.
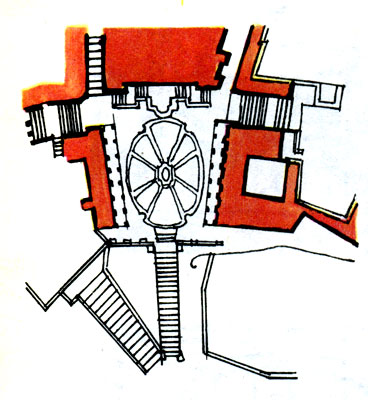
Площадь Капитолия в Риме (схема плана)
Итак, проблема современного архитектурного ансамбля вполне укладывается в рамки хорошо известного закона марксистской диалектики. Нельзя сохранить качество архитектурного ансамбля (ведь это качество связано с объективными особенностями пространственного восприятия), радикально меняя количественные характеристики составляющих его элементов и их взаимосвязей. И наоборот, нельзя решить задачу создания архитектурного ансамбля в условиях ощутимого количественного увеличения физических размеров современных городских пространств, не изменив качественно традиционные методы организации пространства применительно к новому масштабу.
Это означает, что размеры и сложность внутренней организации архитектурного ансамбля не могут механически наращиваться с ростом города. Ансамбль должен остаться ансамблем в традиционном понимании этого слова. Другое дело, что масштабы современного градостроительства могут ставить такие задачи композиционного упорядочения городских пространств, которые требуют создания целой системы архитектурных ансамблей, своего рода ансамбля ансамблей. Собственно говоря, и раньше были известны такие примеры. Достаточно вспомнить Невский проспект в Ленинграде — что это такое, как не ансамбль ансамблей, нанизанных на единый стержень главной улицы. Однако в современном городе такой классический принцип взаимосвязи архитектурных ансамблей претерпевает серьезные необратимые изменения. Эта тема лежит уже за рамками первого тома книги. Она вплотную подводит к тому рубежу, где кончается архитектура и начинается градостроительство.
ЗВУЧАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ХОРА
Ансамбль — наиболее яркое высокохудожественное проявление более общего случая взаимодействия архитектурных сооружений между собой. Ансамбль — явление уникальное, когда единство отдельных сооружений достигает цельности подлинного произведения искусства. Существует и другой, более примитивный, механистичный, но зато более широко распространенный вид архитектурного единства — городская среда.
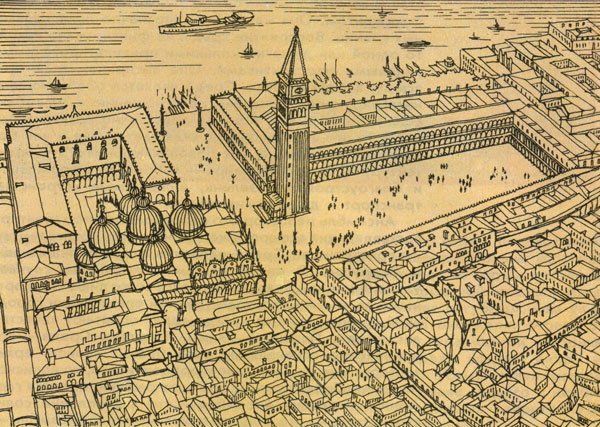
Площадь Св. Марка в Венеции — одна из самых знаменитых площадей мира
Что входит в понятие среды? Тип размещения зданий в пространстве, их масштабность, объемная композиция, ритмический строй фасадов, стилевые особенности. Одним словом, все те же позиции, которыми пользуются при характеристике ансамбля. Однако в городской среде они проявляются в более неопределенной, нейтральной, обезличенной форме. Сходство между отдельными элементами среды может быть значительно меньшим, чем между элементами ансамбля. Но и контрасты выглядят более сглаженными. Ансамбль имеет четко очерченные границы вполне определенного комплекса сооружений. Его физические размеры ограничены условиями единовременного пространственного восприятия. Среда связана с представлением обо всем городе, с некоторой его частью, фрагментом. Она не имеет однозначно локализованных границ. Восприятие среды не фиксировано какой-то одной или даже несколькими привилегированными видовыми перспективами. Она воспринимается отовсюду, в любой точке. Среда является обобщающим, интегрирующим понятием по отношению к ансамблю еще и потому, что, помимо собственно архитектуры, она в отличие от ансамбля включает также и все богатство наполняющего и обволакивающего эту архитектуру предметного мира — городское оформление и благоустройство, зелень, инженерные устройства, транспорт и даже самих людей.
Ансамбль неповторимо своеобразен и по характеру составляющих его сооружений, и по типу создаваемого им пространства. Среда, напротив, стереотипна и в том и в другом. В подавляющем большинстве случаев улица, площадь, квартал являются всего лишь стандартными приемами пространственной организации городской среды и только иногда вдруг обретают качество ансамбля — Площади, Улицы, Квартала. Среда — это проявление изначальных ансамблевых свойств архитектуры. Где-то на дне неупорядоченного, живописного единообразия среды дремлет рафинированная гармония ансамбля. Ансамбль — это выступление солистов. Среда — это мощное звучание хора. Ансамбль — это торжественная симметрия Красной площади. И энергичный, прерывающийся ритм проспекта Калинина тоже ансамбль, хотя и совсем иного рода. Пестрый хаос Замоскворечья, смешенье особняков и доходных домов на узких улочках московского центра — это среда. Так же как и заросшие зеленью дворы, спрятавшие пятиэтажную застройку 60-х годов. Так же как и просторные дворы шестнадцатиэтажной застройки новых районов, отвернувшиеся от шумных транспортных улиц.
Среда формируется как естественный, закономерный результат процесса городского строительства, где архитектор всего лишь один из участников, точка зрения которого далеко не во всем является определяющей. Сложение архитектурного ансамбля абсолютно невозможно без организующей творческой воли зодчего. Гармония ансамбля, построенная на тонком равновесии сходства и контраста, легко уязвима для случайного или непродуманного архитектурного вмешательства. В этом отношении менее изощренное, имеющее гораздо более широкую функциональную и эстетическую основу единство городской среды обнаруживает куда большую устойчивость и способность адаптации к новому.

Панорама кремлевского ансамбля (современный вид)
Подорвать устойчивое единство городской среды, конечно, гораздо сложнее, чем бестактно вмешаться в гармонию ансамбля. Однако по своим последствиям, как архитектурным, так и общекультурным, разрушение рядовой, ничем особенно не примечательной исторически сложившейся городской среды может оказаться не менее, а то и более пагубным, чем уничтожение иного архитектурного ансамбля. Утрата отдельных участков, даже целых фрагментов исторически сложившейся городской среды создает ничем не восполнимые разрывы не только в самой ткани застройки, но и в том органическом сплаве старого и нового, которое составляет один из главных секретов удивительной жизнеспособности города.
СТАРОЕ И НОВОЕ
Традиции и новаторство, старое и новое... Жизнь всякий раз наполняет конкретным содержанием эту ставшую хрестоматийной формулу диалектического единства и противоречия. Давно ли мы с упоением преодолевали гнет ложной классической традиции во имя новаторской архитектуры стекла и бетона? Давно ли нехитрая «тельняшка» ленточного фасада казалась новаторским прорывом в будущее, а высотные дома — смешной и наивной стилизацией? Не то теперь — высотные дома вернули себе уважение профессионалов, на глазах редеют ряды поборников вчерашнего стеклянно-бетонного новаторства. Более того, оно воспринимается сегодня как нечто вполне традиционное. А вот следование более давней, глубокой архитектурной традиции стало признаком поисков нового.
Неуклонно растет интерес к сохранению, восстановлению, современному использованию старой городской застройки. Еще совсем недавно эта область деятельности находилась на далекой периферии общественного сознания, считалась непрестижной в архитектурной профессии. Сегодня на обновление старых городских кварталов расходуются средства, сравнимые с затратами на новое строительство. Недавний отток населения и городской активности от старых центров повсеместно сменился волной обратного тяготения. Проекты реконструкции вызывают наибольший интерес в среде профессионалов. Самые авангардные архитектурные поиски обязательно несут отпечаток заигрывания с «ретро». Появилось целое семейство новых понятий, обозначающих такого рода деятельность — в добавление к общепринятым — реконструкции и реставрации, — еще и реабилитация, реновация, регенерация, ревалоризация... Несмотря на различные оттенки, смысл их сходен — все то же «ре» — возобновление, возврат к прошлому, а следовательно, и его переоценка, переосмысление. В чем же причина этого настойчивого «ре»? Что породило столь парадоксальную смену внутрипрофессиональной ориентации? Почему мысль архитектора так неожиданно обращается к прошлому? Действительно, почему реконструкция?
Конечно, существует сугубо практическая сторона дела. Старые дома составляют заметную часть всего городского фонда. Их рачительное, правильное использование в городском хозяйстве — важный резерв экономии затрат. Но дело, конечно, не только в затратах. Есть причины внутрипрофессионального характера. Архитектор обращается к специфической задаче реконструкции, ощущая определенную неполноценность, недостаточность творческого арсенала современной архитектуры, он надеется повысить свою профессиональную квалификацию, вглядываясь в прошлое. При этом сама по себе реконструкция дает хотя и яркий, но лишь самый очевидный, лежащий на поверхности срез проблемы традиции и новаторства. Здесь и новое и старое существуют рядом, в одном измерении; живая традиция создает надежную, благотворную почву для новаторских поисков. Но есть и иной, более глубокий пласт проблемы старого и нового. Когда в корне изменившиеся условия и масштабы строительной деятельности не позволяют говорить о прямом использовании традиционных приемов, а вынужденный отказ от них не удается компенсировать соответствующими новыми решениями. В этом случае обращение к опыту прошлого позволяет более глубоко осмыслить реальные потребности, лежащие в основе архитектурной или градостроительной традиции. И в той же мере, в какой эти потребности сохраняют свою жизненность, попытаться найти новые, созвучные времени ответы.
Проверенные временем приемы пространственной организации городской среды, пластического разнообразия фасадов, не нарушающего общего архитектурного единства застройки, могут оказаться полезными и во многом конструктивными для современной архитектуры. Почему улицы старого города, казалось бы, совершенно стереотипные по своей структуре, воспринимаются столь по-разному? За счет чего одинаковые по этажности и приемам объемно-планировочного решения жилые дома старого города не кажутся нам удручающе монотонными и неуютными? Может быть, разобравшись в этих непростых вопросах, современная архитектура сумеет придать застройке и улицам новых районов так не достающие им человеческий масштаб и запоминающиеся отличия. Однако интерес к реконструкции не ограничивается рамками профессиональной деятельности архитектора — это интерес не только градостроителя, но и горожанина.

Центральный ансамбль Лондона — здание английского парламента
По-видимому, есть более глубокая и трудно уловимая причина: ее можно назвать утратой масштаба времени. Неразрывная сущностная связь пространства и времени осознается человеком издавна, задолго до того, как Эйнштейн строго доказал ее в теории относительности. Каждое время оставляет свой пространственный отпечаток, и в городе эти отпечатки самым удивительным образом соседствуют друг с другом. Нет другого явления культуры, в котором история была бы концентрирована столь наглядно и в такой легко доступной для восприятия форме. Здесь человек зримо ощущает временной масштаб своей реальности, соотносит себя с мировым потоком времени.
И вот эта уникальная культурная функция города неожиданно оказалась под угрозой уничтожения. Резко возросшие темпы строительства привели к тому, что стали возникать целые новые города, принадлежащие практически одному — нашему — времени. В большинстве крупных городов историческая часть буквально утонула в море современной застройки. Началось активное и нередко разрушительное проникновение новой архитектуры в старые городские центры. И дело здесь не только в отдельных «промахах», ошибках, какими бы тяжелыми они ни были. Не только в том, что тяжеловесное здание гостиницы «Россия» непоправимо бестактно соседствует с монументальным и ажурным силуэтом Московского Кремля. В конце концов, от ошибок не застрахован никто. Главное заключено в самом подходе к проблеме.
Беда в том, что далеко не каждому архитектору кажется зазорным действовать в центре города так, как он привык действовать «на пустом месте». Например, поставить многоэтажную башню случайно, под углом к улице, разрывая сложившийся фронт городской застройки. Пусть даже в самом неприметном, захолустном переулке. Ему невдомек, что, разрушая привычный строй домов сначала в одном, потом в другом месте, он посягает на нечто гораздо большее, чем ветхие строения. Он медленно, но неотвратимо подрывает всю пространственную структуру, а значит, и архитектурно-художественный облик исторически сложившегося города. Тем самым сужается та основа, тот плацдарм, на котором развивается общекультурная, общенациональная традиция, протянувшаяся сквозь века истории, память народа. К счастью, многие архитекторы, а главное, сами горожане довольно быстро разглядели за ползучим наступлением «башен в переулках» опасность невосполнимой утраты. Кризисная ситуация породила энергичный ответ — ускоренное развитие во всем мире программ сохранения и восстановления исторически сложившейся среды городских центров. Не отдельных памятников истории и архитектуры и даже не только архитектурных ансамблей, а именно среды, то есть всего пространства, материализующего в себе историческое время и имеющего поэтому общекультурную ценность.
Уникальность старого городского центра в жизни современного города определяется теперь не удобством транспортных связей и не рангом размещаемых в нем объектов, он незаменим для горожанина в своем главном качестве — хранителя исторического времени. Это требует активного реконструктивного вмешательства и особого режима функционирования. Конечно, не превращения в музей-заповедник — старые центры должны оставаться живым, полнокровным элементом современности. Прежде всего — жилым. Так что самая жгучая проблема — ремонт и реконструкция жилых домов. И строительство новых. Разумеется, не пресловутых башен, а таких, которые смогли бы органично войти в привычный облик сложившейся застройки. Такие дома появились уже и в Вильнюсе, и в Ленинграде, и в Москве.

Панорама Троице-Сергиевой лавры в г. Загорске под Москвой
Новое оживление приходит на улицы старых центров. Оживление, но не нервозная суета; праздничная насыщенность, но не толкучка — все то, что особенно удачно вписывается в идею создания пешеходных зон. Как уже удалось сделать в Каунасе и Тбилиси, Тамбове и Смоленске, Киеве и Шяуляе, в других больших и малых городах нашей страны. Такие зоны не только по содержанию, но и по своей архитектурной форме с полным правом могут считаться самыми человеческими, самыми гуманными местами во всем городе.
А как же новые города — наши современники? Неужели им надо прожить столетия, прежде чем они обретут собственное напластование времен? Нет, они могут решить эту проблему быстрее, но только за пределами своих границ. По-видимому, для них такие историко-архитектурные центры должны быть созданы специально, на базе соседних поселений или комплексов, пускай пришедших в упадок, утративших прежнее значение, но сохранивших накопленный историей временной потенциал. Как правило, их всегда можно найти поблизости, стоит только приглядеться. Ведь есть же древняя неповторимая Елабуга, совсем недалеко от новых индустриальных гигантов — Брежнева и Нижнекамска. Средства, которые надо вложить в реабилитацию таких старых центров, окупятся сторицей. Они вернут сотням тысяч людей бесценное достояние — ощущение живой сопричастности истории и понимание собственного места в ее развитии.
ЭСТЕТИКА НОВАТОРСТВА И ЭТИКА ТРАДИЦИИ
Для того чтобы осуществить новое строительство в таких условиях — в условиях реконструкции,— уже не подходит традиционный набор приемов «современной» архитектуры — нужна новая стратегия, которая исходит из идеи органического включения архитектурного сооружения в общий пространственно-временной контекст окружения. Основным объектом реконструктивного вмешательства становится при этом не отдельное сооружение или ансамбль сооружений, а участок городской среды, который рассматривается как целостная и непрерывная городская ткань, имеющая уникальную историко-культурную подоснову. Не экстерьер сооружения, интерьер города находится в центре внимания архитектора. Он проектирует не монумент, а развернутую во времени последовательность жизненных ситуаций и пространственных впечатлений.
Такой подход к проектированию архитекторы стали называть довольно неуклюжим словом — средовой. Дело, однако, не в самом слове, а в его содержании. Как добиться органического включения нового сооружения в контекст окружающей архитектурной среды? Требование соблюсти целостность объемно-пространственной композиции застройки, ее масштабных и пластических характеристик отнюдь не означает отказа от поисков более или менее выраженного своеобразия каждого отдельного сооружения. Конечно, такие поиски требуют в изменившихся условиях гораздо более точных и тонких методов, чем постановка стеклянной коробки «по контрасту» со старой церковью или ампирным особняком.
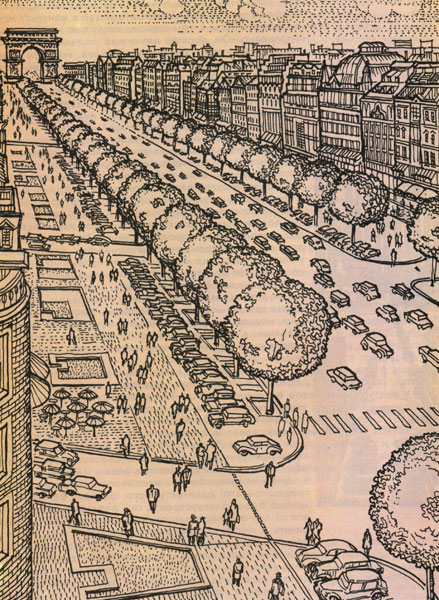
Елисейские поля в Париже. Вид в сторону Триумфальной арки
Для этого архитектору необходима высокая культура не только в чисто профессиональном, эстетическом, но и в этическом плане. Он должен в полной мере отдавать себе отчет в серьезных негативных последствиях, которые несет с собой вмешательство в контекст исторической среды в том случае, когда оно недостаточно оправдано. Он должен научиться подчинять энергию творческого самоутверждения более высоким социальным и общекультурным целям. Сочетать свое эстетическое кредо с этическими категориями гражданственности и исторического самосознания. Как это умели делать Казаков и Бове, Померанцев и Щусев. Без этого не обойтись, если мы хотим, чтобы никогда больше не повторилась история с гостиницей «Россия».
Функциональное обновление, продиктованное необходимостью улучшения условий жизни, решения социальных задач в рамках такой стратегии, осуществляется путем «скрытой реконструкции». Вмешательство архитектора затрагивает в основном внутренние, промежуточные, неструктурные, городские пространства (дворовые территории, пустыри и т. д.), находящиеся вне поля восприятия и функциональной активности людей, наполняющих городской центр. Традиционные городские пространства — исторически сложившиеся улицы, площади не меняют своего привычного облика, но реальное пространство функционирования человека не замыкается в этих границах. Оно развивается изнутри, пронизывает сооружения и кварталы, образует новые внутренние улицы, площадки, проходы — целый мир новых пространственных впечатлений, которые вплетены в жесткую канву фиксированных в сознании горожанина архитектурных стереотипов старого города.

Особенно сложная проблема — сочетание жилой застройки с промышленными зданиями,
которые стали неотъемлемой частью современной городской среды
Представьте себе, что параллельно Столешникову переулку в Москве (так предлагается в одном из проектов его реконструкции) по неблагоустроенным сейчас внутриквартальным территориям пройдет просторный светлый пассаж. Он соединит Пушкинскую улицу с Петровкой, давая возможность тем, кто спешит, срезать угол на пути в Петровский пассаж и ЦУМ. Крытые проходы свяжут новый пассаж со Столешниковым переулком. Это позволит разместить новые магазины и кафе в одном из самых бойких мест Москвы, не нарушив его традиционного архитектурного облика. Более того, можно будет благоустроить сам переулок, разгрузить его от толчеи сквозного пешеходного движения, превратить в место неторопливой прогулки и культурного отдыха. Зато новый пассаж мог бы стать не совсем обычным сооружением действительно современного типа, которое, несмотря на отсутствие наружного фасада (а отчасти и благодаря этому), несет в себе большие возможности поиска оригинальных форм и архитектурно-образных решений.
Аналогичное предложение разработано и в Ленинграде для отдельных отрезков Невского проспекта. Опыт реконструкции, который уже накопила и накапливает наша архитектура в этом направлении, требует специального и весьма тщательного анализа. Однако, какими бы ни были его результаты, очевидно, что именно в рамках реконструктивной проблематики имеются серьезные предпосылки для формирования нового языка архитектурной выразительности, для глубокого переосмысления возможностей современной строительной технологии в русле непрерывно развивающейся исторической архитектурной традиции.
Так старое становится неотъемлемой частью нового, прошедшее — частью будущего. Так действительно новое черпает силы в старом, будущее находит себя в прошедшем. Именно здесь пролегла сегодня грань между старым и новым внутри профессии. С одной стороны — абстрактные, вневременные и поэтому порядком устаревшие образцы «современной» архитектуры. С другой — проникнутый духом диалектики истории и поэтому действительно современный подход, направленный на поиски органического единства старого и нового, подобия и контраста, традиции и новаторства.
Обсуждение проблемы традиций и новаторства, как правило, замыкается в давно привычном кругу: преемственность в творчестве крупнейших мастеров, правомерность прямого цитирования элементов национального декора, сохранение памятников архитектуры. Все это, конечно, по-своему важные и заслуживающие внимания вопросы, однако они отнюдь не исчерпывают проблему. Надо помнить не только о традициях выдающихся мастеров, но и о традициях всего архитектурного ремесла в целом, о тех традициях, которые создавались самой жизнью и которые впитали в себя опыт и именитых и безымянных строителей многих поколений. Эти вечно живые гуманистические традиции органического соответствия архитектуры конкретным потребностям человека, конкретному месту и конкретному времени всегда были и остаются единственно возможной основой для действительно новаторских архитектурных свершений.
Главная мысль
Единство различных сооружений в архитектурном ансамбле достигается динамическим равновесием черт сходства и контрастного противопоставления. Насыщенная драматическими архитектурными коллизиями история Красной площади в Москве показывает, как много дает органическая преемственность в формировании замечательного ансамбля.
Единовременная реализация крупномасштабных градостроительных проектов ставит новые сложности на пути создания полноценных архитектурных ансамблей в современных условиях. Чтобы их преодолеть, надо бороться С гигантоманией, за четкую композиционно-пространственную организацию ансамбля.
Ансамбль — высшее проявление более общего взаимодействия архитектурных сооружений в рамках современной городской среды. Сохранение и обновление исторически сложившейся среды становится сегодня одной из главных областей архитектурного творчества, определяющих всю его направленность, в том числе и в сфере нового строительства. Задачи реконструкции требуют от архитектора высокой культуры не только в чисто профессиональном, эстетическом, но и в более широком — этическом плане соответствия высоким идеалам гражданственности и культурного самосознания.
ГЛАВА 8. ПРОФЕССИЯ — АРХИТЕКТОР
Что такое архитектор широкого профиля.
Главный строитель.
Архитектура для потребителя.
Наука зодчества.
Пластическая речь художника в архитектуре.
«Вот каким должен быть архитектор».
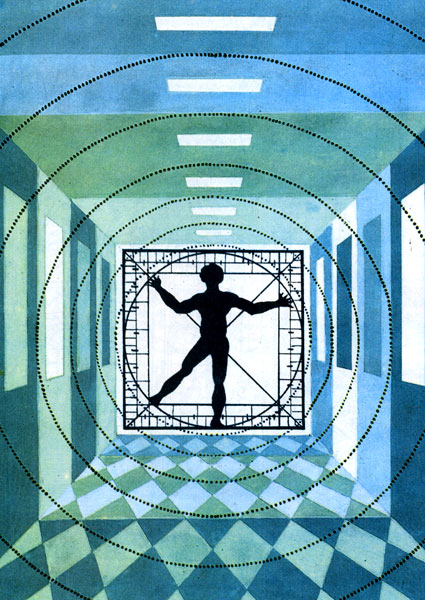
Профессия - архитектор
КАК УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ПО НОТАМ
Эта глава посвящена профессии архитектора. Кто он? В чем особенности его деятельности? Какое место он занимает в жизни общества?
Пожалуй, главная черта профессии архитектора, которая делает ее особенно сложной, но и особенно интересной, — разносторонность. Ему приходится сочетать не только множество разных знаний, но и множество разных умений, иметь дело одновременно с техникой, наукой, искусством. Соединять инженерный расчет, философскую мысль, интуицию художника. Не слишком ли много?
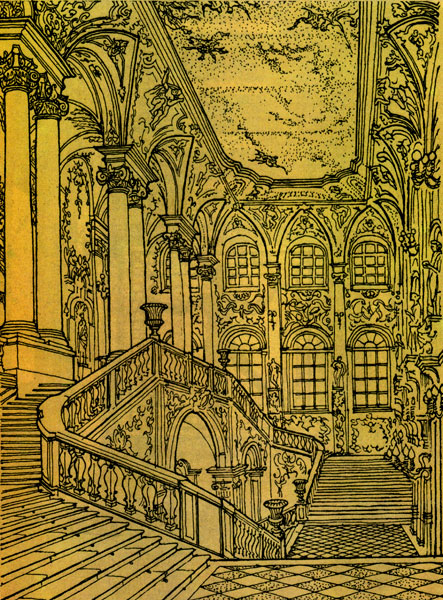
Парадная лестница Зимнего дворца. Ленинград. Архитектор В. Стасов
Но именно такова стародавняя традиция. Долгое время эти составляющие существовали в профессии архитектора нераздельно. Емкое слово «зодчий» — так на Руси издревле называли архитектора — хорошо передает эту многогранность профессии. Труд зодчего был, по сути, неотделим от труда строителя. Он задумывал постройку и руководил ее возведением от начала до конца. Не случайно в современном языке за словом «зодчий» закрепился не столько его прямой, сколько переносный смысл — созидатель, творец, руководитель.
В те далекие времена зодчий — руководитель строительства, — как правило, не пользовался чертежами, хотя и применял, по-видимому, геометрические построения для определения основных размеров и членений плана и фасада сооружения. Постепенно, однако, форма сооружений усложнялась, а организация строительства совершенствовалась. С появлением на стройке чертежей профессия архитектора стала все больше отделяться от профессии строителя. Правда, еще в эпоху Возрождения архитектор все же больше напоминал скульптора, чем своего коллегу из XX столетия — хотя бы в смысле отношения к материалу и реализации своего произведения в натуре. Микеланджело немало времени и сил затратил, например, на подготовку и доставку мраморных блоков из Каррары в Рим для строительства гробницы папы Юлия II — его задачей было не просто нарисовать проект или изваять скульптуры, но выполнить все это в натуре.
В указе Петра I о строительстве в Петербурге от 4 апреля 1714 года сказано со всей определенностью: «Каким манером домы строить... брать чертежи от архитектора Трезина» (имеется в виду Доменико Трезини). Вот уже и чертежи, и архитектор. Подразумевается и подрядчик-строитель. Это ему вменяется в обязанность строить дома таким «манером», как указано в чертеже архитектора. Таким образом, строительство здания подразделяется на две фазы: 1) составление проекта, то есть условного изображения и описания объекта, и 2) собственно строительство, то есть возведение здания в натуре в соответствии с проектом. В первой фазе главным действующим лицом является архитектор, во второй — строитель. Разумеется, конечная продукция архитектурного творчества — построенное сооружение. Но проект представляет собой очень важный и вполне законченный этап этого процесса, он содержит в себе все основные идеи и детали, связанные с возведением сооружения. К тому же именно проектное представление будущего объекта служит основой для принятия решения о его строительстве.
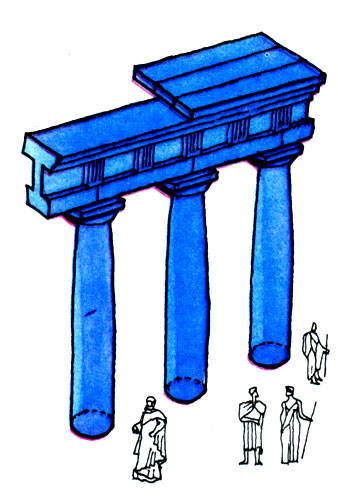
Колонны
И здесь специфический проектный язык начинает вызывать определенные сложности. Дело не только в том, что он достаточно условен и поэтому доступен далеко не всякому. Но еще и в том, что проект не позволяет в полной мере составить представление об объекте порой даже человеку искушенному в чтении архитектурных чертежей. Сооружение изображается в проекте, как правило, в трех проекциях — план, фасад, вид сбоку. Кроме того, чтобы лучше показать конструкцию и объемно-пространственную структуру сооружения, используются вертикальные сечения здания — проекции разрезов. Такие изображения вынужденно фрагментарны. Чтобы составить по ним целостное представление об объекте, надо обладать развитым пространственным воображением, позволяющим мысленно соединить их вместе. Определенную помощь в этом деле может оказать перспективное или аксонометрическое изображение общего вида объекта. Но и такие изображения всегда фрагментарны, так как в каждом случае скрывают какую-либо часть объекта.
Никакая перспектива, фотография, не говоря уже о чертеже, не в состоянии передать полное представление об архитектурном сооружении, поскольку фиксируют лишь одну из возможных позиций его восприятия. Между тем человек воспринимает архитектуру в движении, в непрерывной смене ракурсов и позиций. Время, определяющее смену «кадров» при восприятии архитектуры, составляет, как считает известный итальянский теоретик и критик архитектуры Бруно Дзеви, четвертое измерение трехмерного архитектурного пространства. И как раз это четвертое измерение ускользает из чертежа, из фотографии, из любого плоскостного изображения архитектурного объекта.
Замечательно сказал об этом Константин Мельников: «...увидеть Архитектуру по проектам — то же, что услышать Музыку по нотам». Короче и точнее не скажешь. Эта особенность архитектурного творчества превращает в нелегкое дело оценку качества архитектурного решения до его исполнения в натуре. В то же время определенная условность архитектурного проекта превращает его, по сути дела, в особый род графического искусства.
И все же главный, наиболее важный для нас вывод состоит в том, что чертеж — это еще не архитектура, и творческие функции архитектора отнюдь не заканчиваются с выполнением проекта. Только автор архитектурного замысла сооружения в состоянии действенно контролировать его реализацию. Так испокон века происходило в архитектурном деле: не случайно говорится и пишется, например, что Казанский вокзал в Москве построен архитектором А. В. Щусевым, хотя он, разумеется, не таскал кирпичи и не месил раствор. Мы не ограничиваемся глаголом «спроектировал» именно по той причине, что автор добился реализации своего проекта в натуре.
Однако применительно к деятельности современного архитектора эта традиционная формула встречается реже. Гораздо чаще мы читаем: «Строительство объекта ведет такое-то строительное управление», «Хороший подарок сделали строители жителям города» и т. п., а про архитектора — ни слова. Несправедливость? Невнимательность? Возможно. Но, к сожалению, они отражают ту ситуацию, которая сложилась сегодня в отношениях между архитектором и строителем. И в первую очередь — в самой обширной и социально значимой сфере деятельности архитектора — в области массового индустриального строительства.
И ДИРИЖЕР И КОМПОЗИТОР
Технический прогресс в строительстве принес с собой новые конструкции из металла и железобетона. Их применение потребовало знания строительной механики, сложных расчетов. Архитектор оказался не в состоянии самостоятельно обеспечить конструктивное решение здания. Одна из позиций архитектурного триединства — прочность начиная со второй половины прошлого века стала уходить из-под его контроля. Появился высококвалифицированный специалист в этой области — инженер-строитель, или, как раньше говорили, гражданский инженер. Архитектурное образование стало расслаиваться — часть архитекторов получала политехнический, инженерный уклон, часть, напротив, художественный. В начале века появилась даже специальность архитектор-художник. Как будто архитектор до тех пор не был художником!
Так или иначе, но сама по себе новая техника возведения здания оказалась в значительной мере неподвластной архитектору, он вынужден осваивать ее, правда, не непосредственно, а через коллегу-инженера. При высокой степени сложности современных сооружений специализация проектировщиков продолжает углубляться — рядом с архитектором и инженером-конструктором работают инженеры по отоплению и вентиляции, кондиционированию воздуха, водоснабжению, электрике и слаботочным устройствам, вертикальной планировке, организации строительных работ, а также механики, технологи, экономисты... этот перечень можно продолжить. В подобной ситуации архитектору не всегда удается сформировать убедительную пространственную концепцию здания и сохранить над ней контроль на протяжении всего процесса проектирования. Инженеры-смежники начинают «растаскивать» ее по частям, и проект рискует превратиться просто в компромисс между требованиями разных специалистов. Архитектору в таком случае ничего не остается, кроме функций эстетического прикрытия этого «сговора». Он превращается в специалиста по художественному оформлению здания — одного из многих в длинном ряду проектировщиков.
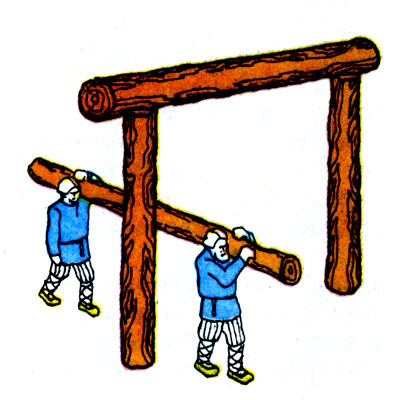
Бревенчатые строения
Выход из положения один — архитектор должен и в сложных условиях современного проектирования оказаться на высоте своего положения. Ведь греческое слово «архитектор» так и переводится — «главный строитель». Однако времена изменились, и сегодня архитектор должен владеть гораздо более широким кругом знаний в области конструкций, оборудования зданий, организации строительства и т. п., чем это было раньше. Разумеется, не на уровне специалистов, но настолько, чтобы уметь организовать и направить работу этих специалистов к нужной цели.
Ну и конечно, иметь такую цель — ясную, четко сформулированную, такую, которая наиболее полно отвечала бы функциональной программе, особенностям конкретного места, имеющимся ресурсам — одним словом, всему комплексу условий и ограничений, связанных со строительством объекта.
Итак, два фактора. Во-первых, расширение круга профессиональных знаний архитектора, овладение необходимым опытом в сфере технического исполнения архитектурных замыслов. Во-вторых, высокая культура пространственного мышления, умение быть не только дирижером строительного «оркестра», но и композитором, создателем самой архитектурной «музыки». Для этого нужны и талант, и знания, и навыки применения этих знаний на практике. Вот почему бытует мнение о том, что архитектура — профессия пожилых людей. Надо многому научиться не по учебнику, многое испытать, наконец, приобрести определенный жизненный опыт, чтобы стать по-настоящему зрелым архитектором. И. В. Жолтовский возвел свои лучшие постройки на седьмом десятке жизни, А. В. Щусев — когда ему было за пятьдесят, расцвет творчества братьев Весниных пришелся на пятое десятилетие их жизни. К Фрэнку Ллойду Райту настоящая слава пришла после того, как он справил свое шестидесятилетие, и Корбюзье и Мис ван дер Роэ только в этом возрасте получили возможность реализовать свои лучшие идеи.

Строители. Фрагмент картины Ф. Леже
Однако одного таланта и опыта архитектору недостаточно. Нужны еще и энергия, упорство в достижении своей цели. Причем нередко именно эти качества оказываются решающими. Судите сами. Разработанный архитектором проект должен пройти длинную цепочку согласований и утверждений, прежде чем начнется его реализация. Придирчивые эксперты устанавливают соответствие проекта действующим строительным нормативам, проверяют инженерные расчеты, наконец, оценивают качество архитектурного решения. При этом часто то, что является не совсем ординарным, из ряда вон выходящим, оригинальным, подвергается сомнению.
Особенно тяжелые испытания ждут архитектора в процессе согласования проекта с теми, кто должен осуществлять его в натуре, — со строителями, в руках которых сегодня находится право «вето», право отвергать те решения, которые создают для них определенные сложности, и навязывать те, которые подобных сложностей не создают. А это иногда ведет к упрощенчеству в ущерб качеству архитектуры.
АРХИТЕКТОР И СТРОИТЕЛЬ: ДИАЛЕКТИКА СПОРА И ЛОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
В важнейшей сфере архитектуры массового жилища конфликт строителя и архитектора достигает наибольшей остроты. Не так просто найти окончательный и конструктивный компромисс в затянувшемся споре — ведь оба его участника по-своему правы. Логика строителя кажется железной. Если мы хотим как можно быстрее построить как можно больше домов (а мы хотим!), то они должны как можно меньше отличаться друг от друга. Всякая особенность места, всякое индивидуальное отличие отдаляют от поставленной цели. Следовательно, надо стремиться их уничтожить. Если на участке есть холм, его надо срыть — это дешевле, чем пытаться «обыграть» его в застройке. Если есть овраг — его надо тоже превратить в ровную плоскость. Что уж тут говорить о деревьях! Магазин в первом этаже — нежелательное усложнение конструкции дома. Тем более пристройка детского сада. Куда как проще отдать под него лишний гектар территории — за нее ведь платить ничего не надо. Чем больше жилой площади на одном фундаменте и под одной крышей — тем дешевле квадратный метр жилья. К тому же не только сроки, но и качество строительства зависят от индустриальных методов производства и монтажа. Вот и получается, что выгоднее всего строить очень длинный и высокий (сколько позволит подъемный кран) дом — панель на панель, этаж на этаж — параллельно подкрановым путям. Так и появляются на свет похожие как две капли воды дома-пластины, столь же незамысловатые, как техническая идея их монтажа и технология их проектирования.
Конечно, с такой логикой выполнения плана трудно спорить. Но все же необходимо, если это логика вчерашнего дня.
Ведь если вдуматься, она не так уж сильно отличается от пресловутой «приписки». Квадратные метры жилой площади в безликих, однообразных районах, без уютных, благоустроенных придомовых пространств, без удобно расположенных учреждений обслуживания — это вовсе не те квадратные метры, которые записаны в строке государственного плана. Сегодня это — брак. Как телевизор с плохой настройкой. Как неисправный двигатель. Как плохо пошитый костюм.

С древних времен технология строительства во многом определяла возможности
архитектурного творчества. Основные схемы срубных построек в русском народном
зодчестве
Казалось бы, тут и поднять свой голос архитектору, градостроителю — ведь именно он поставлен в этом деле на службу интересам человека; защищать их — его профессиональная обязанность. Но здесь обнаруживается, что современный зодчий находится в зависимом положении от строителя — слишком многое определяет последний в судьбе проекта. И вот уже слышатся в архитектурной среде суждения, что жилье должно быть всего лишь рядовой, «фоновой» застройкой для отдельных уникальных сооружений. Но ведь фоновая — это и есть безликая, только, так сказать, узаконению безликая. Получается что-то вроде сговора: мы вам проектируем простенький фон для выполнения плана, а вы нам за это кое-где построите уникальные дома посложнее для прославления наших архитектурных талантов.
Только вряд ли такое может получиться — для потребителя, для жителя наших городов нет и не может быть никакой фоновой застройки. Есть только обязательное соответствие жилого дома, жилой среды сложному комплексу местных условий и вполне конкретных потребностей того или иного социального коллектива. А отсюда — своеобразие, индивидуальный, то есть самый что ни на есть уникальный, характер архитектуры. Это и есть сегодня главный социальный заказ для архитекторов и строителей.
Такова цель — создание полноценной, соразмерной человеку, рационально организованной и художественно выразительной жилой среды. Одно из основных средств достижения этой цели — проектно-строительный конвейер, основанный на системе индустриального домостроения и типового проектирования. Но никакое средство не может подменить собой цель, не имеет права стать самоцелью. И если оно в какой-то момент перестает справляться с задачей, не поспевает за уходящей вперед целью, оно подлежит перестройке, какой бы болезненной и трудной такая перестройка поначалу ни казалась.
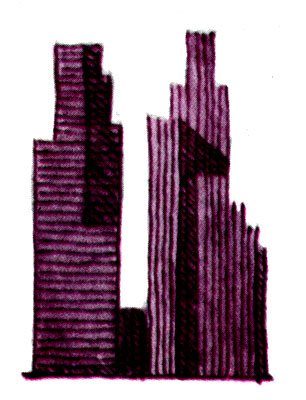
Индустриальное домостроение
Конечным пунктом совместной деятельности строителя и архитектора является не механическая совокупность объектов — квартир или домов, а городская среда как сложное, целостное единство. Качество конечного продукта определяется при этом не только уровнем технического исполнения проекта в натуре, за которое отвечают строители, но еще и целым комплексом социально-пространственных характеристик, которые составляют содержание проекта и закладываются в него архитектором.
Ощутимо повысить это качество невозможно, пока строительная технология будет развиваться сама по себе, недостаточно учитывать требования, которые предъявляет общество к тому виду продукции, который эта технология производит, в данном случае — к сооружениям и пространствам, составляющим городскую среду. Также невозможно было бы, например, развивать самолетостроение исходя главным образом из соображений высокой технологичности и эффективности работы авиационных заводов, а не из задач улучшения основных характеристик самолета.
К тому же широко распространенный в современной проектно-строительной практике односторонний диктат строителя нередко порождает у архитектора особый род безответственности по отношению к результатам своего труда, извращая самую суть творческой профессии зодчего — дескать, будь что будет, я хотел сделать хорошо, но мне не согласовали... В то же время возникает опасность дисквалификации и для строителя, как только сводится на нет воздействие одного из главных стимулов совершенствования его профессионального мастерства, каким является новаторский, прогрессивный проект: его всегда можно отклонить или по крайней мере «привести к общему знаменателю» в ходе обязательного «согласования».
Изменить этот установившийся порядок не просто — за ним стоят и определенные объективные факторы, и живые люди, и великая сила привычки. Однако, не изменив его, трудно двинуться вперед в решении главной проблемы — качества архитектуры массового строительства. Вот почему именно эти вопросы с особой остротой и настойчивостью пытаются решать сейчас советские архитекторы вместе со своими коллегами-строителями. Там, где удается найти совместные решения, успех налицо: микрорайоны Лаздинай в Вильнюсе и Кальнечяй-3 в Каунасе, «Восток» в Минске и Сосновая Поляна в Ленинграде, Олимпийские сооружения в Москве и центр парусной регаты в Таллине. Ведь строители и архитекторы вместе делают одно общее дело — не просто выполняют план, а строят на века. И то, что они строят, должно быть значительнее и краше любого дворца или собора — они строят социалистический город.
ЗАКАЗЧИК И ПОТРЕБИТЕЛЬ
Процесс проектирования и строительства не замыкается в кругу отношений строителя и архитектора. Есть еще один непременный и давний участник этого дела — заказчик. Так называют того, кто заказывает проект и оплачивает строительство. Сейчас мы уже привыкли, что в качестве заказчика, как правило, выступает государственная организация. Однако так было не всегда. В прежние времена, а в буржуазном обществе и сейчас, в качестве заказчика часто выступали частные лица. Пожелания, а нередко и вкус заказчика определяли в таком случае программу на проектирование сооружения. При этом взгляды заказчика во многом определяли и выбор архитектора для выполнения проекта, и общий характер проектного решения. Политическая и религиозная власть, богатеи нередко творили откровенный произвол в отношении архитекторов, и притом самых выдающихся. Так, Екатерина II грубо пресекла работу Баженова над проектированием Кремлевского дворца, а затем над строительством подмосковной усадьбы «Царицыно». Подобных примеров в истории архитектуры немало.
Находились среди архитекторов и такие, которые смело поднимали свой голос против произвола заказчика, не очень хорошо понимающего дело. На постройке собора святого Петра в Риме один из кардиналов в присутствии папы римского заметил руководившему стройкой Микеланджело, что собор темен. Микеланджело разъяснил, что проектом предусмотрены дополнительные окна, которые хорошо осветят внутренность собора. Кардинал возразил, что архитектор никогда ранее не говорил ему об этом. Старая хроника сохранила исполненный достоинства ответ мастера заказчику: «Я не обязан и не хочу быть обязанным рассказывать вашему преосвященству и кому бы то ни было про то, что должен и что хочу делать. Ваше дело следить за тем, чтобы были деньги, да охранять от воров, а планы работы предоставьте мне...» Известно, что Микеланджело не раз приходилось расплачиваться крушением своих творческих планов за независимость и принципиальность в отношениях с именитыми заказчиками. Далеко не всякий архитектор, даже самого крупного масштаба, был способен на такие поступки. Куда чаще дело кончалось компромиссом, всегда тягостным для настоящего художника.
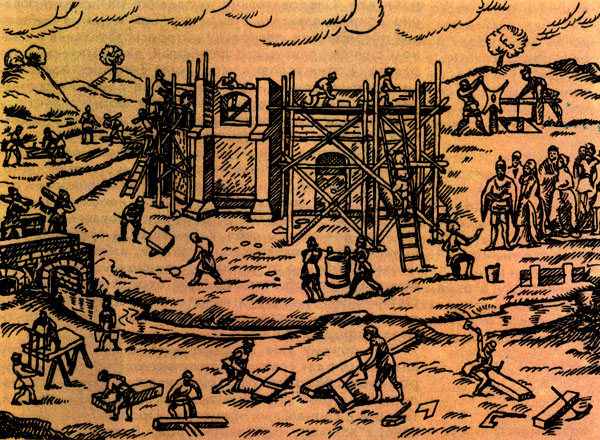
Средневековая гравюра запечатлела строительную площадку далекого прошлого
Однако при всех этих издержках вкусы частного заказчика со всей определенностью диктовали программу проектирования. По мере того как строительство начиная с XIX века стало принимать все более массовый характер, эта ситуация изменилась. Уже при строительстве многоэтажного жилого дома доходного типа, то есть для сдачи квартир внаем, заказчик строит дом не для себя, а для неизвестного пока анонимного потребителя. Следовательно, и задание на проектирование должно зависеть в значительной мере от интересов потребителя, поскольку интересы заказчика в данном случае носят чисто денежный, экономический характер. В этих условиях возникает ситуация, когда архитектор не только ищет наилучшие решения поставленной ему заказчиком задачи, но и формулирует эту задачу, во всяком случае, в той части, которая относится к запросам потребителя.
Теперь представим себе вместо отдельного доходного дома современный жилой район, и станет понятно, как значительно расширяется сфера деятельности и ответственность архитектора в связи с необходимостью составления программы на проектирование, то есть задания для самого себя. Разумеется, в пределах экономической и технической политики, избранной заказчиком. Особенно отчетливо это видно в условиях социалистического общества. Ведь в отсутствие частнособственнических, спекулятивных интересов застройщика мнение специалиста-архитектора становится, по сути дела, определяющим.
Вот почему уже в самые первые годы Советской власти молодая советская архитектура стала архитектурой социального заказа. Архитекторы впервые осознали себя не пассивными участниками, а инициаторами, творцами социальных процессов. Проектирование массового жилища, рабочих клубов, Дворцов культуры вышло за рамки собственно архитектурного творчества и превратилось в область широкого социального эксперимента. Были в этих экспериментах и свои заблуждения, ошибки (без такого не обходится ни один эксперимент), но в целом социальный пафос советского зодчества тех лет заметно повлиял на развитие мировой архитектуры.
Тенденции демократизации, массовости строительства, идущие из Советской России, вызвали к жизни проекты дешевого или «минимального» жилья на Западе, способствовали развитию хотя и ограниченных условиями буржуазного общества, но все-таки значительных по масштабам программ государственного (муниципального) и кооперативного строительства. Все это стимулировало разработку нормативной базы проектирования и строительства, регламентирующей основные параметры планировки зданий и правила застройки городских территорий.
В Советском Союзе разработан полный свод строительных норм и правил (сокращенно СНиП), который устанавливает технические условия, планировочные нормы и основные технико-экономические показатели для объектов строительства всех видов в городе и селе. В соответствии с этими обязательными для всех проектировщиков правилами регламентируются не только площади и размеры помещений различного функционального пользования, но и плотность населения, количество свободной незастроенной территории на одного человека, количество мест в детских садах, школах на тысячу человек населения и т. д. СНиП представляет собой, по сути дела, идеальную модель организации городской среды, гарантирующую каждому человеку одинаковые и в равной степени комфортные условия жизни.
На Западе прогрессивные архитекторы функционалистского направления сформулировали принципы современного градостроительства в уже упоминавшейся Афинской хартии. Это своего рода развернутый манифест, претендующий на роль общей теоретической платформы, программы демократизации современной архитектуры. Конечно, этот документ отражает скорее передовые устремления небольшой группы его составителей, чем реалии современного капиталистического общества. Однако он оказал несомненное воздействие на всю практику архитектуры и градостроительства послевоенного периода, вплоть до сегодняшних дней.
ОТ АБСТРАКЦИЙ К КОНКРЕТНОСТИ
И вот тут, когда архитекторы в самых разных странах получили наконец возможность строить, придерживаясь программ, разработанных ими самими и реализующих идеалы современного градостроительства, стали выясняться странные вещи. Например, что жестко запрограммированные по единому принципу сооружения и городские пространства при всех своих функциональных достоинствах вызывают у человека гнетущее чувство дискомфорта и потерянности. Рассчитанные на «среднего» человека пространственные стереотипы при всей своей «правильности» вызвали активное неприятие со стороны потребителя. Он не без оснований усмотрел в них попытку навязать ему жестко регламентированный распорядок жизни, тип социального поведения в дополнение к техническим стандартам индустриального строительства. Даже в условиях жилищного кризиса в капиталистических странах бунт против бездушной стандартизации жизни средствами архитектуры приобрел черты массового явления. Выполненные «по всем правилам» современной архитектуры жилые районы плохо заселялись, теряли население. В 1972 году в американском городе Сент-Луисе городские власти были вынуждены взорвать один из таких кварталов, построенных менее 20 лет тому назад. Покинутый людьми, пустующий район стал пристанищем преступности, социально опасным местом.

От абстракций к конкретности
Оказывается, издержки стандартизации проявляются в современной архитектуре не только в конструктивном или чисто пространственном плане. Стандартизация проникла и в сферу функциональной организации архитектурных пространств. Определяя программу проектирования, выступая в этом смысле заказчиком по отношению к собственному проекту, архитектор поневоле абстрагируется от всего многообразия запросов реального «потребителя». Ему гораздо сподручнее иметь дело с усредненным, условно нормативным, а следовательно, анонимным, обезличенным человеком. Но такого человека нет в природе, и выполненный в расчете на него проект приобретает черты воплощенной в жизнь абстрактной схемы. Не в этом ли одна из главных причин пресловутого однообразия многих новых районов? Может быть, дело не только в унификации деталей, но и в неоправданной унификации человеческих потребностей, положенной в основу архитектурного решения.
Для преодоления этого очевидного недостатка есть только один путь — архитектор должен хорошо «знать в лицо» конкретного потребителя своей продукции, изучать запросы населения, для которого он строит. Вот почему в последнее время получают широкое распространение различные методы участия населения в составлении и реализации градостроительных программ: широкая гласность, обсуждение проектов, деятельность депутатских комиссий, участие представителей общественности в принятии ответственных градостроительных решений, дискуссии в печати, наконец, добровольное участие населения в строительных работах, связанных с реставрацией памятников истории и культуры... Активность такого рода стала особенно заметной в последнее десятилетие. В этом характерная тенденция наших дней — поиски соответствия архитектуры конкретному месту и конкретному времени дополняются поисками соответствия конкретным потребностям человека. Современная архитектура словно проводит смотр наработанным за несколько десятилетий идеальным абстракциям. Подвергает их всесторонней, тщательной проверке на твердой почве конкретности, подгоняет эти «полуфабрикаты» под мерки реальной, непрерывно развивающейся действительности.
НАУКА АРХИТЕКТУРЫ
Для того чтобы с полным правом именоваться главным строителем, архитектор должен обладать большим запасом технических знаний, хорошо разбираться в технологии строительства. Для того чтобы ответить на разнообразные запросы потребителя, архитектор должен обладать чертами динамичного общественного деятеля, идущего на активные контакты с населением. В том и другом случае он должен уметь опереться на фундамент объективных знаний, получать и обрабатывать эти знания для целей проектирования. Здесь мы сталкиваемся с еще одной стороной многогранной профессии архитектора — его исследовательской деятельностью, архитектурной наукой.
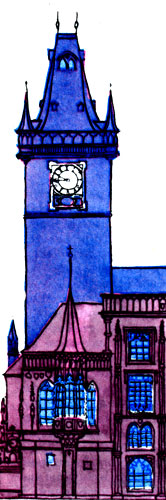
Прага. Староместская ратуша
В этом плане архитектура демонстрирует обширное и неравномерно освоенное поле научных исследований. С одной стороны, это смежные научные дисциплины инженерного профиля — теоретическая механика, статика сооружений, материаловедение, инженерное оборудование зданий, организация строительных работ, экономика строительства, строительная физика. Некоторые из этих дисциплин сформировались как разделы соответствующих фундаментальных наук — физики, механики и др. Некоторые — как обобщение практики строительства. Так или иначе все эти дисциплины ориентированы на отдельные аспекты строительной деятельности, которые находят отражение в соответствующих разделах проекта.
Другой блок составляют прикладные дисциплины типологического характера: архитектура жилища, зрелищных сооружений, промышленных зданий и т. п. Здесь происходят систематизация и накопление знаний, относящихся к проектированию и строительству различных типов сооружений, формирование научно обоснованных нормативов по каждому из таких типов.
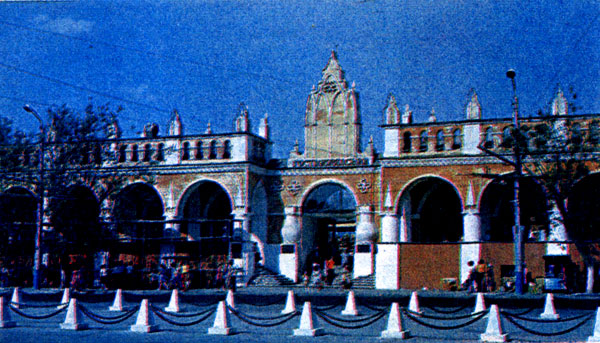
Торговые ряды в г. Калуге
Особое место занимает градостроительная наука, то есть наука о городе, и связанные с ней смежные дисциплины — социология города, география города, районная планировка и др. Эта область исследований особенно интересна в том отношении, что именно в ней формируются многие исходные положения, определяющие требования к архитектуре сооружений. Помимо этого, градостроительная наука является, пожалуй, наиболее динамичной областью исследовательских разработок, относящихся к архитектуре. Меняется сам объект изучения — город, трансформируются и теоретические представления о нем, основанные на новых методах исследований, в том числе и количественных.
Автоматизация архитектурного и градостроительного проектирования, использование для этих целей ЭВМ составляют отдельную и весьма специфическую область исследований. Сведение сложного, зависящего от многих факторов процесса проектирования к системе стандартных операций не только позволяет сэкономить усилия проектировщика за счет экономии затрат времени на разного рода рутинные, нетворческие процедуры. Не менее важно и то, что решение задач такого рода дает возможность глубже разобраться во внутренней структуре этого процесса, выявить принципиально важные этапы и механизмы формирования различных вариантов, их сравнения, принятия решений и т. п. Исследования в этой области направлены также на совершенствование технических средств архитектурного проектирования — использование графопостроителей, дисплеев для составления архитектурно-строительных чертежей.
Сохраняют свое значение и более традиционные дисциплины обобщающего характера — история и теория архитектуры. История развивается в основном в плане описательных архитектуроведческих исследований с акцентом на эстетическую проблематику. Теория концентрирует в себе фундаментальные основы профессиональных знаний. Обобщающие модели архитектурной теории тесно связаны с эволюцией самой архитектурной практики, с творчеством ее наиболее видных мастеров. Именно в этой сфере происходит целенаправленный поиск нового и постоянное переосмысление пространственных концепций прошлого.
Развитие архитектурной науки идет в последние годы ускоренными темпами. Все большее количество специалистов-архитекторов посвящают себя исследовательской деятельности. Все шире круг ученых смежных научных дисциплин, которые привлекаются к решению архитектурных проблем. Дело, однако, не только в расширении фронта научных исследований и развитии научных контактов, но и в том, что они глубоко проникают в структуру профессии. Методы научного характера, научная аргументация широко используются в практике разработки и обоснования архитектурных проектов. Сами проекты становятся под влиянием этого более последовательными, внутренне завершенными, концептуальными, то есть приверженными определенной системе архитектурных идей.
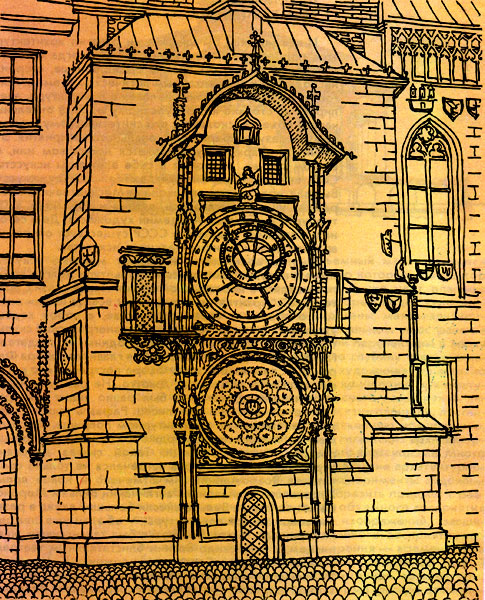
Прага. Староместские куранты
Таким образом, точный расчет, научное обоснование, вошедшее в архитектуру вместе с прогрессивными конструкциями, новыми инженерными решениями, постепенно распространяют свое влияние на всю сферу деятельности архитектора, пронизывают все его профессиональное сознание.
ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ХУДОЖНИКА
И все же, как бы широко ни охватил архитектуру этот процесс рационализации, в ней всегда остаются некоторые, и притом весьма существенные, стороны, несводимые к элементарным логическим схемам. Многое из того, чем дорожит человек в архитектуре, апеллирует не столько к скрупулезному анализу отдельных частей объекта, сколько к его синтетическому, целостному образу, к сфере эмоционального восприятия. Это значит, что архитектура является искусством или, во всяком случае, содержит в себе элементы искусства. Собственно говоря, она всегда стояла в ряду искусств. Высшая архитектурная школа в Москве начиналась в рамках училища живописи, ваяния и зодчества, в Петербурге — в стенах Академии художеств. Да и сегодня в Академии художеств СССР существует отделение архитектуры и монументального искусства.
Иногда архитектуру называют матерью искусств, имея в виду, что живопись и скульптура долгое время развивались в неразрывной органической связи с архитектурой. Архитектор и художник всегда имели очень много общего в своем творчестве, а порой хорошо уживались в одном человеке. Древнегреческий скульптор Фидий по праву считается одним из создателей Парфенона. Изящная колокольня главного собора Флоренции Санта Мария дель Фьоре построена «по рисунку» великого живописца Джотто. Не раз упоминался Микеланджело, который был равно велик как архитектор, скульптор и живописец. Рафаэль также с успехом действовал на архитектурном поприще. Их современник живописец Джорджо Вазари во Флоренции построил улицу Уффици. Такой синтез дарования художника и архитектора встречался не только среди титанов Возрождения, им отмечено и новое время. Художники-прикладники англичанин Вильям Моррис и бельгиец Ван де Вельде внесли большой вклад в развитие современной архитектуры — об этом уже шла речь на страницах книги. Корбюзье был талантливым живописцем, а Александр Веснин блистательным театральным художником. Советские, художники К. Малевич и Л. Лисицкий интересно экспериментировали с архитектурной формой, а их коллега и современник Владимир Татлин стал автором легендарного проекта Башни III Интернационала. Автор знаменитого проекта Дворца Советов архитектор Б. Иофан по праву считается соавтором скульптуры «Рабочий и колхозница» вместе с замечательной советской художницей Верой Мухиной.
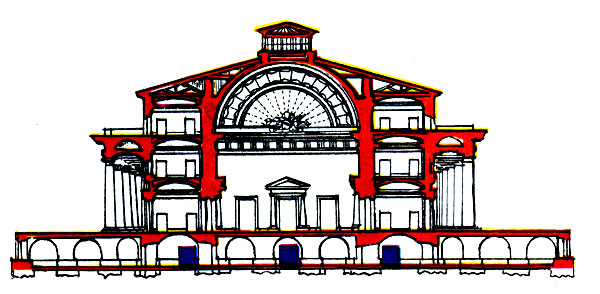
Здание биржи — запоминающийся архитектурный монумент Петербурга. Схема разреза
И это неудивительно. Тысячью нитей связаны между собой изобразительное искусство и архитектура. Графическое изображение и объемный макет являются главными средствами, с помощью которых архитектор ищет и отстаивает свои решения. Линия, цвет, пластика объемной формы — поиски, которые ведет художник в иллюзорном пространстве картины, материализуются, обретают живую плоть в реальном пространстве архитектуры. Открытие линейной перспективы в эпоху Возрождения не только придало глубину третьего измерения живописному полотну художника, но активно повлияло на пространственную концепцию архитектуры этого времени. В конечном счете осмысление линейной перспективы привело к увязке площади, лестницы, здания в единую пространственную композицию, а вслед за тем к возникновению гигантских архитектурных ансамблей барокко и высокого классицизма. Много лет спустя большое влияние на развитие архитектурного формотворчества оказали эксперименты художников-кубистов. Они пытались изобразить предмет с разных точек зрения, добиться его объемного восприятия путем наложения нескольких изображений, расширить возможности пространственного восприятия путем введения четвертого измерения — времени. Эта объемность восприятия послужила отправной точкой для формальных поисков современной архитектуры, противопоставившей плоской ширме фасада замысловатую игру свободно расположенных в пространстве объемов и плоскостей.

Здания сами являются живописью и скульптурой
Но художник и архитектор взаимодействуют не только на уровне осмысления общей концепции пространства, но и самым что ни на есть практическим образом. Монументальная скульптура и живопись занимают свое и подчас весьма значительное место в формировании архитектурных ансамблей. Например, в мемориальном комплексе «Саласпилс» в Латвии или в гигантской по масштабам композиции Мамаева кургана в Волгограде.
Скульптура и живопись не сразу обрели независимость от архитектуры. Сначала они были всего лишь элементами архитектурного сооружения. Понадобилось не одно столетие, чтобы живопись отделилась от стены или иконостаса. В конце эпохи Возрождения на площади Синьории во Флоренции скульптуры все еще робко толпятся возле зданий, словно боясь окончательно порвать с фасадами. Микеланджело первым (сколько раз он был им!) ставит конную статую в центре площади Капитолия в Риме. Идет 1546 год. С той поры памятник, монументальная скульптура обретает права самостоятельного элемента композиции, организующего городское пространство. Правда, скульптурная форма некоторое время еще продолжает жить на стенах архитектурного сооружения, но постепенно с них исчезают и эти последние следы «былой роскоши». Архитектор приглашает художника лишь для того, чтобы расставить последние акценты в создаваемой им пространственной композиции.

Живописность архитектурного пространства
Эту композицию современной архитектуры со свойственной ему определенностью утверждает Корбюзье: «Я не признаю ни скульптуру, ни живопись как украшение. Я допускаю, что и то и другое может вызвать у зрителя глубокие эмоции подобно тому, как действуют на вас музыка и театр, — все зависит от качества произведения, но я определенно против украшения. С другой стороны, рассматривая архитектурное произведение и главным образом площадку, на которой оно воздвигнуто, видишь, что некоторые места самого здания и вокруг него являются определенными интенсивными математическими местами, которые оказываются как бы ключом к пропорциям произведения и его окружения. Это места наивысшей интенсивности, и именно в этих местах может осуществляться определенная цель архитектора — то ли в виде бассейна, то ли глыбы камня, то ли статуи. Можно сказать, что в этом месте соединены все условия, чтобы была произнесена речь, речь художника, пластическая речь».

Здания являются скульптурами
«...ЗДАНИЯ САМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЖИВОПИСЬЮ И СКУЛЬПТУРОЙ...»
Однако этим не исчерпывается роль художника в организации современного архитектурного пространства. Обособляя монументальное искусство в среде города, архитектор как бы подготовляет почву для глубокого художественного переосмысления пластических форм самой архитектуры. Освобожденная от изобразительного сюжета традиционного синтеза искусств, архитектура растворяет в себе свободную игру линий, цвета, объема. Пластической речью художника становится не избранная кульминационная точка пространства, а все это пространство в целом. «Скульпторы и живописцы спрашивают меня: «Какое место отведено скульптуре и живописи в ваших зданиях?» Я отвечаю: «Мои здания сами являются живописью и скульптурой...» Поднять здание до больших высот в его собственной сфере господства — вот настоящее место живописи и скульптуры, если их архитектуру правильно понимать». Эти слова Фрэнка Ллойда Райта указывают наиболее плодотворный путь для сотрудничества художника и архитектора в наше время.

Творчество архитектора и художника во все времена шли рука об руку. Символом
такого содружества стала скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница»,
венчавшая павильон СССР на Всемирной выставке в Париже (архитектор Б. Иофан)
Сегодня архитектура находится под систематическим и всесторонним давлением факторов технологии. Она рискует утратить свои позиции в сфере эмоционального воздействия пространственной формы на человека. И здесь роль изобразительного искусства может оказаться чрезвычайно важной, если не решающей. Выросшие в одной колыбели с архитектурой живопись и скульптура должны вернуться к ней в новом качестве, растворить себя в ее линиях, плоскостях, объемах и обрести целостность произведения искусства в ее единой пластической форме. Культура художественного осмысления пространственной формы должна вернуться в архитектуру не только в виде встроенных в нее, но совершенно автономных по своей сути объектов синтеза искусства. Она должна прийти изнутри, посредством художественного осмысления всей пространственно-пластической концепции сооружения. Красота не может уместиться в специально отведенных для нее местах на фасаде здания или возле него — она должна быть «прописана» в каждой клеточке сооружения, в каждом атоме единого архитектурного пространства.
Безусловно, такая трактовка синтеза искусств открывает новые горизонты для плодотворного сотрудничества архитектора и художника. И уже есть определенные признаки того, что такое сотрудничество налаживается. Любопытные опыты имеются в отношении более активного включения в архитектуру цвета — использование окраски маскировочного типа, трансформирующей механистические, жестко обусловленные технологией формы сооружения, прямое включение в архитектуру изобразительных и орнаментальных сюжетов, создающих пространственные иллюзии наподобие сценических эффектов. Дерево или небо, нарисованные на стене дома, символически восполняют их нехватку в реальном пространстве архитектурного окружения. Подобные методы включения цвета в архитектуру объединены общим названием «суперграфика». Конечно, они весьма специфичны, и пользоваться ими следует с большой осторожностью. Однако прием необычен и таит в себе немалые возможности.
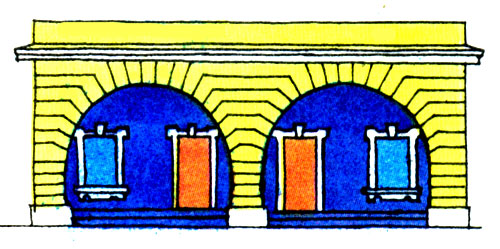
Культура художественного осмысления пространственной формы должна вернуться в
архитектуру не только в виде встроенных в нее, но совершенно автономных по
своей сути объектов синтеза искусства
«Суперграфика», так же как и «суперскульптура» — представим себе подобный подход в отношении фактурной и пластической обработки форм, — требуют не только доброй воли архитектора и художника, но и высокой художественной культуры их сотрудничества, заставляющей вспомнить о временах Возрождения. Это относится не только к архитектору, который должен вспомнить о художественной обусловленности своего творчества. Но и к художнику, который должен быть готов к тому, чтобы расширить свои лабораторные, часто весьма камерные поиски до масштабов реального трехмерного пространства. Хочется верить в то, что архитектура и изобразительное искусство находятся в начале очередного этапа того синтеза пространственной формы, который не прекращается ни на минуту с момента их возникновения и составляет их общий, нераздельный вклад в художественную культуру человечества.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ
Строитель, общественный деятель, ученый и художник — разные специальности, разные методы деятельности, разные взгляды на жизнь. И все это должно уместиться в одном человеке — архитекторе. Неудивительно, что он находится в состоянии постоянного конфликта с самим собой. Строитель спорит с художником, художник опровергает ученого, общественный деятель предъявляет новые требования к строителю. Внутреннее напряжение этого конфликта определяет конструктивную диалектику и созидательный дух архитектурного мышления.
Профессия архитектора активно сопротивляется, более того, в принципе не поддается всепроникающей специализации, охватившей почти все сферы человеческой деятельности в XX веке. Сочетание гуманитарного и технического начал, строгой логики рациональных обоснований и интуитивной догадки, почти элитарной замкнутости в узком кругу специалистов и активного практического вмешательства в жизнь — все это придает творчеству архитектора особое, почти символическое значение в общей картине человеческой деятельности. Создает обобщенный образ архитектора как человека высокой культуры и разносторонних способностей.

Будущее профессии архитектора
Будущее профессии архитектора связано с универсальным, синтетическим характером его творчества, да и самой его личности. Говорят, что особенно плодотворно развиваются те виды деятельности, которые находятся на стыке различных дисциплин, различных подходов. Архитектура с самого своего рождения действует на таком стыке. Вне его теряет смысл сама профессия архитектора — художника инженерии и инженера искусства. Может быть, не всякий архитектор в состоянии оказаться на высоте этих непомерно высоких требований. Но они составляют суть, сокровенный смысл его профессии. Именно так всегда и понимали профессию архитектора лучшие из ее представителей.
Вальтер Гропиус: «Совершенная архитектура должна быть воплощением самой жизни, что подразумевает проникновенное знание биологических, социальных, технических и художественных проблем. Наш век породил миллионы специалистов; давайте создадим людей, видящих жизнь в целом».
Виктор Веснин: «Весь путь развития зодчества — от хижины до небоскреба — характеризуется одной специфической чертой: синтетическим объединением в архитектуре искусства, науки и техники».
Но трудно сказать об этом лучше, чем сказал Леон Баттиста Альберти, архитектор, творивший в эпоху Возрождения: «Архитектором, утверждаю я, является тот, кто научился правильным и удивительным образом определять в мыслях и в душе, а также осуществлять на деле все, что при помощи движения тяжестей, сочетания и сложения тел превосходнейшим образом служит наиболее важным потребностям людей. И для того, чтобы этого достичь, он нуждается в постижении и познании вещей наилучших и достойнейших. Вот каким должен быть архитектор».
Каждому современному архитектору стоит вчитаться в эти давно сказанные слова. Заглянуть в них, как в зеркало. Чтобы увидеть самого себя и привести себя в порядок. Чтобы достойно нести в жизнь высокое предназначение своей профессии.
Главная мысль
Профессия архитектора имеет сложный, синтетический характер и развивается на стыке техники, науки и искусства.
Работа архитектора самым непосредственным образом связана также с общественной деятельностью.
Человек высокой культуры и разносторонних способностей, архитектор занимает особое место в современном мире, где непрерывно множится число узких специалистов. В этом заключен глубокий символический смысл неумирающей традиции зодчества в общей культуре человечества.
ГЛАВА 9. КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
Как заглянуть в будущее.
Здание теряет свой фасад.
Мир программируемых перемен.
Архитектура на колесах.
В каждом человеке дремлет архитектор.
Гони природу в дверь — она войдет в окно.
Великая эстафета.
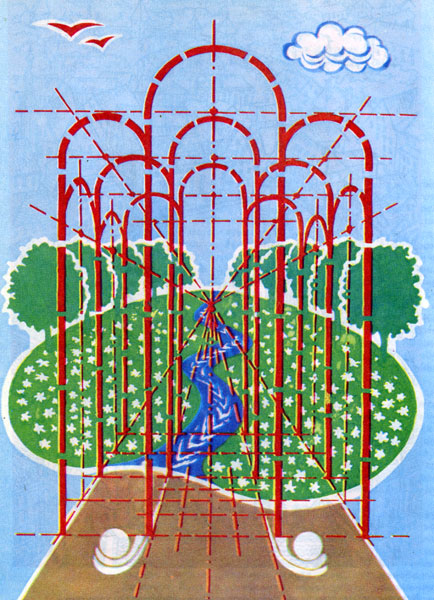
Контуры будущего
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ПРОТИВНОГО
По ходу книги мы уже неоднократно обращались к проблемам будущего. Когда рассматриваешь сложную линию исторического развития той или иной особенности современного архитектурного творчества, возникает естественное желание продлить ее в будущее. Однако это надлежит делать с особой осторожностью — будущее надежно прячет свой переменчивый лик от назойливых догадок настоящего. В конце прошлого века российские инженеры обсуждали перспективы строительства метрополитена в Москве. Сохранилась перспектива с изображением эстакады, из конца в конец пересекающей Красную площадь. Как не похож образ грохочущей подземки на сосредоточенное спокойствие сегодняшней пешеходной площади! Какой простой и какой убедительный ответ приберегло будущее беспокойному, суетливому видению прошлого!

Будущее архитектуры не мыслится сегодня вне ее исторического прошлого. Ратушная
площадь в Таллине — пример органического включения старой архитектуры в современную
жизнь
Увы, даже самые смелые образы завтрашнего дня обречены на недолгую жизнь в настоящем — слишком быстро становятся они достоянием прошлого. И все же всякий раз невозможно удержаться от соблазна заглянуть в будущее. Ведь представление о будущем лучше, чем что-либо иное, характеризует тип мышления и установки настоящего. А потому в конце книги об архитектуре уместна попытка сформировать пусть расплывчатый, но обобщающий образ архитектуры будущего.
Едва ли стоит пытаться воссоздать желаемое будущее во всей его конкретности. Лучше воспользоваться методом, напоминающим доказательство от противного, — оттолкнуться от критического осмысления сегодняшней, современной нам архитектуры, понять ее наиболее слабые, уязвимые места — то, что неизбежно должно быть подвергнуто некоторому изменению, трансформации. Например, все, что относится к чрезмерно жестким, негибким принципам унификации и стандартизации в системе индустриального строительного производства. История учит нас, что подлинная, высокая архитектура есть не что иное, как совершенное владение материалом, конструкцией.
Античный храм, готический собор являют собой архитектурные шедевры, созданные на языке камня, — стоечно-балочной и сводчатой конструкции. Современная архитектура — это ясно видно — еще очень далека от такой степени свободы и самовыражения в освоении индустриальных полносборных конструкций из железобетона— того материала, который она применяет буквально на каждом шагу. Попытки художественно осмыслить повторяющиеся элементы и типовые «блоки» этой конструкции выглядят пока неубедительными и неуклюжими. Система унификации деталей чаще всего заявляет о себе с назойливой, вынужденной декларативностью самоцели и не выглядит естественной модульной основой, нейтральным средством для достижения главной цели — рациональной и художественно осмысленной организации пространства.
Так и кажется, что железобетонная панель наделена чертами самонадеянной ограниченности, которые она постоянно выставляет напоказ, требуя незаслуженного, насильственного признания своей ничем не обусловленной значительности. Какой контраст с каменными блоками или кирпичом, которые скромно растворяются в архитектурном объеме сооружения. Им нет нужды крикливо заявлять во всеуслышание о собственной роли в структуре сооружения — эта роль наглядно проявляется в том диапазоне возможностей, в той гибкости и податливости, с которой они предоставляют себя в распоряжение архитектора для свободной, ничем не скованной лепки пространственной формы.

Архитектуре предстоит осваивать не только поверхность земли, но и просторы
океана
Использование железобетона в большепролетных конструкциях демонстрирует огромный диапазон уникальных возможностей, которые архитектура пока применяет лишь в исключительных случаях и не в состоянии использовать в массовом порядке. Это наиболее наглядно подчеркивает примитивизм тех методов работы с материалом, которые практикует современная архитектура на главном направлении своего развития. Качественно новый уровень освоения материала должен привести к серьезным переменам в объемно-пространственной организации и внешнем облике архитектурного сооружения.
Итак, ее величество панель должна быть побеждена. Трудно гадать, какой именно принцип унификации строительных изделий, какие конструкционные материалы и в каких сочетаниях придут ей на смену. Однако такая смена неотвратима, и уже в недалеком будущем индустриальные конструкции должны занять причитающееся им место универсального, гибкого средства в общей системе архитектурного творчества.
ЗДАНИЕ ТЕРЯЕТ ФАСАД
Одна из главных черт нового, которая все более ощутимо проявляет себя, - переход от архитектуры сооружения к пространственной архитектуре. Здание перестает быть отдельно стоящим монументом и становится более или менее обособленной частью единого архитектурного пространства. Оно обволакивает и одновременно пронизывает отдельные сооружения, растворяя их в себе. Эта пространственная экспансия архитектуры находит отражение в самых разных аспектах творческой практики современного архитектора. Об этом уже говорилось в предыдущих главах книги. Теперь время суммировать и осмыслить сказанное как единую, всепроникающую тенденцию.
Внутреннее пространство здания все больше теряет свою жесткую отграниченность от внешнего пространственного окружения. Стена становится проницаемой преградой, расслаивается на отдельные элементы или, во всяком случае, стремится это изобразить. Усложняется конфигурация здания, которое свободно развивается в пространстве и не сковано больше обязательной симметрией, правильностью геометрических форм дома-коробки. Здание захватывает пространство, включает его в свою структуру в виде внутренних дворов, улиц, площадей. Архитектурное сооружение по степени сложности внутренней организации становится своего рода городом. Оно формирует специфический тип пространственной среды.
Здесь и заключена, по-видимому, главная особенность архитектуры будущего. В соответствии с классической, традиционной концепцией сооружения здание должно быть открыто для обозрения со всех сторон. Леонардо да Винчи так и говорил, что архитектурное сооружение не должно примыкать ни одной своей стороной к другим сооружениям. Именно на такую постановку был рассчитан периптер античного храма. Это то общее, что имеют между собой при всех своих различиях Парфенон и скромный типовой кинотеатр в новом жилом районе. И тот и другой имеют островное расположение и предполагают круговой обход. И главным для них является восприятие снаружи - фасад доминирует над интерьером.

Здание теряет фасад
Совсем иное дело - пространственная архитектура, архитектура среды. Фрагмент города нельзя воспринять снаружи - разве что со специальной видовой точки, издалека, силуэтно. Улица или площадь не имеют фасада. Они воспринимаются интерьерно, изнутри. Это, разумеется, не означает, что архитектура улицы или площади не в состоянии оказать эмоционально-художественного воздействия, равнозначного воздействию уникального здания-скульптуры. Как раз наоборот. Однако это воздействие связано не с восприятием фасадной картинки, а в первую очередь с восприятием характеристик самого пространства. Большое - малое, просторное - затесненное, протяженное - компактное, замкнутое - проницаемое и т. д.- в этом диапазоне определяется специфика каждого конкретного участка среды.
По-видимому, именно этот пространственный, целостно-средовой характер исторически сложившейся городской среды осмысляется современной архитектурой как главная ее ценность. В противоположность утратившему непрерывность, чаще всего аморфному, невнятному пространству новых районов, которое образуется расстановкой большого числа отдельно стоящих домов. Отсюда и столь характерный интерес к реконструкции. Отсюда и ее направленность прежде всего на всемерную поддержку структурных характеристик старого города и лишь потом - на реставрацию и сохранение отдельных, наиболее ценных зданий. Главное - не разрушить и поддержать характеристики пространственных стереотипов улицы, площади, квартала; восстановить монолитность, неразрывность архитектурного массива застройки целого фрагмента города. А то и сделать его еще более слитным, целостным путем создания дополнительных пешеходных путей, переходов, галерей, устройства пассажей и т. д. То есть всего того, что придает совокупности отдельных зданий свойства единой структуры. Отталкиваясь от стихийно сложившейся структуры городской застройки, архитектор в процессе реконструкции стремится придать ей качество искусственно организованной пространственной среды. И конечно, «фасад» такого нового сооружения строится по типу «монтажа» отдельных элементов, воспринимаемых не единовременно, с одной точки, а как целая система пространственных образов, сменяющих друг друга во времени. Вот что здесь знаменательно: город превращается в здание.
Но и здание, как мы уже заметили, превращается в город. Символом этого грядущего превращения становятся многоярусные пространственные структуры - главный мотив тех видений будущего, которые время от времени будоражат архитекторов. В процессе реконструкции городских центров нарушенная целостность архитектурной среды восстанавливается (или даже усиливается) за счет развития и внесения в структуру застройки пространственных коммуникаций. Обособление, вынесение изнутри здания его внутренних коммуникаций является главным архитектурным средством формирования здания-структуры. Получается парадоксально: чтобы превратить город в здание, мы вносим в него коммуникации, а чтобы превратить здание в город, мы, наоборот, выносим его коммуникации наружу.
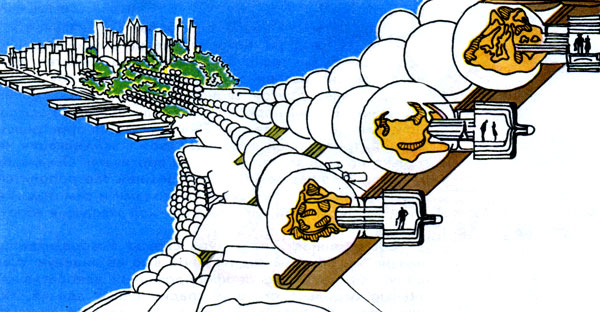
Каким будет облик города будущего? Одно из предложений - надувные стандартные
ячейки по типу космических капсул
И пускай пока не так много примеров реализации пространственной архитектуры. Зато есть много фактов, свидетельствующих о том, что время ее не за горами. Подземные сооружения дают вполне наглядный, практический пример средового подхода и пространственной, бесфасадной архитектуры. То же самое относится к уже упоминавшимся случаям включения больших открытых пространств в здания так называемого «атриумного» типа. Все чаще транспортные и инженерные коммуникации получают в архитектуре структурное истолкование, становятся объектом не только конструирования, но и художественного творчества.
Городская застройка с древнейших времен представляла собой род пространственной структуры. Точнее сказать пространственно-планировочной, потому что в целом она развивалась только в двух измерениях — на поверхности земли. Важно и другое обстоятельство: структура такого типа, как правило, складывалась в процессе долговременного, а часто и просто стихийного развития города. Эпоха барокко принесла с собой идею градостроительного ансамбля, то есть фактически структуры нового типа, целенаправленно формируемой около главных планировочных осей. Однако и эта структура оставалась, по сути своей, двумерной, плоскостной. Освоение пространства по вертикали по-прежнему было несопоставимо с его развитием по горизонтали. Главные качества такой структуры определялись планировкой территории.
И вот теперь — новое, еще более радикальное изменение. Структура, которая уже на стадии барокко перестала быть стихийной и перешла в качество единого, целенаправленно формируемого сооружения, преодолевает другое свойственное ей от рождения ограничение. Она перестает быть плоскостной, послушно стелющейся по земле. Она становится пространственной, трехмерной. Развивает свои коммуникации не только по горизонтали, но и по вертикали. Осваивает пространство над землей и под землей. Метрополитен и высотный дом становятся символами и симптомами этой неудержимой пространственной экспансии сооружения.
Современная архитектура словно выворачивается наизнанку. Еще мы видим почти всю ее лицевую сторону, образованную перфорированной декоративной тканью отдельно стоящих традиционных зданий. Но уже кое-где показалась наружу монолитная прочная ткань «подстилающей» ее архитектурной среды. Ее становится все больше и больше. И вот уже нам начинает казаться, что эта выходящая наружу подкладка может быть более красивой и прочной, чем исчезающая на глазах разряженная лицевая сторона.
Итак, пространственная архитектура. Архитектура без фасадов. Архитектура среды. Мы уже двинулись к ней, пробуем в ней свои силы. Какой ей быть — решит будущее.
МИР ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПЕРЕМЕН
Архитектура всегда была воплощением устойчивости. Она сохраняла себя во времени и прочно стояла на земле. Долгая история архитектуры демонстрирует ее служение двум началам — монументальности и вечности. Они тесно связаны между собой. Монументальность — устойчивость в пространстве. Вечность — устойчивость во времени.
Современная архитектура, пожалуй, впервые за всю многовековую историю зодчества, двинулась в направлении пересмотра этих традиционных установок. Современные конструкции все больше толкают ее к нейтральным структурам, не имеющим верха и низа, позволяющим архитектуре «отрываться от земли» и висеть в пространстве. Оказывается ненужной тектоника. Не только в традиционной форме (пирамида, облегчение архитектурных масс кверху), но и в любой самой парадоксальной трактовке (перевернутая пирамида, здание на опорах и т. д.). Отвергается все, что так или иначе апеллирует к чувству тяжести. Архитектура как бы стесняется того, что ей все еще приходится стоять на земле. Можно сказать, что она в некотором роде приобретает космический характер. Нейтральная метрика современного архитектурного пространства подчеркнуто демонстрирует равноправие всех составляющих его элементов, всех направлений передвижения внутри освоенного объема.

А так представляли себе современный город в начале нашего века. Не правда ли,
эта мечта похожа на сегодняшнюю действительность не больше, чем изображенный на
картине аэроплан на современный авиалайнер?
Конечно, идеальная структура такого типа еще не создана, но такой принцип построения архитектурного пространства, по существу, уже стал доминирующим. Многочисленные карикатуры на тему о том, что современный жилой дом можно нарезать на кусочки, как колбасу, класть на бок или переворачивать вверх ногами, в юмористической форме подтверждают, что он является частью структуры, еще не успевшей реализовать себя как единое целое. И действительно, в этой структуре нет верха и низа, поскольку конструкции первого этажа ничем не отличаются от конструкций шестнадцатого. Современный панельный дом не имеет карниза или даже его подобия не потому, что такой карниз нельзя выполнить в панельной конструкции, а потому, что он никак не обусловлен логикой стереотипной пространственной организации дома.
Современная архитектура все реже напоминает законченное, завершенное в себе целое и все чаще — фрагмент некой структуры, развивающейся вовне, далеко за пределы какого-либо отдельного объекта. Кажется, что здание можно надстроить, продлить, соединить со следующим и т. п. В некоторых случаях такое пространственное развитие здания становится не только символической, изобразительной идеей, но и реальностью строительного процесса. Промышленные цехи, университетские городки, больницы, другие объекты с павильонной структурой демонстрируют примеры такого рода. Лишенное каких-либо предпочтений, точек отсчета по вертикали и горизонтали, нейтральное пространство архитектуры будущего допускает практически неограниченную свободу трансформации внешних габаритов сооружения.
В некоторое противоречие с этой тенденцией вступают ретроспективные устремления, которые вполне определенно заявляют о себе в современной архитектуре. Интерес к архитектурным образам и стилистике прошлого не только отличает новомодные искания западных постмодернистов, но по-своему проявляется и в работах советских архитекторов. Однако это противоречие лишь кажущееся. Примеряя на себя одежды прошлого, современная архитектура не столько идет по пути действительной преемственности, сколько демонстрирует неограниченный диапазон своей гибкости, полную свободу в трактовке внешней формы, которая становится не более чем одним из способов художественной обработки нейтральной пространственной структуры. Да, архитектура снова пробует колонну. Но не потому, что колонна наилучшим образом выражает внутреннюю логику современной архитектуры. А потому, что эта логика допускает в числе прочего и колонну. Не «да здравствует колонна!», а «почему бы не колонна?». Символы тектонической архитектуры прошлого всего-навсего рекламируют возможности пространственной архитектуры будущего.

Так представлял себе город будущего Огюст Перре — один из пионеров архитектуры
железобетона (1922 г.)
Трансформируются не только габариты сооружения и не только его фасады, но и внутренняя планировка, то есть сам характер его функционального использования. Еще Мис ван дер Роэ отработал прием универсального пространства, допускающего широкий диапазон внутренних трансформаций в зависимости от типа функционального использования. Можно быть уверенным, что архитектура будущего пойдет по этому пути значительно дальше. Успешное приспособление старых зданий для новых функций свидетельствует о том, что даже жестко, однозначно запроектированное для вполне определенных целей пространство классической архитектуры обладает большими резервами адаптации. Что же тогда говорить о пространстве, специально приспособленном для изменений.
Условием гибкой трансформации архитектуры, ее эффективного приспособления к различным функциональным процессам является универсальная, четко фиксированная система коммуникаций, определяющих всю пространственную структуру сооружения. И снова аналогия с городом. Здание, подобно городу, обретает свою систему транспортных и инженерных коммуникаций. Такая система фактически существует уже давно, но долгое время она оставалась невыявленной, упрятанной в стенах и перекрытиях здания. Сегодня эти подсобные, еще недавно второстепенные элементы сооружения обретают собственное структурное качество, более того, становятся структуроформирующими. Становятся объектом художественного осмысления в творчестве архитектора точно так же, как некогда им стала несущая конструкция.
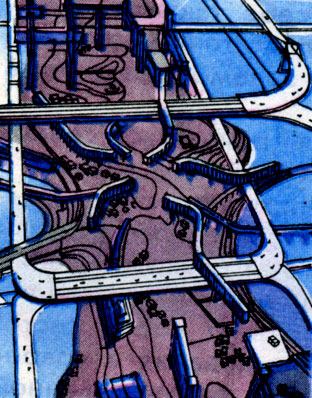
Проект развития Токио на акватории залива. Архитектор К. Танге
Одним из первых вступил на этот путь американский архитектор Луис Кан. В 1957—1961 годах он построил лабораторный корпус Пенсильванского университета в Филадельфии, придав своей постройке форму куста монументальных глухих башен, соединенных прозрачными стеклянными встройками. Вертикальные шахты инженерного оборудования — это и были глухие башни-трубы — определили главный мотив романтической, необычной архитектуры этого сооружения. Чуть позже, в первой половине шестидесятых годов, тема архитектурно-художественного осмысления коммуникаций в полный голос была заявлена в проектах английской архитектурной группы «Аркигрэм». Сверхсовременные системы инженерного оборудования зданий были остроумно использованы в фантастических проектах молодых англичан в качестве главного средства художественного осмысления пространства. Они спроектировали целый город, состоящий из автономных ячеек-пространств, рассчитанных на подключение к единой инфраструктуре, обеспечивающей каждого всеми видами коммуникаций. Так и назвали его — город подключения, город-розетка. Английский архитектурный критик Райнер Бэнем писал в это время: «Если ваш дом содержит такой набор труб, вытяжных каналов, электропроводки, осветительных приборов, входных и выходных отверстий, отопительных устройств, мусоропроводов, антенн, холодильников, нагревателей, если он содержит в себе такую систему обслуживания, что ее устройства достаточно солидны, чтобы стоять без помощи дома, то зачем же сохранять дом?»
Фантазии такого рода могли бы показаться совершенно беспочвенными. Однако всякий, кто знаком с проектированием и эксплуатацией крупного современного здания наподобие Московского университета или Дворца съездов, хорошо знает, что это не так. Здание Центра искусств имени Ж. Помпиду в Париже наглядно продемонстрировало, что представляет собой система инженерно-транспортного оборудования в современном доме и какие возможности художественной интерпретации в архитектуре здания она в себе несет. Сложная система труб, воздуховодов, лифтов, эскалаторов, как уже упоминалось, не только откровенно вынесена на фасад этого необычного сооружения, но получает ярко выраженную образную трактовку, символизирует поиски нового художественного языка современной архитектуры. И не только символизирует, но уже демонстрирует его возможности. Еще одна тропинка отсюда, из настоящего, уводит в будущее. Как далеко по ней удастся уйти?
Итак, трансформирующаяся, внутренне динамичная архитектура, сооружение, меняющее свои размеры и открытое для роста во всех направлениях. Меняющее внешний облик и внутреннюю начинку. И тем не менее, даже тем более — сохраняющее жесткий, стереотипный каркас пространственной конструкции, устойчивую систему внутренних коммуникаций и сетей инженерно-технического оборудования. В пульсирующем мире непрерывно меняющейся архитектуры будущего обязательно должно быть нечто неизменное, жестко фиксированное, что позволило бы отличить динамическую организацию от банального беспорядка. Эта устойчивая, относительно неизменяемая основа — сама конструкция жизнеобеспечения и функционирования универсального пространства, система инженерно-технических коммуникаций, охватывающих это пространство и делающих его пригодным для динамичной деятельности человека. Именно здесь должны быть сконцентрированы наибольшие усилия, здесь решаются ключевые вопросы создания гибких, трансформируемых пространственных структур. Здесь главное направление прорыва современной архитектуры в будущее.
АРХИТЕКТУРА ДВИЖЕНИЯ
Трансформация сооружения, приспособление стационарного здания для меняющихся нужд — не единственно возможный ответ на тот вызов, который бросает архитектуре все возрастающая динамичность современной жизни. Оказывается, есть и другой путь — можно менять место расположения здания. Иными словами, архитектура может ездить.
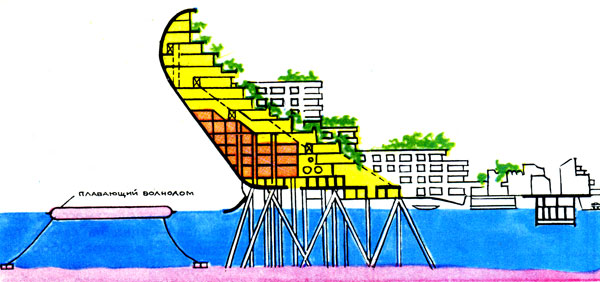
Один из многочисленных проектов города на воде
Легкие сборно-разборные пространственные конструкции типа собираемых из трубок геодезических куполов, пленочные и вантовые покрытия, наконец, надувные, пневматические конструкции — таков солидный арсенал мобильной архитектуры, ее реально существующая техническая база. Пока вся эта сборно-разборная архитектура используется в качестве вспомогательного средства при организации разного рода временных сооружений — выставочных павильонов, складов. Архитекторы, разумеется, не принимают ее всерьез, да и вообще не считают архитектурой. Но разве не так же их далекие предшественники отнеслись к Хрустальному дворцу, к рыночным и вокзальным павильонам из стекла и металла. Разве могло кому-нибудь прийти в голову еще в начале XX века, что в его конце символом современной архитектуры будет стеклянный пассаж, который рассматривался в пору его возникновения больше как инженерное сооружение, чем как самостоятельная архитектурная форма. Если так далеко сумели шагнуть пассажи и оранжереи, то на каком основании отказывать в такой возможности тентам и надувным оболочкам? Кстати, по своему внешнему виду они разительно не похожи на все то, что делает современная архитектура. Так и кажется, что в отличие от всего прочего они принадлежат другому времени. И время это еще не наступило.
Еще одна возможность — если уж архитектуре надо разъезжать с места на место, можно не перевозить ее в качестве груза, а просто поставить ее на колеса. И эта возможность не выглядит такой фантастической, как может показаться на первый взгляд. Индивидуальный домик на колесах — трейлер, тип современной юрты — вещь вполне реальная и достаточно широко распространенная в современном мире. Заменяемые в структуре здания или поставленные на колеса ячейки-кабины облегченной конструкции из пластмассы и других синтетических материалов — одна из самых популярных тем футурологических проектов. Оборудованные по последнему слову техники, такие ячейки больше напоминают капсулу космического корабля, чем дом современного горожанина.
В мечтах архитекторов разъезжают не только жилые дома, но и общественные здания. Гостиницы, театры, даже ратуши проектируются на железнодорожных платформах, на баржах и теплоходах, подвешиваются к дирижаблям. В далекие двадцатые годы среди поисковых проектов советских архитекторов был и проект летающего города. Современные космические и глубоководные исследовательские станции, конечно, трудно назвать городами, но возможность автономного существования сооружений, полностью приспособленных для жизни человека вне поверхности земли, они доказывают со всей очевидностью. Что же касается мобильного театра или гостиницы, то агитпоезда хорошо известны со времен гражданской войны, а пассажирские теплоходы уже давно используются главным образом в качестве плавучих домов отдыха. Отнюдь не кажется невероятным, что будущее расширит диапазон возможностей мобильной архитектуры. Кстати говоря, мобильная архитектура может оказаться особенно эффективной для условий сельской местности. Во всяком случае, она создает вполне реальные возможности для радикального повышения уровня общественного (в том числе главным образом культурного) обслуживания на селе. И притом гораздо более привлекательные, чем практикуемое сегодня решение этой проблемы — укрупнение сельских населенных мест, по сути дела, превращение их в города со всеми вытекающими отсюда последствиями.
При поверхностном взгляде на вещи может показаться, что мобильная архитектура делает сооружение совершенно независимым от окружающего его пространства. Автономная жилая ячейка отрицает дом. Передвижной театр существует вне города. Это и так, и не совсем так. Ведь мобильная ячейка должна хотя бы время от времени куда-то «припарковаться», для того чтобы пополнить запасы энергии и пройти техническое обслуживание. Да и присоединение к магистральным внешним коммуникациям всегда будет более экономичным и экологически безвредным, чем любая автономная система жизнеобеспечения и удаления отходов. Плавучий театр или гостиница тоже должны в каждом случае найти свой причал, и количество возможных стоянок строго регламентировано. Даже «летающая архитектура», если она когда-нибудь будет создана, должна будет иметь свои маршруты наподобие воздушных коридоров, которыми пользуются самолеты, и свои причальные устройства, наподобие аэропортов.
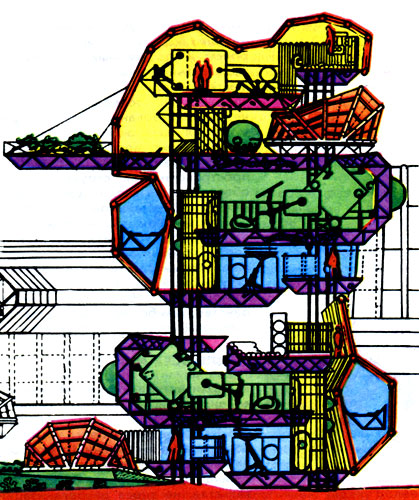
Компьютеры, роботы, электроника порождают миражи жилища, сплошь начиненные
техникой. Останется ли в нем место для человека?
Так что, как бы далеко ни забегали в будущее мечты о мобильной архитектуре, чтобы она стала реальностью, а не забавой, необходима целая система стационарных коммуникационных систем, технических устройств и специальных сооружений типа вокзалов. Парадоксально, отказ от «прописки» дома на конкретном месте приводит к созданию нового типа стационарных сооружений. Последние неизбежно берут на себя роль четко фиксированных центров пространственного размещения архитектурных объектов, провозгласивших свою независимость от места. Попытка создать автономную архитектуру, вывести ее за пределы влияния пространственной структуры сооружения и города оборачивается созданием другой, отличной от прежних пространственной структуры.
Нет, никаким путем, даже встав на колеса, не удается архитектуре уйти от самой себя. От своей сущности, которая заключается в организации пространства. Иными словами — в создании пространственной структуры. И чем более свободным, независимым хочет ощущать себя человек в окружающем его пространстве, тем более мощной, всепроникающей, универсальной будет становиться эта структура.
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Архитектура учится не только приспосабливаться к меняющимся потребностям общества, но и определять эти потребности. Второе порой не проще, чем первое. Как определить программу будущего сооружения? Как привлечь к созданию этого сооружения тех людей, для которых оно предназначается? Как сделать их участниками проектирования, а может быть, даже и строительства, не внося дезорганизации в этот и без того сложный процесс? В поисках ответа на этот вопрос рождается архитектура участия, ориентированная на объективное выявление пространственных предпочтений населения, на его вовлечение в архитектурную деятельность. В такой демократизации, приближении архитектуры к ее «потребителю» — важная тенденция нашего времени, которая особым образом оттеняет картину будущего.
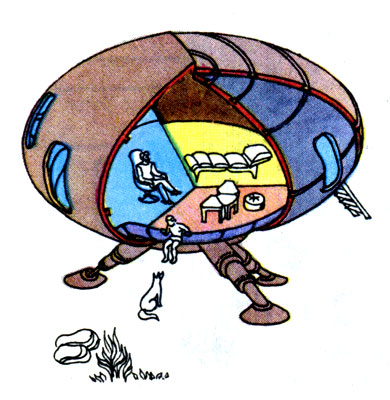
Может быть, таким будет трейлер XXI века
Каждый человек в глубине души чувствует себя архитектором, создателем своего дома. Не просто строителем, а именно архитектором, творцом пространства, отвечающего своим потребностям, а потому индивидуализированного, не такого, как у всех. Порой такое отличие, позволяющее воспринимать пространство как «свое», совсем незначительно — ниша в стене, наличник окна и т. п. Однако эффект огромен. Ведь если человек не отождествляет себя с тем пространством, в котором он живет, это пространство неизбежно становится бездушным, заброшенным, неуютным. Так и происходит часто в новых жилых районах. И не этим ли атавистическим желанием быть архитектором своего дома объясняются нелепые самоделки, которые иной раз видишь на фасаде многоэтажного дома — кто лоджию остеклит, кто выкрасит в яркий цвет стену своей квартиры. Но наиболее яркую картину этой дремлющей на дне человеческой души архитектурной страсти дают, конечно, садовые участки. Вот где фантазия, подстегиваемая часто нехваткой строительного материала, разыгрывается до предела, принимая самые причудливые, а то и пугающие своей безвкусицей формы.
Значит ли это, что долг архитектора — раз и навсегда искоренить подобную самодеятельность? Нельзя ли придать ей иные, более приемлемые формы? Можно ли узаконить этот естественный строительный инстинкт человека? Пустить его энергию по более правильному и конструктивному пути? Что, например, если организовать выпуск стандартных элементов, из которых каждый, кто желает, мог бы собрать свой дом? Не стандартных домов («финские» домики), а именно элементов, наподобие детского конструктора, чтобы можно было сделать дом по собственному желанию.
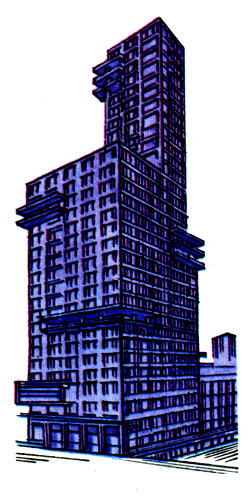
Проект небоскреба для г. Чикаго Архитекторы В. Гропиус и А. Майер
Ну а как быть с городским, многоэтажным домом? Тут уж не предоставишь возможность каждому собирать свою квартиру. И все же... Американский архитектор Кристофер Александр предложил, например, делать квартиры с толстыми стенами из пластичного, легко доступного обработке материала (типа пенопласта). Тогда каждый смог бы «выстругать» или «выдолбить» себе интерьер в соответствии со своими желаниями. Такой план кажется уж чересчур громоздким. Может быть, проще решить аналогичную задачу более проверенным способом — с помощью набора легких сборно-разборных перегородок. Правда, таким путем не получишь криволинейных поверхностей, как в модернизированной пещере Александра. Так или иначе архитектура будущего должна предоставить каждому человеку моделировать свое индивидуальное пространство — собственными силами и по собственному усмотрению. Разумеется, в определенных, строго установленных пределах.
Ну а что касается коллективных пространств, общественных сооружений — здесь вступают в силу вполне традиционные методы опроса общественного мнения, широкой гласности в обсуждении проектов и принятии ответственных решений, связанных с архитектурой и градостроительством. Организация всей этой деятельности, причем не только в процессе строительства, но и по ходу эксплуатации здания, потребует специальных усилий и, возможно, даже особой специальности архитектора-посредника. Его задача — помочь населению грамотно, в удобной для профессионалов-архитекторов форме сформулировать свои требования к организации пространства, своевременно выявить потребность в трансформации сооружения и определить соответствующую программу. И конечно, контролировать реализацию подобных программ в натуре.
Может показаться, что этот аспект воображаемой картины будущего в большей степени лежит в сфере социальных отношений, меньше других относится собственно к архитектуре и уж, во всяком случае, мало влияет на то, как она будет выглядеть. Думается, однако, что это не так. Только когда люди почувствуют дома «своими», несущими на себе не только штампы машинного производства, но и печать рукотворного вмешательства человека, только тогда архитектура стряхнет с себя оцепенение бездушного однообразия и заживет полнокровной, насыщенной жизнью. Как всегда, жили и продолжают жить лучшие из ее свершений. Именно не слишком заметная, с виду «неархитектурная» практика архитектуры участия больше, чем любые инженерные и формальные ухищрения, способна привнести в архитектуру будущего живительное человеческое начало. А вместе с ним такие простые и нужные вещи, как уют, радость и разнообразие.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Город и деревня. Два противоположных, во всем несходных типа поселения. Два образа жизни. Два типа пространственной среды. Возникнув на заре человечества, они ведут свой нескончаемый диалог сквозь века — до наших дней.
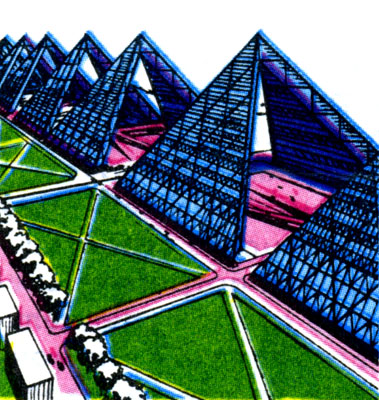
Экологическая архитектура
Вспомним, средневековый европейский город был поначалу скоплением домов деревенского типа. Посады старых русских городов — это всего лишь деревенские избы, сошедшиеся под защиту крепости. А городские дома российских дворян — разве они не копировали их родовые деревенские усадьбы? Городской сад, парк «прекрасного вида», искусственный водоем — разве все это не попытки раздвинуть каменные стенки городского лабиринта, хоть немного вдохнуть живительный воздух открытого деревенского ландшафта? И наоборот, примеры городской жизни медленно, но неуклонно проникают в деревню. Трактир, лавка, школа, а затем почта, больница, клуб, водопровод, телевидение, и вот уже настоящий городской (еще бы — панельный!) дом красуется посреди села.
Кажется, сегодня город начисто «переиграл» деревню, полностью подчинил ее себе и победно шествует по планете. Города не только многократно увеличили свою территорию и население (разумеется, за счет сельской местности), но и радикально изменили свой облик. Все меньше места в городской среде сохраняется для живой природы и для самого человека в том числе. Скученность, социально-психологический, а нередко и санитарно-гигиенический дискомфорт городской жизни. Загрязненный воздух, вода, почва, растущие горы мусора, транспортная опасность, шум, вибрации, статическое электричество, информационная перегрузка... Наконец, прогрессирующий отрыв от живительного источника природы, который не кажется уже неиссякающим: техногенное воздействие человека начинает приносить свои ядовитые плоды.
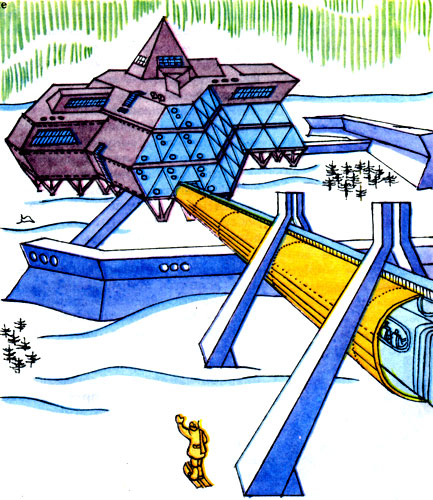
Проектное предложени жилой структуры для арктических районов
С этой точки зрения все большее недоверие вызывают урбанистические архитектурные идеалы, берущие начало в традиционной трактовке города как «перекрестка мира» или «вселенской ярмарки», этакого Вавилона, да еще на самый современный манер. Сегодня «лучезарные» небоскребы, многоярусные конструкции дорог, чудеса подземной архитектуры, бездушный стандарт однотипно «правильной» жилой застройки — все, с чем еще не так давно устойчиво связывалось представление о будущем, начинает казаться удручающе невыразительным, нежизненным, в конечном итоге обманчивым и опасным.
И снова всплывает в общественном сознании милый сердцу, увы, постепенно исчезающий деревенский дом и все, что ему сопутствует,— тень дерева, журчание ручья, прохлада летней долины.
Миллионы людей во всем мире рвутся за пределы города, пытаясь возродить преимущества деревенской жизни на его окраине. Вот уже два десятилетия как растут, собственно говоря, не сами города, а главным образом их пригороды. Так называемая субурбанизация, проблема второго жилища, индустрия массового отдыха, «эпидемия» садовых участков — все это разные аспекты «антиурбанистической» тенденции, неприятия города в его современном воплощении, как модели будущего расселения на земле.
Однако дело не решается так просто, оно зашло уже слишком далеко. Нелепо было бы пытаться возродить сегодня патриархальный быт старой деревни, еще наивнее надеяться воспроизвести сопутствующие ему формы организации пространства. Да и сам по себе пригород и в ландшафтном и в социальном плане нечто совсем иное, чем деревня. Над ними витает неистребимый дух старой городской окраины, вечно завидующей городу и связанной с ним тысячью нитей. И действительно, плотно окружая городское ядро все новыми слоями застроенной, урбанизированной земли, пригороды, дачи, садовые участки окончательно отрезают городскую среду от открытых пространств, которые сжимаются под их натиском, подобно бальзаковской шагреневой коже. И вот уже на горизонте пригорода видится другой, точно такой же соседний пригород. Круг замыкается. Субурбанизация оказывается главным средством роста того самого города-гиганта, бунт против которого вызвал ее к жизни.
Что же, значит, проблема неразрешима в принципе? Нет, конечно. Просто ее нельзя решить таким простым способом: не нравится в городе — поехали за город. Извечная противоположность между городом и деревней не может быть ликвидирована путем уничтожения одного за счет другого, так же как и путем их механического совмещения—столько-то процентов города и столько-то процентов деревни. Это противоречие может быть снято только диалектически — путем взаимного обогащения, органического переплетения лучших черт города и деревни в новом, синтетическом типе архитектурно-пространственной среды.
Эта проблема всегда волновала философов, социологов, деятелей искусства, наиболее проницательных архитекторов. Но то была всего лишь теория, достояние избранных умов, и не более. Сегодня эта проблема переходит в область практики — она становится общественно осмысленной потребностью.

Новый мост в Старой Риге
«И снится нам не рокот космодрома... — разносит телевизор слова модной песни, — а снится нам трава, трава у дома — зеленая, зеленая трава...» Песня поется от лица космонавтов, которые, находясь на самой вершине технической цивилизации, как это ни парадоксально, острее и нагляднее всех «земных» людей ощутили, что живая планета Земля является общим космическим домом человечества. И символом этого дома становится трава, обыкновенная зеленая трава у нашего собственного дома. Символ очень емкий, далеко перерастающий и нехитрый сюжет песни, и ее расхожий мотив. Трава у дома — это воспоминание детства, это чувство родины, связь с природой, это гуманный характер окружения. Это то, что каждый из нас вправе потребовать от современной городской среды. Это самая лаконичная запись сложной формулы того, что можно назвать экологической архитектурой.
Экология не случайно входит в контекст нашего рассуждения в связи с упоминанием о доме. Само это слово пошло от греческого «ойкос» — «дом». Оно обозначает науку о сообществах — о доме и его обитателях. Как бы ни сетовали экологи на расширительное толкование модного сейчас слова, за которым они хотят сохранить статус строго научного термина, существительное «архитектура» имеет полное право обзавестись прилагательным «экологический». И не только потому, что в данном случае речь идет именно о доме и его обитателях. А еще и потому, что за этим словосочетанием прочитывается очень важная тенденция движения к человеку, к естеству, к природе, которая набирает силу в современной архитектуре.
Канон, или, точнее, штамп, так называемой современной архитектуры сложился в начале XX века под влиянием ускорения темпов и индустриализации строительства, широкого внедрения новых материалов и конструкций — об этом не раз говорилось в книге. Масштабы этих перемен были настолько велики и значительны по своему времени, что в данном случае уместно говорить о технической революции в архитектуре. Однако по мере того, как современная архитектура накапливала опыт реализации, неполнота, недостаточность ее исходных посылок, их несоответствие реальным запросам общества становились все более очевидными. Причем не только для специалистов, но и для широкого «потребителя» архитектурной «продукции». Особенно во всем том, что относится к учету природных, биосоциальных, социально-психологических факторов, таких, как специфика природного окружения, особенности и традиции места, разнообразие потребностей различных групп населения, свобода индивидуального выбора различных типов поведения и пространственной среды. Попытки искать решения современных архитектурных проблем на этих направлениях и составляют содержание того, что мы называем экологическим подходом в архитектуре.
Сегодня, когда не за горами рубеж XXI столетия, конфликтная ситуация, порождающая такой подход, обозначилась со всей определенностью. Число его сторонников непрерывно растет. Уже имеются некоторые обнадеживающие результаты. Все это позволяет думать, что архитектура и градостроительство входят в полосу активных перемен, радикального изменения ориентации, по своему значению, масштабам и последствиям не уступающего технической революции, начавшейся столетие тому назад. В полосу глубокой, многоплановой перестройки — экологической эволюции. Именно эволюции, поскольку займет она, по-видимому, не одно десятилетие.
Что же ожидает нас за этим поворотом?
ПРИРОДА В АРХИТЕКТУРЕ
Архитектура с рождения несет идею доминирования над родным окружением. Первый дошедший до нас тип сооружения каменного века, с которого ведет отсчет времени история архитектуры, — менгир, вертикально поставленная каменная глыба. Она гордо заявляет о себе в окружающем ландшафте, подчеркнуто противопоставляя горизонтали земли свою устремленность к небу. Это может показаться наивным, но именно отсюда, от менгира, ведет прямая дорога к русским колокольням, готическим соборам и небоскребам Манхаттана.
Начиная с той архаической поры архитектура всегда стремилась овладеть ландшафтом, занять в нем самые выгодные позиции, стать его доминантой. Крепость, церковь, усадьба неизменно находят свое место на возвышенной точке рельефа, как бы овладевая природной ситуацией и распространяя вокруг специфическое поле своего архитектурного влияния. Время мало изменило существо такого подхода. Один из создателей современной архитектуры — Ле Корбюзье так и сказал, комментируя свой замысел: архитектура распространяет свои волны в окружающем природном ландшафте подобно звучащему колоколу.

Легкая «паутина» вантовой конструкции позволяет перекрыть любую форму плана
Изменилось другое — сама ситуация архитектурного сооружения, отдельно стоящего в природе, стала уникальной и в высшей степени нехарактерной. Наиболее распространенным случаем стала постановка здания в городе, в близком соседстве с другими зданиями. Город формирует особый тип искусственного ландшафта, в котором, если пользоваться аналогией Корбюзье, происходит многократное наложение и сложное преломление архитектурных «волн». Тут уж едва ли разберешь «звук», исходящий от отдельного сооружения, — он тонет в общем гуле.
Поначалу, пока город был сравнительно небольшим, городской ландшафт еще воспроизводил основные характерные черты природной ситуации. Доминанты сооружений фиксировали главные точки естественного рельефа, застройка подчеркивала склоны холмов и речную пойму. Но город рос, росли его сооружения, расползаясь на все новые и новые территории, нивелируя неровности рельефа, загоняя в подземные трубы ручьи и даже реки. Теперь это был уже целый мир, почти полностью утративший визуальную связь со своей естественной подосновой, — вторая природа, похоронившая под собой первую, настоящую.
Постепенно становилось неясно, чего здесь больше — открытого уличного пространства или перекрытых пространств, заключенных в стены сооружений. Во всяком случае, последние оказались более защищенными от гари, шума и других последствий урбанизации.
И тогда природа, отступившая далеко за пределы города, изгнанная с его улиц, заключенная в жалкие резервации городских парков, неожиданно стала возрождаться внутри самих сооружений. Здания раздвинули свои стены, убрали перекрытия, презрели все каноны утилитаризма, чтобы принять в себя — нет, пока еще не природу, но по крайней мере — символы природы.
Листва деревьев и струи фонтанов шумят внутри зданий. Таких сооружений уже немало. Огромный, на высоту нескольких этажей, холл с зимним садом и фонтаном стал почти обязательным элементом большой современной гостиницы или административного здания. Это можно видеть в Международном торговом центре в Москве. Есть и более скромные примеры — здание проектных организаций в Минске.
Природа вошла в архитектуру. Ценой немалых издержек — тут и финансовые, и энергетические затраты (лишняя кубатура!), и сложные конструкции, и специальное инженерное оборудование. В чем причина подобного расточительства? Социально-психологические факторы? Стремление удивить, реклама? Возможно, отчасти и это. Но почему именно таким путем? Ведь в каждом, даже по виду совсем случайном капризе моды есть своя глубинная закономерность. Может быть, за всем этим просматривается определенная тенденция, которая дает возможность забежать вперед, правильно предвосхитить объективное развитие надвигающихся событий?
Природа — в архитектуре. Вдумаемся в парадоксальный смысл этой формулы, которая ставит с ног на голову традиционную концепцию архитектурного пространства. То, что по определению должно быть снаружи, оказывается внутри. Среда входит внутрь дома. Все перемешивается, грани теряют четкость. Интерьер сооружения становится его лицом, фактически — его фасадом. Сооружение как бы выворачивается наизнанку. Собственно говоря, оно перестает быть домом и становится отгороженной частью городского пространства. Отгороженной — пока. Пространство сооружения готовится стать пространством города.
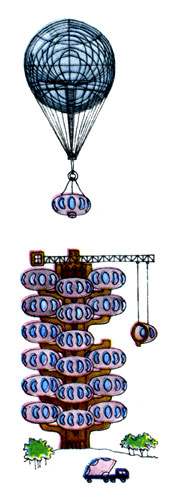
Картина выглядит фантастичной, но многие специалисты именно так представляют
себе будущее многоквартирного дома
И средоточием, кульминацией этого пространства являются зеркало воды, крона дерева, клочок земли — частицы природы, пусть небольшие, но настоящие. Начав с идеи вторжения в природу, архитектура отдает святая святых — свои внутренние пространства — для живительного вторжения природы. Вот уж поистине — гони природу в дверь, она войдет в окно.
В пестром и обильном потоке архитектурных поисков сегодняшнего дня не всегда просто различить за случайной шелухой действительные, здоровые зерна будущего. Но одно ясно — новое отношение к природе во многом трансформирует природу самой архитектуры. Зримое свидетельство этого — сад, который расцветает внутри дома.
Главная мысль: великая эстафета
Архитектура пришла к людям из глубокой древности.
Не один раз сбрасывала она свое привычное обличье, чтобы предстать перед ними обновленной и полной сил. Античный ордер, готический свод, зеркальная стена небоскреба... Кажется, что общего — каждый раз приходится начинать заново, учиться всему с самого начала. Вот и теперь, когда книга подошла к концу, мы вглядываемся в переменчивый лик архитектуры, в который раз пытаясь разглядеть ее будущее.
Сбрасывая с себя фасад, сплавляясь в единое целое пространственной структуры, приспосабливаясь к динамичному ритму жизни, к конкретным потребностям всех и каждого, раскрывая себя навстречу природе, архитектура вновь готовится стать другой. Такой, которой нам трудно ее себе представить. И все-таки — как всегда, архитектурой.
Потому что, как бы ни менялась архитектура, как бы ни казалась она похожей на свое собственное недавнее прошлое, суть ее остается неизменной. Всякий раз она являет собой попытку организовать человеческое пространство. Попытку внести в бездуховный физический мир то, что свойственно природе человека, — разум и чувство, логику и красоту. Там, где ей это удавалось, остались ее шедевры. Там, где нет, она начинала новую попытку.
Рассказ об архитектуре будет продолжен в следующей книге. Речь в ней пойдет о тех подмостках, на которых разыгрывается драматический спектакль архитектуры, — о городе. Перелистывая страницы этой книги, всматриваясь в знакомые черты того настоящего, некнижного города, в котором живет каждый из нас, даже привычно погружаясь в его повседневную суету, давайте всегда помнить о том, что рядом с нами по улицам и площадям Города несет свою великую эстафету Архитектура. Искусство, в котором математика и поэзия продолжают свой неразрешимый спор, уходящий в вечность.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
Акрополь — укрепленная часть древнегреческого города, расположенная на холме.
Ампир — стиль позднего классицизма в западноевропейской архитектуре (первая четверть XIX в.), возникший во Франции в период империи Наполеона I; характерны строгие монументальные формы, обращение к древнеримским декоративным образцам (военные трофеи и пр.). Иногда ампиром называют также самобытный вариант русского классицизма первой трети XIX века.
Антаблемент — балочное перекрытие пролета или завершение стены, состоящее из архитрава, фриза и карниза.
Анфилада — ряд комнат, залов, сообщающихся друг с другом дверными проемами, расположенными по одной оси.
Аркада — ряд одинаковых арок; арка — криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя устоями.
Аркбутан — наружная подпорная арка, передающая распор свода на устои (контрфорсы), помещенные снаружи здания; чаще всего встречается в готической архитектуре.
Архитрав — главная балка, нижняя часть антаблемента.
Атлант — вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддерживающей балочное перекрытие.
Атриум — главное помещение с верхним светом в античном римском жилом доме.
База — нижняя опорная часть колонны.
Базилика — здание вытянутой прямоугольной формы, разделенное на несколько продольных нефов рядами столбов или колонн; средний, главный неф выше боковых. Тип базилики сформировался в Древнем Риме (здание для суда, торговли и др.). В дальнейшем базилика — широко распространенный тип композиции христианских храмов.
Балюстрада — ограждение балконов, лестниц, состоящее из ряда столбиков (балясин), соединенных сверху плитой, перилами.
Балясина — вертикальная стойка балюстрады.
Барокко — художественный и архитектурный стиль конца XVI — середины XVIII века, отличающийся декоративной пышностью, динамическими, сложными формами, криволинейностью очертаний, живописностью. Известные архитекторы барокко Л. Бернини, Ф. Борромини — в Италии, В.В. Растрелли — в России.
Блок-секционный метод — метод современного индустриального домостроения, при котором детали комплектуются не на целый дом, а на его часть — блок-секции, то есть несколько квартир, объединенных лестнично-лифтовым узлом. Сочетание различных блок-секций позволяет возводить дома сложной конфигурации, переменной этажности, которые хорошо вписываются в конкретные условия участка и обладают большей архитектурной выразительностью, чем типовые дома-пластины.
Ванты — гибкие элементы (растяжки), обычно стальные тросы для крепления висячих конструкций (большепролетных покрытий, мостов, мачт и др.).
Витраж — декоративная композиция из стекла. В интерьере готического собора цветные витражи в окнах создавали сложную игру окрашенного света. В современной архитектуре словом «витраж» обозначается сплошное остекление фасада (чаще всего в металлических переплетах).
Готика — архитектурный стиль, зародившийся в XII веке во Франции и в позднем средневековье, распространившийся по всей Западной Европе. Характеризуется подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму, стрельчатыми сводами на ребрах (нервюрах), обилием каменной резьбы и скульптурных украшений. В готическом соборе распор стрельчатого свода передается на наружные опорные столбы (контрфорсы) с помощью подпружных арок (аркбутанов).
Доминанта — главенствующее сооружение в архитектурной композиции, ансамбле.
Доходный дом — многоэтажный дом с квартирами, сдаваемыми внаем. В конце XIX века в Москве и Петербурге сформировался специфический тип доходного дома с затененными дворами-колодцами, рассчитанный на плотную периметральную застройку квартала.
Дом-коммуна — дом с развитым общественным обслуживанием. Проекты домов-коммун разрабатывались советскими архитекторами в 20—30-е годы в качестве основного типа «перспективного жилища». За счет экономии площадей минимальных жилых ячеек в составе дома-коммуны предусматривался большой набор помещений общественного назначения — столовая, ясли-детсад, прачечная, клубные комнаты, хозяйственные помещения и т. п. Как показало время, иДея «обобществления быта» в упрощенной форме дома-коммуны оказалась нежизненной и не была реализована на практике.
Золотое сечение — гармоническое деление отрезкам крайнем и среднем отношении: деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т. п. АВ:ВС — АС:АВ). Приближенно это отношение равно 5/3, точнее, 8/3, 13/8 и т. д. Принципы золотого сечения часто используются при отыскании наиболее совершенных уравновешенных пропорций между частями архитектурного сооружения. Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи.
Интерьер — внутреннее пространство здания.
Каннелюра — вертикальный желобок на стволе колонны, каннелюры создают богатую игру тени на колонне.
Капитель — верхняя часть колонны (или пилястры), расположенная между стволом опоры и горизонтальным перекрытием — антаблементом.
Кариатида — вертикальная опора в виде женской фигуры, поддерживающей балочное перекрытие.
Каркас — несущий остов сооружения, состоящий из отдельных, скрепленных между собой стержней — опор и балок.
Карниз — венчающая часть антаблемента, горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и предохраняющий стену от стекающей воды.
Классицизм — архитектурный стиль XVII — начала XIX века; связан с обращением к античному наследию. Классицизму присущи четкость и геометризм форм, логичность планировки, сочетание стены с ордером и сдержанным декором. Видные представители классицизма во Франции — Ж. Ардуэн-Мансар, Ж.-А. Габриэль, К.-Н. Леду, в России — В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, А. Д. Захаров, К. И. Росси.
Консоль — часть конструкции, жестко закрепленная одним концом или выступающая за пределы опоры; используется для поддержки выступающих частей здания (балконов, карнизов, козырьков и т. п.).
Конструктивизм — направление в советской архитектуре и искусстве 20-х годов; для него характерно стремление использовать принципы индустриального производства и машинной технологии, создание простых, логичных, функционально оправданных форм. Видные представители конструктивизма — братья Л. А., В. А. и А. А. Веснины, М. Я. Гинзбург, И. И. Леонидов и др., входившие в Общество современных архитекторов (ОСА).
Контрфорс — вертикальная выступающая часть стены или отдельная вертикальная опора, воспринимающая боковой распор сводов, перекрывающих сооружение.
Кубизм — модернистское течение в изобразительном искусстве начала XX века. Для художников-кубистов характерны формальные эксперименты, связанные с конструктированием объемной формы на плоскости, разложением сложных форм реального мира на простые геометрические объемы (куб, конус, цилиндр). Опыты кубистов оказали определенное влияние на развитие западной архитектуры в первой трети XX века.
Метопы — прямоугольные плиты, часто украшенные скульптурой, составляющие в чередовании с триглифами фриз дорического ордера.
Модерн — стилевое направление в архитектуре конца XIX — начала XX века. Связано с использованием новых технически-конструктивных средств, свободной планировки для создания подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. Во Франции это направление развивалось под названием «ар нуво» («новое искусство»), в Германии — «югендстиль» («молодой стиль»), в Австрии — «сецессинон» («раскол»). Видные представители модерна — X. Ван де Вельде (Бельгия), П. Ольбрих (Австрия), Ч.-Р. Макинтош (Англия), А. Гауди (Испания), Ф. О. Шехтель (Россия).
Модуль — исходная мера, принятая для выражения кратных соотношений размеров сооружений и их частей.
Монолитный бетон (железобетон) — конструкции, выполняемые непосредственно на стройке в виде единого целого, путем отливки в разборной форме (опалубке).
Нервюра — выступающее профилированное ребро стрельчатого готического свода.
Неф (дословно — «корабль») — продольная часть базилики или христианского храма, отделенная от соседнего нефа колоннадой или аркадой. Обычно храм расчленяется на главный — более широкий и высокий — боковые нефы.
Оболочка — тонкостенная конструкция большепролетного покрытия; выполняется из бетона, железобетона, синтетических пленок и других материалов, имеет криволинейные очертания — различаются сферические, цилиндрические и другие оболочки.
Опалубка — форма, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных конструкций.
Ордер — определенный порядок взаимного расположения несущих (колонна с капителью, базой, иногда пьедесталом) и несомых (архитрав, фриз и карниз, составляющие вместе антаблемент) частей стоечно-балочной конструкции, их художественная обработка. Классическая ордерная система сложилась в античной Греции; различают дорический, ионический и коринфский ордеры. Колонна дорического ордера не имеет базы, капитель состоит из эхина — круглой в плане «подушки» с выпуклым криволинейным профилем и лежащей на ней плоской квадратной плиты — абака, фриз делится по горизонтали на триглифы и метопы. Ионический ордер имеет стройную колонну с базой, капитель состоит из двух крупных завитков — волют, фриз часто сплошь покрыт рельефом. Коринфский ордер отличается пышной капителью, состоящей из рядов листьев аканфа и небольших волют.
Палаццо — дворец, особняк.
Паруса — элементы купольной конструкции в форме сферического треугольника, обеспечивающие переход от квадратного в плане подкупольного пространства к окружности купола или его основания — барабана. Для этого по сторонам квадрата возводятся арки, а промежутки между ними и куполом заполняются парусами.
Периптер — основной тип древнегреческого храма: прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой.
Перистиль — прямоугольный двор, сад, площадь, окруженные с четырех сторон крытой колоннадой.
Перспектива — система изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком; в архитектурных чертежах и изобразительном искусстве перспектива используется для построения иллюзорного пространства.
Пилон — башнеобразные сооружения в виде усеченных пирамид, воздвигавшиеся по сторонам входов в древнеегипетские храмы. В современной архитектуре пилонами называются массивные столбы, служащие опорами перекрытий.
Пилястра — плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба; имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стены.
Пластика — выразительность, лепка объемно-пространственной формы, сооружения, деталировки его фасадов.
Подклет — в русской деревянной и каменной архитектуре нижний этаж жилого дома или храма, обычно имеющий служебно-хозяйственное назначение.
Портал — 1) архитектурно оформленный вход в здание; 2) архитектурное обрамление сцены, отделяющее ее от зрительного зала.
Портик — галерея на колоннах или столбах, обычно перед входом в здание.
Постмодернизм — течение в современной западной архитектуре. Возникновение постмодернизма связано с кризисом функционалистско-техницистских взглядов; для него характерно «цитирование» исторических архитектурных образцов, попытки включения в сложившийся контекст архитектурного окружения, отсутствие единой, четко 'определенной идейно-художественной платформы.
Пропилеи — обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками или колоннадами.
Пропорция — соразмерность, определенное соотношение частей целого между собой и с целым.
Рационализм — направление в советской архитектуре 20-х годов, связанное с поисками лаконичных, динамичных архитектурных форм, отвечающих эстетическим запросам и уровню технического развития индустриальной эры. Принципы рационализма развивала группа советских архитекторов «Аснова» (Ассоциация новых архитекторов) — Н. А. Ладовский, К. С. Мельников, В. Ф. Кринский и др. В более широком смысле рационалистами иногда называют представителей современного движения в архитектуре 20—60-х годов (см.: современная архитектура).
Реконструкция — перестройка, модернизация, обновление зданий и сооружений, улиц, площадей, планировочной структуры города. Реконструкция чаще всего предполагает сохранение элементов исторически сложившегося облика зданий, характера городской среды. В зависимости от целей и характера реконструктивного вмешательства различают такие виды реконструкции, как реновация, реабилитация, ревалоризация и др.
Реставрация — восстановление здания в первоначальном (или близком к первоначальному) виде.
Ритм — чередование, повторяемость элементов архитектурного сооружения или сооружений, упорядоченность их расположения в пространстве.
Романская архитектура — архитектурный стиль в Западной Европе X—XIII веков. Суровая, крепостного характера архитектура — монастыри, церкви, замки. Характерны полусказочные мотивы архитектурного декора — изображения животных, растений, восходящие к народному творчеству.
Руст — кладка или облицовка стен здания камнями с грубо отесанной или выступающей лицевой поверхностью.
Свод — пространственная конструкция, перекрытие или покрытие сооружений, имеющее форму выпуклой криволинейной поверхности. Различают цилиндрические, крестовые, сомкнутые, купольные своды.
Современная архитектура — основное направление архитектуры XX века (иногда используется название «интернациональный стиль»), получившее развитие в 20—60-е годы и стремившееся выработать новые архитектурные методы, отвечающие современным общественным потребностям, эстетическим запросам, уровню промышленной технологии. Главный лозунг современной архитектуры — единство архитектурной формы, конструкции и функционально обусловленной пространственной структуры. Основоположниками современного движения в Германии была архитектурная школа «Баухауз» (архитекторы В. Гропиус, Л. Мис ван дер Роэ и др.), в Нидерландах — архитектурная группа «Стиль» (И.-П. Ауд и др.). Основные принципы современной архитектуры выработаны на Международных конгрессах современных архитекторов (СИАМ) под руководством французского архитектора Корбюзье и изложены в специальном документе — так называемой Афинской хартии (1944 г.). На концепцию современной архитектуры оказали значительное влияние работы советских архитекторов братьев Весниных, И. И. Леонидова, К. С. Мельникова и др.
Солнцезащита — рельефные (чаще всего бетонные) ограждения типа пространственной решетки, препятствующие прямому попаданию солнечных лучей в помещение и предохраняющие его от перегрева. Солнцезащитные устройства являются одним из главных элементов архитектурной обработки фасадов сооружений в условиях жаркого климата.
Средовой подход — проектирование архитектурных сооружений с учетом их включения в контекст сложившейся городской среды.
Стилобат — каменное подножие древнегреческого храма, чаще всего состоит из трех крупных ступеней.
Тектоника — художественное выражение закономерностей строения, соотношения нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе сооружения.
Термы — общественные бани в Древнем Риме, включавшие также залы для спорта, занятий, собраний и т. д.
Триглиф — прямоугольная вертикальная каменная плита с продольными врезами. Чередуясь с метопами, триглифы составляют фриз дорического ордера.
Унификация — рациональное сокращение числа типов строительных деталей на основе единой системы взаимосвязанных типоразмеров и марок изделий.
Фриз — в классических архитектурных ордерах средняя часть горизонтального пояса (антамблемента) — между архитравом и карнизом. В дорическом ордере фриз состоит из чередующихся триглифов и метоп.
Фронтон — треугольное завершение фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
Функция — назначение помещения, сооружения.
Целла — прямоугольное помещение, огражденное глухими стенами в середине античного храма, его святилище, где находилась статуя божества.
Цоколь — нижняя часть наружной стены здания, сооружения, лежащая на фундаменте; обычно цоколь выступает или западает по отношению к основной плоскости стены.
Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.
Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.
Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.
Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.
Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.
Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,
академик Российской академии художеств
Сергей Вольфгангович Заграевский