|
РусАрх |
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
|
Источник: Кавельмахер В.В. Древности Александровой Слободы (сборник научных трудов). М., 2008. Все права сохранены.
Материал предоставлен библиотеке «РусАрх» С.В.Заграевским. Все права сохранены.
Иллюстрации приведены в конце текста.
Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2010 г.
В.В. Кавельмахер
Древности Александровой Слободы
(Сборник научных трудов)
Аннотация
Классик архитектурной реставрации и истории древнерусского зодчества В.В.Кавельмахер (1933–2004) проводил свои фундаментальные исследования памятников архитектуры Александровской Слободы с 1980-х годов до конца жизни. Итоги его исследований отражены в научных трудах, включенных в этот первый посмертный сборник ученого. Перед читателем предстает цельная картина уникального дворцово-храмового ансамбля древней Слободы. Иллюстративный материал включает разработанные В.В.Кавельмахером реконструкции первоначального вида александровских храмов XVI века.
Книга является даром издателя музею-заповеднику «Александровская Слобода».
Составитель, научный редактор и издатель – проф. С.В. Заграевский.
О В.В. Кавельмахере –
классике архитектурной реставрации
и истории древнерусского зодчества
Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер родился в Москве 22 января 1933 года. В 1937 году он был отправлен с матерью в ссылку на Воркуту, в 1951 году вернулся в Москву, в 1957 году окончил Московский архитектурный институт. В конце пятидесятых годов он работал белокаменщиком, а с начала шестидесятых – архитектором-реставратором. Практически весь дальнейший трудовой путь В.В.Кавельмахера был связан с трестом «Мособлстройреставрация», где он проработал до начала девяностых годов (достаточно подробная биография ученого приведена в Приложении 5).
Деятельность В.В.Кавельмахера как реставратора с самого начала была неотделима от его деятельности в качестве историка архитектуры. В 1960–1980-х годах любая реставрация сопровождалась полномасштабными историко-архитектурными исследованиями, и практический каждый отчет о реставрации мог быть опубликован (и при возможности публиковался) в качестве научной статьи.
Рассматривать историю архитектуры во второй половине ХХ века вне контекста реставрации так же невозможно, как вне контекста археологии. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло»: большинство памятников архитектуры лежало в руинах и, соответственно, было открыто для любых исследований. Наверное, такого объема первичной архитектурно-археологической информации, как в это время, у российских ученых не будет уже никогда.
В 1930-е годы памятники, как правило, сносились поспешно, без должного обследования. Но после войны наступил воистину «золотой век». Простор и для реставрационной практики, и для архитектурно-археологических исследований был беспрецедентным, и каждый практикующий реставратор, независимо от квалификации и организационных способностей, вел множество объектов, иногда исчислявшихся десятками.
Из объектов В.В.Кавельмахера наиболее известны те, которые дали импульс его историко-архитектурным исследованиям (церковь Введения на Подоле в Сергиевом Посаде, церковь Рождества Христова в селе Юркине Истринского района Московской области (далее М.О.), Старо-Никольский собор в Можайске). Кроме того, он был ведущим архитектором реставрации церквей Девяти мучеников Кизических и Троицы в Голенищеве (Москва), соборов в Волоколамске и Верее, церкви Николы Посадского (Коломна), церквей в Бронницах, Михайловской Слободе, Заворове и Синькове (Раменский район М.О.), Изварине (Ленинский район М.О.) и Черленкове (Шаховской район М.О.)1.
Часто В.В.Кавельмахеру «приписываются» и другие объекты, прежде всего те, по которым он опубликовал фундаментальные труды (церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове и Параскевы Пятницы на Подоле, храмы Звенигорода, Троице-Сергиевой Лавры, Александровской Слободы и даже Московского Кремля), но на самом деле во всех этих случаях он был лишь консультантом «на общественных началах», причем зачастую «нежелательным» (как в Московском Кремле при главном архитекторе В.И.Федорове, как в Троице-Сергиевой Лавре при ведущем архитекторе В.И.Балдине).
Из практикующих реставраторов второй половины ХХ века, кроме В.В.Кавельмахера, наиболее известны П.Д.Барановский, Л.А.Давид, Г.В.Алферова, Б.Л.Альтшуллер, А.В.Столетов, Н.Н.Свешников и М.Б.Чернышев. Отметим, что С.С.Подъяпольский, в 1960-е годы много работавший как реставратор-практик, позднее свел практическую работу к минимуму и сосредоточился на преподавательской и научной работе.
П.Д.Барановский, Л.А.Давид, Г.В.Алферова, А.В.Столетов, Н.Н.Свешников и М.Б.Чернышев так и не стали профессиональными историками архитектуры, хотя и занимались такими исследованиями в рамках своей реставрационной деятельности. Их реконструкции и собственные датировки (П.Д.Барановский – церковь Параскевы Пятницы в Чернигове, Л.А.Давид – церкви Трифона в Напрудном и Зачатия Анны, Г.В.Алферова – церковь Воскресения в Кадашах, А.В.Столетов – Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, Н.Н.Свешников – Успенский собор в Клину, М.Б.Чернышев – Новый Иерусалим) эпизодичны. Б.Л.Альтшуллер также вряд ли обладал необходимой для профессионального историка архитектуры широтой проблемного охвата. Мы ни в коем случае не будем умалять важность его главного открытия, сделанного совместно с М.Х.Алешковским, – группы храмов с «пристенными опорами», но это открытие является прежде всего архитектурно-археологическим, а сделанные исследователями на его основе историко-архитектурные выводы более чем спорны2.
В связи с этим мы вправе отметить исключительную значимость деятельности В.В.Кавельмахера: он оказался практически единственным классиком реставрации, ставшим классиком истории древнерусской архитектуры. Возможно, с рядом оговорок то же самое можно сказать о С.С.Подъяпольском. Среди археологов ХХ века таких имен мы можем назвать гораздо больше: это и К.К.Романов, и М.К.Каргер, и Н.Н.Воронин, и П.А.Раппопорт.
В принципе, в таком «неравенстве» нет ничего удивительного. Обычно, говоря о первичной архитектурно-археологический информации, подразумевают и данные археологии (условно говоря, того, что «под землей»), и данные, полученные в результате обследования сохранившихся частей здания (условно говоря, того, что «над землей», хотя сюда относится исследование погребов и подклетов). Но, как это ни парадоксально, до сих пор даже не существует особого названия для науки, изучающей сохранившиеся части «того, что над землей».
Архитектурная археология – весь комплекс изучения памятников (и «над», и «под землей»). Реставрация – термин, означающий прежде всего «физическое» восстановление памятника. А эта «безымянная» наука включает и «чтение кладки», и анализ строительной техники, и производство зондажей, и множество других методик, причем реставрация за этими исследованиями может последовать, а может и не последовать.
Предложим для этой науки название «археология архитектуры» и определимся: архитектурная археология (весь комплекс исследований памятника) подразделяется на собственно археологию (исследование несохранившихся или засыпанных частей памятника) и «археологию архитектуры» (исследование сохранившихся частей памятника).
Существует определенный соблазн считать основоположником «археологии архитектуры» П.Д.Барановского (разработавшего в начале ХХ века метод чтения кирпича «по хвостам»), но вряд ли это справедливо: практически полным комплексом реставрационно-исследовательских приемов владел еще в середине XIX века Ф.Ф.Рихтер. Зондажи и прочие исследования кладки и строительной техники на высоком профессиональном уровне проводили и П.П.Покрышкин, и Д.П.Сухов, и Н.Н.Соболев, и Н.Д.Виноградов, и П.Н.Максимов, и Л.А.Давид, и Б.Л.Альтшуллер, и Н.В.Холостенко, и Н.Н.Свешников, и М.Б.Чернышев, и многие другие исследователи.
Но именно В.В.Кавельмахеру принадлежит заслуга превращения всех этих методик в единую систему, позволяющую (в сочетании с историческими и археологическими данными) датировать и реконструировать храмы, а также проводить системный анализ архитектурных форм и стилей с выходом на исследование общих закономерностей развития древнерусского зодчества.
Обзор работ В.В.Кавельмахера мы начнем с церкви Параскевы Пятницы на Подоле в Сергиевом Посаде [3, 4] (здесь и далее в квадратных скобках мы будем давать ссылки на соответствующие пункты приведенной в настоящем сборнике библиографии В.В.Кавельмахера – см. Приложение 2). Это была первая общедоступная публикация исследователя (до этого он имел возможность публиковаться только в «творческих отчетах» треста «Мособлстройреставрация», выходивших с грифом «для служебного пользования», и делать эпизодические научные доклады3).
Будучи в 1970-х годах ведущим архитектором соседней церкви – Введения на Подоле, В.В.Кавельмахер параллельно обследовал Пятницкий храм и показал неправомерность датировки его существующего здания 1547 годом, обосновав в качестве даты вторую половину XVII века. Сейчас может даже показаться странным, что кто-то мог датировать существующий Пятницкий храм серединой XVI века, но именно такой позиции придерживался ведущий архитектор Лавры В.И.Балдин, и этот вопрос стал темой бурных дискуссий. И по сей день Пятницкая церковь на Подоле – одна из наиболее известных работ В.В.Кавельмахера.
Важно отметить, что именно в этой работе исследователь впервые применил всесторонний анализ особенностей строительной техники как одно из оснований для датировки. Большой интерес представляет и приведенный в работе обзор формирования композиции монастырских церквей и трапезных в XVI–XVII веках.
Менее известны (но не менее значимы для истории архитектуры) исследования В.В.Кавельмахера в 1970-х годах на его «собственном» объекте – Введенской церкви на Подоле (1547 год, перестроена в 1621 году) [5]. Был обнаружен обломок оконного наличника в форме розетки, схожей с окнами церкви Рождества Богородицы в Московском Кремле (1393 год) и Успенского собора «на Городке» в Звенигороде (рубеж XIV и XV веков). В связи с этим исследователь показал, что Введенская церковь – «реплика» Духовской (1476 год). На базе этих исследований В.В.Кавельмахером была разработана реконструкция первоначального вида Духовской церкви4.
Кроме работ по Пятницкой и Введенский церквям, В.В.Кавельмахер исследовал и храмы самой Троице-Сергиевой Лавры («нелегально», так как этому препятствовал В.И.Балдин). В начале 1970-х годов В.В.Кавельмахер (совместно с Е.Е.Гущиной) предложил реконструкцию первоначального вида монастырской трапезной палаты (1686–1692 годы) [2]. Исследователь также детально проработал черты сходства Успенских соборов в Лавре (1559–1585) и Московском Кремле (1475–1479 годы) [1]. В будущем эти исследования были использованы В.В.Кавельмахером при реконструкции первоначального вида Успенского собора Фиораванти, о чем речь пойдет ниже.
Написанная в середине 1980-х годов (и опубликованная значительно позже – в конце девяностых [6]) работа по датировке Никоновской церкви Лавры (часто называемой Никоновским приделом Троицкого собора) 1623 годом достаточно спорна. Здесь В.В.Кавельмахеру не удалось использовать свой главный «козырь» – умение безошибочно «читать кладку»: он не был допущен на объект и был вынужден ограничиться анализом стилистических особенностей храма. И если датировка верха Никоновской церкви XVII веком абсолютно справедлива, то относительно белокаменного четверика, декор которого схож с декором Введенской и Духовской церквей, существуют серьезные сомнения в поздней датировке7. Но мы ни в коем случае не будем умалять значимость этой работы В.В.Кавельмахера: в ней проведено фундаментальное исследование деятельности троицких мастеров первой половины XVII века, в том числе известного «подмастерья Елисея».
К сожалению, практически неизвестным научной общественности осталось открытие В.В.Кавельмахером древней Никольской церкви в селе Черленкове Шаховского района М.О. [11, 12]. Работая в 1970-х годах с актами Иосифо-Волоколамского монастыря, исследователь нашел упоминание об этом храме, выехал «на место» и выяснил, что большая четырехстолпная церковь XVI века (частично перестроенная в XIX веке) дошла до наших дней в относительно высокой степени сохранности, но не была включена ни в один справочник по памятникам архитектуры.
В.В.Кавельмахер провел натурное исследование черленковского храма и его консервацию, на основании актовых записей датировал его между 1543 и 1562 годами, а также показал, что это был собор небольшого монастыря, «приписанного» к Иосифо-Волоколамскому.
В самом Иосифо-Волоколамском монастыре В.В.Кавельмахер в семидесятых–восьмидесятых годах всесторонне исследовал строительную историю колокольни (церковь Одигитрии, 1495 год; перестраивалась в 1671–1672 и 1692–1694 годах, разрушена в 1941 году) [18]. Также заслуживает внимания его работа, посвященная одной из иосифо-волоколамских памятных плит [19, 20]. Эта плита послужила «информационным поводом» для исследования истории рода Полевых, тесно связанных с монастырем.
Пожалуй, можно сказать, что известность в широких кругах научной общественности В.В.Кавельмахеру принесли проведенные им в 1977 году совместно с М.Б.Чернышевым раскопки Борисоглебского собора в Старице (1558–1561 годы, разобран в начале XIX века). Несмотря на «локальность» основного вывода исследователей – доказательства происхождения знаменитых керамических панно на Успенском соборе в Дмитрове (начало XVI века) из разрушенного в XIX веке старицкого Борисоглебского собора – эти исследования получили значительный резонанс, и на эту тему В.В.Кавельмахером и М.Б.Чернышевым в 1980-х годах было сделано несколько научных докладов [8]. Впрочем, полномасштабной публикации эта работа до сих пор не дождалась6.
Еще одна известная работа В.В.Кавельмахера (1980-е годы) – датировка церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове [25, 26]. Исследователь подверг критике существовавшие в литературе аргументации датировок храма как 1529 годом, так и второй половиной XVI века, и на основании записи в клировой летописи предположил существование на месте дьяковской церкви более раннего моленного храма 1529 года (Зачатия Иоанна Предтечи с приделами). Полагая, что обетная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделами апостола Фомы и Петра Митрополита на Старом Ваганькове сгорела в пожар 1547 года, он обосновал высокую вероятность переноса ее престолов, не встречающихся более на Ваганькове, в Дьяково. Соответственно, В.В.Кавельмахер датировал дьяковскую церковь рубежом 1540-х и 1550-х годов.
Необходимо отметить, что в конце 1990-х годов В.В.Кавельмахер стал придерживаться несколько более поздней датировки дьяковской церкви, считая ее полной современницей собора Покрова на Рву (1555–1561 годы)7. Но, конечно, вопросы архитектурно-стилистического позиционирования уникальной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи требуют дальнейших исследований8.
В конце 1970-х–начале 1980-х годов В.В.Кавельмахер совместно с А.А.Молчановым провел масштабные раскопки Старо-Никольского (ныне Петропавловского) собора в Можайске (XIV век, полностью перестроен в XIX веке) и Воскресенского собора в Волоколамске (конец XV века) [9], а совместно с С.П.Орловским – Успенского собора в Коломне (около 1380 года, полностью перестроен в 1672–1682 годах) [10]. Отметим, что эти (как и все остальные) археологические исследования В.В.Кавельмахер и его коллеги проводили «на общественных началах» и лично, без привлечения какой-либо «рабочей силы».
В Волоколамске и Можайске исследования позволили существенно уточнить первоначальный облик храмов. В Коломне было сделано открытие, чрезвычайно важное для истории древнерусской архитектуры: были обнаружены резные белокаменные блоки, принадлежавшие зданию, более раннему, чем Успенский собор Дмитрия Донского. Кроме этого, исследователи доказали, что дополнительным перестройкам (в XVI веке, как полагали Б.Л.Альтшуллер и М.Х.Алешковский9) Успенский собор не подвергался.
Археологические исследования В.В.Кавельмахера и С.П.Орловского также показали, что реконструкция плана и, соответственно, первоначального вида Успенского собора Н.Н.Воронина10 более адекватна, чем Б.Л.Альтшуллера и М.Х.Алешковского. К сожалению, эти выводы остались неопубликованными11.
Еще одна значительная работа В.В.Кавельмахера – церковь Рождества Христова в Юркине (начало XVI века) [27, 28]. Проводя в 1970-е годы консервацию храма, он его всесторонне исследовал. В то время «классическая» датировка памятника – до 1504 года – ставилась под сомнение Л.А.Давидом, предполагавшим принадлежность храма творчеству Алевиза Нового, приехавшего в Москву в 1504 году. Но В.В.Кавельмахер, исследовав историю рода храмоздателей Голохвастовых, показал, что наиболее адекватной датировкой является «классическая», и подтвердил принадлежность храма «доалевизовской» традиции.
В последние годы, в связи с исследованиями В.В.Кавельмахером связей древнерусского и западноевропейского зодчества, в научных кругах сложился стереотип восприятия ученого как «оксиденталиста». Но работа, посвященная Юркину, опровергает этот стереотип: В.В.Кавельмахер обосновал среднеазиатские корни крещатого свода (впрочем, вопрос генезиса этого феномена древнерусского зодчества остается открытым12).
К сожалению, до сих пор неопубликованными и исключенными из научного оборота остались открытые раскопками В.В.Кавельмахера в 1980-е годы под позднейшими постройками остатки двух белокаменных церквей XVI века – в селах Синькове (Раменский район М.О.) и Сипягине (Подольский район М.О.)13.
В начале 1980-х годов В.В.Кавельмахер приступил к фундаментальным исследованиям древнерусских колоколов и колоколен [13, 14, 15, 17]. Пожалуй, основным его открытием в этой области был «очапный» древнерусский звон (путем раскачивания колоколов). Кроме того, в этих работах была развернута цельная картина русского колокольного звона и проведен обзор архитектуры древнерусских колоколен (особое внимание уделялось Ивану Великому, который, как и другие кремлевские храмы, В.В.Кавельмахер исследовал при дружеской помощи сотрудников Музеев Кремля, вопреки противодействию главного архитектора Кремля В.И.Федорова). Были также исследованы большие благовестники Москвы, прослежены их исторические судьбы, определены их ктиторы.
В конце 1980-х годов В.В.Кавельмахер совместно с Т.Д.Пановой сделал еще одно исключительно значимое открытие в этой области: исследователям удалось найти в архивах информацию о том, что в 1913 году при земляных работах на Соборной площади Московского Кремля были раскрыты, поверхностно обследованы и сфотографированы остатки белокаменного здания октагональной формы [16]. В.В.Кавельмахер показал, что эти остатки принадлежали первой колокольне Иоанна Лествичника, построенной в 1329 году. В этой работе исследователь также уделил пристальное внимание гипотезе о мемориально-погребальном характере церквей «под колоколы».
Приблизительно тогда же – в конце 1980-х годов – В.В.Кавельмахеру удалось (к сожалению, вновь «полулегально») обследовать чердаки Успенского собора Фиораванти. Выяснилось, что в XVII веке своды памятника были полностью переложены. Это позволило В.В.Кавельмахеру, опираясь на собственные исследования Успенского собора Троице-Сергиева, построенного по образцу храма Фиораванти, разработать реконструкцию первоначального вида московского кафедрального собора [22]. Параллельно был проведен обзор истории реставрации памятника.
На рубеже 1980-х и 1990-х годов В.В.Кавельмахер работал над датировкой собора Смоленской Одигитрии Новодевичьего монастыря [38]. В его работе, посвященной этому вопросу, проведено глубокое исследование истории монастыря, его архитектуры, ктиторов, посвящений церквей и приделов. Особое внимание уделено строительной истории собора Одигитрии, обоснована его датировка рубежом 1560–1570-х годов.
Во второй половине восьмидесятых В.В.Кавельмахер приступил к исследованиям в Александровской14 Слободе и вел их до конца жизни (его работа в Александровской Слободе подробно описана во вступительной статье С.А.Глейбман к настоящему сборнику, а также в статье Н.И.Шириня, приведенной в Приложении 4). Раскопки и зондажи ученого выявили принципиальный факт: Покровский (ныне Троицкий) собор, шатровая Троицкая (ныне Покровская) церковь, Успенская церковь и столпообразная церковь Алексея митрополита (ныне Распятская колокольня) были возведены в одном строительном периоде [29–36]. Это позволило В.В.Кавельмахеру датировать все эти храмы началом–серединой 1510-х годов – временем возведения в Слободе дворца Василия III.
Соответственно, В.В.Кавельмахером был произведен подлинный переворот в истории древнерусского шатрового зодчества, так как ранее первым шатровым храмом считалась церковь Вознесения в Коломенском, а исследователь показал, что шатровая Троицкая церковь в Слободе была возведена существенно раньше.
Научные труды В.В.Кавельмахера, посвященные «Звенигородскому чину» [7] и Георгиевскому собору в Юрьеве-Польском [37], достаточно известны благодаря публикациям конца 1990-х годов в сборнике «Древнерусское искусство».
Исследование происхождения «Звенигородского чина» (трех икон Деисусного чина, найденных в Звенигороде в 1918 году и приписываемых Андрею Рублеву) вновь привело В.В.Кавельмахера в Троице-Сергиев. Исследователю удалось доказать, что «Звенигородский чин» происходил из деревянной церкви Троицы 1411 года, которая в 1476 году была перестроена и сегодня известна нам под названием Духовской. Параллельно в работе было проведено исследование первоначальных алтарных преград звенигородских соборов и Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. В.В.Кавельмахер подтвердил в отношении икон «Звенигородского чина» авторство Андрея Рублева.
Работа, посвященная Георгиевскому собору (1230–1234 годы), – единственное исследование В.В.Кавельмахера, посвященное домонгольскому времени.
Известно сообщение тверского летописца о том, что удельный князь Святослав Всеволодович «сам бе мастер». Н.Н.Воронин оспаривал правильность этого сообщения, ссылаясь на то, что составитель тверского свода мог побывать в Юрьеве, где ему на глаза должна была попасться современная собору надпись на стене храма, сообщающая о поставлении Святославом некоего «креста», и из этого летописец сделал неверные выводы15. В.В.Кавельмахер, доказав, что надпись о деянии Святослава в древности находилась на Троицком приделе, параллельно доказал и то, что летописец не мог так грубо ошибиться и располагал иными данными об авторстве Святослава в отношении Георгиевского собора. Важны и общие замечания В.В.Кавельмахера по поводу истории реконструкций Георгиевского собора.
На рубеже тысячелетий В.В.Кавельмахер исследовал Архангельский [23] и Благовещенский [21, 24] соборы Московского Кремля. Великокняжеской усыпальнице (1505–1508 годы) было посвящено исследование истории храмовых приделов, базирующееся на глубокой проработке вопросов строительной истории собора, документов и общей традиции посвящений престолов. Совместно с А.А.Сухановой исследователь провел зондажи в дошедшем до наших дней подклете Благовещенского собора (XIV век), что позволило сделать адекватную реконструкцию первоначального плана храма.
С конца 1990-х годов В.В.Кавельмахер жил и работал в Германии. В последние годы жизни основной темой его работы были связи древнерусской и западноевропейской архитектуры. Частично эти исследования нашли отражение в работах, посвященных вратам Покровского (ныне Троицкого) собора Александровской Слободы [34], частично остались незавершенными16 (ученый скоропостижно скончался в Мюнхене 29 мая 2004 года).
Никогда в жизни В.В.Кавельмахер не интересовался ни деньгами, ни учеными званиями и степенями, ни наградами. Но для любого ученого лучшая награда – цитируемость научных трудов и признательность потомков. И мы всегда будем помнить, что В.В.Кавельмахер был виднейшим представителем той славной плеяды исследователей, которые превратили историю древнерусской архитектуры из умозрительной дисциплины в науку, основывающуюся на археологической, актовой и исторической фактографии.
В условиях острейшей нехватки первичной архитектурно-археологической информации и нам, и нашим потомкам предстоит вновь и вновь обращаться к бесценным исследованиям того «золотого века» архитектурной реставрации и истории древнерусской архитектуры, в котором посчастливилось жить и работать одному из классиков отечественной науки – В.В.Кавельмахеру.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Научный редактор этой книги выражает благодарность М.Б.Чернышеву за помощь в подготовке информации о реставрационных объектах В.В.Кавельмахера.
2. Подробнее см.: Заграевский С.В. Зодчество Северо-Восточной Руси конца XIII–начала XIV века. М., 2003.
3. По свидетельству С.С.Подъяпольского, в 1975 году В.В.Кавельмахер прочитал на заседании секции изучения и содействия охране памятников Московской организации Союза архитекторов СССР доклад «О времени построения так называемой звонницы Петрока Малого (из истории кремлевских колоколен)», убедительно показав, что взорванная в 1812 году звонница не датировалась первой половиной XVI века и не была построена Петроком Малым (как считалось ранее), а была полностью перестроена во второй половине XVII века (Подъяпольский С.С. Архитектор Петрок Малой. В кн.: Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Стиль, атрибуции, датировки. М., 1983. С. 39).
4. Реконструкция В.В.Кавельмахера первоначального вида Духовской церкви приведена в кн.: Кавельмахер В.В. Способы колокольного звона и древнерусские колокольни. В кн.: Колокола: История и современность. М., 1985. С. 55.
5. Подробнее см. Заграевский С.В. К вопросу о датировке церкви преподобного Никона (Никоновского придела Троице-Сергиевой Лавры). В кн.: Памятники культуры. Новее открытия. 2006 г. (в печати). Статья также находится на Интернет-сайте www.zagraevsky.com.
6. В настоящее время эта рукопись доработана и подготовлена к печати М.Б.Чернышевым.
7. Кавельмахер В.В. О позднеготических истоках и мастерах Покровского собора на Рву, Борисоглебского собора в Старице и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове. Статья была скомпонована научным редактором этой книги из черновых рукописей В.В.Кавельмахера и не вошла в его библиографию. Статья находится на Интернет-сайте www.kawelmacher.ru.
8. В частности, см.: Баталов А.Л. О датировке церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове. В кн.: Русская художественная культура XV–XVII веков. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования. Вып. 9. М., 1998. С. 220-239.
9. Альтшуллер Б.Л. Памятники зодчества Московской Руси второй половины XIV–начала XV веков (новые исследования). Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры. На правах рукописи. М., 1978. С. 33.
10. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1961–1962. Т. 2, с. 202.
11. Итоги этих исследований не опубликованы и известны научному редактору этой книги из личных бесед с В.В.Кавельмахером.
12. Вопросам происхождения крещатого свода было посвящено специальное исследование научного редактора этой книги: Заграевский С.В. Архитектурная история церкви Трифона в Напрудном и происхождение крещатого свода. М., 2008.
13. Итоги этих исследований известны научному редактору этой книги по материалам архива В.В.Кавельмахера. Планируется их публикация.
14. Варианты названия Слободы – Александрова и Александровская – в современной научной и популярной литературе сосуществуют на практически равных правах. До 1778 года – официального переименования в город Александров – Слобода называлась Александровской (Российский энциклопедический словарь. М., 2000. Т. 1, с. 40). В XIX веке употребительной стала форма «Александрова Слобода», и это название использовали многие историки архитектуры, в том числе и В.В.Кавельмахер. Но научный редактор этой книги полагает, что более верным с исторической точки зрения является вариант «Александровская»: это исконное название города Александрова впервые прозвучало в знаменитом сообщении «Троицкого летописца» под 1513 годом именно так – «Новое село Олександровское» (ОР РГБ. Ф. 304. Ед. хр. 647. Л. 4,4 об.). Таким образом, в текстах В.В.Кавельмахера, приведенных в настоящем сборнике, мы сохранили написание «Александрова», в прочих текстах (за исключением цитат) мы называем Слободу Александровской.
15. Воронин Н.Н. Указ. соч., с. 122.
16. Одна из таких работ – «Покровский собор Александровой Слободы и его место в истории русской архитектуры XVI в.», скомпонованная научным редактором этой книги из черновых рукописей В.В.Кавельмахера, вошла в настоящий сборник.
С.В. Заграевский
профессор, доктор архитектуры
ДОБРЫЙ ГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЛОБОДЫ
Несколько десятилетий подряд с конца 60-х годов прошлого века в переполненную электричку «Москва – Александров» садился высокий, бородатый человек, выделявшийся среди пассажиров неординарной внешностью, легкой небрежностью в одежде, внутренней сосредоточенностью. Он вез из столицы в провинциальный город не набитые продуктами сумки, а всего лишь видавший виды потертый портфель, в котором лежали молоток, рулетка, записная книжка да чертежи.
По этой живописной дороге на север, где чередой выстроились старые русские города – Сергиев Посад, Ростов, Ярославль, – он спешил по выходным на встречу с древней Александровской Слободой, знаменитой опричной столицей Ивана Грозного. Там ждали его белокаменные загадки, тайны, открывавшиеся только ему одному, тяжелый физический труд, бывший не в тяжесть, а в наслаждение.
Звали этого человека Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер, в кругу же хороших знакомых и друзей он был известен как просто Вольф.
Архитектору-реставратору по профессии, Вольфу, много десятков лет проработавшему в «Мособлстройреставрации», пришлось соприкоснуться практически с самыми выдающимися памятниками московского и раннемосковского зодчества. Он исследовал храмы XIV–XVI вв. в Можайске, Волоколамске, Коломне, Сергиевом Посаде, Звенигороде; работал над датировкой памятников Троице-Сергиевой лавры, Иосифо-Волоколамского и Новодевичьего монастырей, занимался вопросами строительной истории и реконструкции первоначального вида соборов Московского Кремля. Александровская Слобода среди них была не просто «объектом». Она стала его душевной привязанностью еще со студенческих времен. Однажды, направляясь в Ростов, он неожиданно для себя сошел с поезда на шумном вокзале в Александрове и впервые увидел поразивший его навсегда древний Александровский кремль. На его территории тогда причудливо сосуществовали жилой поселок «Заря» и краеведческий музей. Потом он много слышал об уникальных памятниках Слободы от известного реставратора П.Д.Барановского, под руководством которого ему посчастливилось работать; читал о них в архивах издания XIX в., ведь Александровская Слобода, где историей была «уготована богатая жатва для зодчего, археолога и историка», давно привлекала внимание любителей старины. Подружившись с научным сотрудником музея А.А.Масловским, изучал в музейной библиотеке неопубликованные рукописи исследователей слободского ансамбля в советское время: профессора А.И.Некрасова и архитектора-реставратора П.С.Полонского.
Именно благодаря им, по мнению Вольфа, «легендарный туман» вокруг памятников рассеялся. А.И.Некрасов одним из первых оценил масштаб происходившего в Слободе начала XVI в. «Памятники Александровской Слободы – не какие-нибудь провинциальные сооружения, а стоят в первых рядах столичных памятников зодчества и художественно, и идейно», – отмечал он.
За свою долгую жизнь выдающиеся памятники неоднократно подвергались переделке, – и для Вольфа, пытливого исследователя, сюжетов, достойных внимания в Александровской Слободе, возникло множество: и первоначальный облик каждого уникального сооружения, и общий вид всей грандиозной загородной царской резиденции, и атрибуция древнего ансамбля, и его исполнители. В самом начале пути архитектор не предполагал, как много удастся ему найти и предъявить современникам удивительных свидетельств неповторимости ансамбля Александровского кремля: «италианский» портал домового царского храма, росписи под паркет дворцовой палаты, белокаменные резные розетки, столбы изысканной двухъярусной галереи дворцового храма на женской половине дворца и многое другое. И, наконец, обобщив исследования, заявить об обнаружении в Александровской Слободе нового неизвестного для науки памятника дворцового зодчества XVI в. – Государева двора.
От музейных сотрудников в Александрове на первых порах он просил только одного: «Дайте мне лестницу, и побольше». По ней он взбирался на шатер древнего храма, проникал на средневековые чердаки, с ней обследовал глубокие мрачные подвалы, делал зондажи. Иногда стук его молотка слышали целый рабочий день.
Более полно приступить к обследованию всего комплекса Вольф смог лишь тогда, когда во главе музея в 1984 г. стала А.С.Петрухно. Закончив зондажи в Распятской церкви-колокольне, архитектор в приподнятом настроении писал своему другу: «А.С.Петрухно я обязан навеки. Я мечтал о нем (зондаже) 20 лет. Теперь все проблемы этого сооружения решены! Теперь я впервые счастлив».
Самое гигантское сооружение Александровской Слободы – Распятская церковь-колокольня – давно занимало воображение исследователя. Вольф никак не мог поверить, что колокола, привезенные Иваном Грозным из новгородского похода, могли разместиться на площадке звона дошедшего до нас здания. Версии ученых о второй башне, в поисках которой вокруг памятника не осталось «живого места», пришлось отвергнуть. Мысль о многопролетной звоннице, в колокола которой можно было звонить с земли, приходила неоднократно. Как-то в очередной, может быть, сто первый раз, обходя здание колокольни, Вольф вновь задумался о назначении ее девятого столба, обратив внимание на две обрубленные металлические связи, исходившие из остатков столба строго на запад. Они-то и указали на место будущих раскопок в поисках утраченной части колокольни. «Мои раскопки дали мне все, что я желал получить: размеры и глубину фундаментного рва древней звонницы. Для профана это скучно. Для меня – наслаждение, потому что это наше великое сооружение и очень древнее. Сегодня это старейшая шатровая колокольня, и с самым сложным планом».
Догадки архитектора-практика, основанные на открытиях предыдущих исследователей и подтвержденные археологическими изысканиями, позволили сделать реконструкцию здания, бывшего первоначально на месте Распятской. Оно упоминалось в документах как церковь Алексея митрополита. Это небольшое, восьмигранное в основании, столпообразное сооружение времени отца Ивана IV, великого московского князя Василия III, оказалось почти нетронутым спрятано в стенах грозненской колокольни.
Так началось выявление В.В.Кавельмахером в толще сохранившихся сооружений грозненской резиденции самых ранних ее шедевров, с открытием огромного ряда уникальных, нигде более не встречаемых, деталей интерьера загородного дворца московских государей начала XVI в.
Читая во владимирских и московских архивах отчеты о перестройке Александровского кремля во второй половине XVII в. для нужд основанного здесь Успенского монастыря, Вольф понял, что каменных дел подмастерье Никита Корольков, переделывая церковь Троицы на дворце под церковь-трапезную, также не разрушил, а закрыл, спрятал ненужную в скромном монастырском быту роскошь государевых построек. Зондажи, сделанные архитектором в этом памятнике, дали потрясающий результат – открылся западный портал фряжского типа с оригинальным навершием в форме сноповидного вала с валиками, покрытыми растительным орнаментом. Наметанный глаз знатока белокаменной резьбы уловил отсутствие некоторых деталей. Поверив в бережное отношение Никиты Королькова к декору бывшего дворца, Вольф попробовал отыскать одну из них в забутовке юго-восточного столба трапезной и не ошибся. Великолепная белокаменная деталь в форме моллюска лежала там три столетия целехонька!
Чем больше уникальных деталей интерьера открывал архитектор в слободских памятниках, тем больше утверждался во мнении, что настоящим строителем Александровской Слободы был великий московский князь Василий III, по повелению которого здесь создавался грандиозный архитектурный ансамбль – Государев двор.
Все убеждало Вольфа в этом: единые, найденные во всех четырех сохранившихся памятниках строительные материалы, железо, кровельная черепица, единое колористическое решение фасадов (красные стены и барабаны, белокаменные подклеты, апсиды и черные кровли), итало-готическая белокаменная резьба порталов, поясов, карнизов. Таким образом, единственная известная по источникам дата – 11 декабря 1513 года – об освящении одного памятника древней Слободы, соборной церкви Покрова, могла быть отнесена ко всему ансамблю в целом, тем более, что в том же богослужебном сборнике говорилось далее: «тогды ж князь великий и во двор вшел».
Со времени Василия III в Слободе принимались послы, кипела дипломатическая работа, и строительство в ней роскошного загородного каменного дворца хорошо вписывалось также в историческую ситуацию.
При подобном толковании событий становился понятным и выбор царем Иваном IV через полстолетия Александровской Слободы как новой политической столицы. «Вот почему, покидая в 1564 г. Москву, царский поезд (Ивана IV – С.Г.) повернул на север в Слободу, где царя и его семью всегда ждал готовый к приезду комфортабельный и надежно укрепленный дворцовый ансамбль»… «Невозможно было предположить, что дворец, его «анфилады» – столовая и тронная залы, его парадные покои – все это возводилось заново при Иване IV». Безусловно, царь Иван предпринял в Слободе масштабные перестройки (об этом свидетельствует Распятская колокольня – выдающийся памятник эпохи опричнины), но без сооружения новых церквей.
Таков был ход размышлений архитектора и историка архитектуры.
Свои выводы об опыте реконструкции выдающегося архитектурного ансамбля России исследователь вынес на суд научной общественности. В июне 1993 года в Александровском музее при участии А.И.Комеча, С.С.Подъяпольского, Л.И.Лифшица состоялось заседание секции древнерусского искусства Института искусствознания Министерства культуры РФ, после которого многолетие исследования архитектора получили высокую оценку. «Они не только пополнили наши сведения очень существенными открытиями и наблюдениями, но и вернули этот замечательный ансамбль в центр внимания историков русского зодчества», – писал позднее С.С.Подъяпольский.
Новая интерпретация Вольфом давно известных памятников способствовала повышению интереса к Александровской Слободе, ее историко-культурному наследию в самых разных научных кругах: среди историков, археологов, архитекторов, реставраторов, экологов и т.д. Появились студенты московских вузов, желавшие пройти практику в Александровском кремле, и даже защитить дипломную работу по теме «Государев двор в Александровской Слободе».
Немалую роль сыграл В.В.Кавельмахер и его исследования в развитии и преобразовании Александровского музея в музей-заповедник «Александровская Слобода» федерального значения. Он писал в защиту Слободы взволнованные и страстные письма министру культуры Е.Ю.Сидорову и заместителю министра Н.Л.Дементьевой, неоднократно участвовал в многочисленных кабинетных заседаниях самого высокого уровня, на которых решалась судьба музея; наглядно пропагандировал совместно с музеем все заново открытое всеми доступными способами: публикациями, макетами, экспозиционным показом зондажей.
По выполненным Вольфом графическим реконструкциям древних памятников ансамбля для экспозиции «Государев двор в Александровской Слободе» в Московском архитектурном институте сделаны два замечательных макета (церковь Алексея митрополита и церковь Троицы). В них наглядно воплотились представления гениального архитектора о невиданных, почти диковинных сооружениях загородной государевой резиденции, выстроенной в европейском стиле, возможно, теми же мастерами, что создавали Большой Кремлевский дворец в Москве.
В печати статьи В.В.Кавельмахера о Государевом дворе появлялись неоднократно. В 1995 г. вышел его авторский сборник «Памятники архитектуры древней Александровской Слободы», программная статья которого «Государев двор как памятник дворцовой архитектуры», значительно переработанная, вошла затем в новое издание записок о России датского посланника Якоба Ульфельдта. Эта публикация дополнена исследованиями конца XX в. и анализом единственного известного науке графического изображения грозненской Слободы – гравюр из книги Ульфельдта. С присущей ему литературной одаренностью Вольф вновь популяризирует в ней выдающийся ансамбль, рассчитывая уже не только на российских читателей, но и на специалистов-историков Северной и Восточной Европы.
Последние годы Вольф жил в России и Германии. «Жить на две страны и разорительно, и трудно», – признавался он, но всегда стремился летом приехать на раскопки в Слободу. Обязательно, несмотря на свои 70 лет, спускался в раскоп, будь то разрез двухметрового вала или глубокий колодец, с пристрастием осматривал и комментировал все археологические находки. С полной уверенностью можно сказать, что каждый древний памятник Александровской Слободы Вольф прослушал, простучал, обласкал своими чуткими, крепкими руками и благословил на долгую новую жизнь.
Многое из того, о чем он писал в долгосрочных проектах реставрации ансамбля, осуществилось. Как и мечтал Вольф, центральным архитектурным экспонатом музея-заповедника, визитной карточкой ансамбля является шатровая Покровская церковь. В памятнике очищен от побелок и реставрирован руками профессиональных художников белокаменный интерьер царского домового храма; полностью раскрыта архитектура двух древних подклетов – чудом уцелевших дворцовых палат; западный фряжский портал, архитектурные белокаменные детали и зондажи демонстрируются для обозрения, равно как и макеты двух прекрасных памятников Государева двора.
В сохранившемся пространстве и воссозданных интерьерах подлинного сооружения далекого XVI в. впечатляюще рассказывают об особой роли Слободы в истории России семь экспозиций и выставок. И на каждой из них огромное число людей, ежедневно бывающих в музее, с неизменным любопытством и благодарностью всматривается в причудливые фрагменты древней архитектуры, открытые для всех и навсегда удивительным человеком Вольфгангом Вольфганговичем Кавельмахером, добрым гением Александровской Слободы.
С.А. Глейбман
Музей-заповедник «Александровская слобода»
Ранее опубликовано в газ. «Александровский голос труда», № 45, 10.11.2004, с. 4.
Сборник научных трудов
Посвящается директору Александровского музея Алле Сергеевне Петрухно, подарившей автору уникальную возможность завершить свою часть нелегкого труда по исследованию памятников Слободы.
ГОСУДАРЕВ ДВОР В АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЕ
КАК ПАМЯТНИК РУССКОЙ ДВОРЦОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ1
Остатки дворцового комплекса Александровой Слободы – ценнейший памятник архитектуры XVI в., сохранившийся в стенах провинциального Успенского монастыря г. Александрова. До нашего времени дошли три дворцовые церкви на погребах и подклетах, пять смежных с ними малых палат, или комнат, церковь «под колоколы» и часть окружавших Государев двор крепостных валов. Археологическими раскопками на территории Государева двора вскрыты фундаменты многочисленных палатных построек.
Имевший вид укрепленного замка, Государев двор был заложен в шести верстах от Старой, или Великой, Слободы Переяславского уезда, в Новом селе Александровском. Строительство началось сразу после завершения Большого Кремлевского дворца в Москве, т.е. после 1508 г. Закончив свой московский двор, Василий III перебрасывает освободившиеся строительные кадры в семейные вотчины и уделы. В первую очередь он украшает новыми постройками свой осенний троицкий путь. В Троице-Сергиевом монастыре он строит обращенные в сторону Слободы кирпичные Святые ворота с надвратной церковью Сергия и ктиторским приделом Василия Парийского, а в конце пути заново возводит свою главную загородную резиденцию – Государев двор с соборной церковью Покрова. Память Сергия великий князь празднует в Троицком монастыре, а Покров – в Слободе, проводя осень в пирах и охотах. В походах его сопровождают двор и великая княгиня. Строительство на обоих концах пути велось одновременно: в 1509 г. был заложен Государев двор с огромной церковью в преддверии дворца, а осенью 1512 г., когда дворец вчерне был закончен и шла его отделка, – Святые ворота. Освящение дворца и ворот происходило с 11 по 15 декабря 1513 г. 11 декабря была освящена Покровская церковь, а 15-го – Святые ворота. В промежутке между этими датами, в течение трех дней, справлялось новоселье. Дошедшая до нас запись на пустых листах троицкого служебника об освящении 11 декабря Покровской церкви заканчивается многозначительной фразой: «Тогды ж князь великий и во двор вшел»2.
Что представлял собой Государев двор, когда в него вошел великий князь? Какие из перечисленных зданий его составляли?
В литературе утвердилось мнение, что из четырех названных церквей и трех изображенных на современной гравюре с видом Слободы палат к эпохе Василия III относятся только Покровская церковь и небольшая столпообразная церковь «под колоколы» Алексея митрополита, выявленная в 40-е гг. нашего века архитектором П.С. Полонским внутри Распятской колокольни. Все остальные здания – в первую очередь домовые церкви Троицкая на Дворце и Успенская в Буграх (название позднее), а также три большие палаты – принято без достаточных оснований относить к так называемому «опричному» периоду в жизни Слободы, к эпохе Ивана Грозного. Последнее не находит подтверждения. Все четыре церковных здания и часть раскопанных палат построены в одно время, из материала сходных кондиций (белый камень и кирпич одного стандарта, однородное связующее, идентичное «якорное», без обухов, связное железо), в технике смешанной кладки, в едином итальянизирующем «графическом» стиле русской придворной архитектуры XVI столетия, с применением одних и тех же узлов и деталей. Из белого камня выложены погреба, подклеты, нижние части стен, столбы наружных ограждений и весь архитектонический декор этих зданий – цоколи, порталы, лопатки, капители и накрывные элементы карнизов; из кирпича – так называемые «верхи» – стены от уровня пят сводов, сами своды (в том числе своды двух жилых подклетов), подкупольные столбы, барабаны, закомары и кокошники, второстепенные элементы декора и оконные обрамления. Использовался кирпич и как декоративный материал. Принцип его использования уникален: между белокаменными лопатками церковных прясел, начиная от цоколя и выше, включая поле закомар, на всех четырех зданиях помещены чисто выложенные кирпичные инкрустации в виде прямоугольных или арочных впадин, с кирпичными же вокруг них ковчегами3. Размеры инкрустаций свидетельствуют, что весь ансамбль выстроен в одном модуле. Так, фасадные инкрустации нижнего яруса Покровского собора и двух его приделов равны (по высоте) фасадным вставкам четверика шатровой Троицкой церкви (5,2 м), а фасадные вставки ее Федоровского придела – инкрустациям цокольного яруса подколоколенной церкви (3 м). Кратные отношения наблюдаются и между наружными параметрами зданий; например, ширина четверика малой крестовокупольной Успенской церкви равна половине четверика большого собора и т.д.
Все узлы и детали слободских церквей отчетливо унифицированы. Корытообразными ковчегами или филенками обработаны белокаменные лопатки Троицкой и Успенской домовых церквей и простенки папертей Покровского собора. Венчающие тяги и капители имеют повсюду один и тот же, восходящий к классическому антаблементу трехчастный профиль. На всех зданиях повторяются наборы цокольных профилей. Все выступающие белокаменные элементы скреплены однотипными скобами4. Однако самым замечательным универсальным приемом, использованным при создании ансамбля, остается изначально открытый характер его кладок – будь то белый камень или кирпич. Облицованные натуральным белым камнем и красным кирпичом стены храмов и палат в момент их постройки (и долгое время спустя) не красились и не белились. В основе колористического решения целого архитектурного комплекса лежал, таким образом, естественный контраст между кирпичным фоном стен и элементами белокаменного декора. Подкрашивались белым левкасом только выполненные из кирпича второстепенные части этого декора, как то: нижние членения карнизов, оконные наличники и архивольты кокошников и закомар. Из-за обилия красных кирпичных вставок, красных барабанов и огромных красных закомар постройки Государева двора должны были восприниматься современниками как «кирпичные». Подобная, открыто западноевропейская стилистика дворца свидетельствует о его единовременном создании, причем задолго до опричнины.
Различались постройки Слободы между собой только объемом и качеством покрывающей их элементы оригинальной «фряжской» резьбы, однако стиль этой резьбы (если не считать специально скопированных с собора Троице-Сергиева монастыря орнаментальных поясов Покровского собора) – единый.
Все храмы Слободы, за исключением церкви «под колоколы», поставлены на подклеты и снабжены папертями трех типов: у соборной церкви – каменные, крытые тесом; у Успенской – каменные, с каменными же сводами; у Троицкой, некогда стоявшей в центре жилой хоромной части дворца, – деревянные. Что касается церкви «под колоколы» Алексея митрополита, то она, будучи бесподклетным, поставленным на землю сооружением, получила тем не менее в интересах всего ансамбля и ложный подклетный ярус, и ложную оригинальной архитектуры паперть со звонницей и лестничным ризалитом (см. статью «Новые исследования Распятской колокольни Успенского монастыря в Александрове» в настоящем сборнике). Данная особенность памятника находит подтверждение в известной гравюре из книги Я. Ульфельдта, где все здания Государева двора, кроме подколоколенной церкви, соединены между собой деревянными переходами.
Все три дворцовые церкви выстроены с приделами и смежными палатами, а Троицкая и Успенская – даже с погребами, что более всего говорит о едином утилитарном замысле строителей. Об архитектуре утраченных больших палат мы имеем возможность судить по извлеченным из раскопок фрагментам, а также на основании знакомства с архитектурой жилого теплого подцерковья домовой Троицкой церкви, состоящего из двойного подклета со сводами красивого рисунка, профилированными импостами под распалубками и резными белокаменными розетками в сводах. Один из сводов, тот, что непосредственно под храмом, расписан кирпичным паркетом по левкасу. Об исключительном богатстве разобранных в монастырский период дворцовых палат косвенно говорит серия подписных замковых розеток в сводах игуменской (или гостевой?) части монастырских келий, явно копирующих какие-то не дошедшие до нас дворцовые постройки.
Фасадные решения восьми церковных объемов (в Слободе было четыре основных церкви и четыре придельных) различаются в зависимости от типа перекрытия. Оба крестовокупольных храма – Покровский и Успенский – были перекрыты по закомарам; четыре бесстолпных придела5 с бесстолпной же домовой Троицкой церковью и колокольня заканчивались массивными некрепованными карнизами с кокошниками. Храмовые верхи этого пышного церковного ансамбля являли картину редкого в нашей архитектуре разнообразия. Если соборная и Успенская церкви и два соборных придела были увенчаны обычными барабанами (барабан Покровской церкви был при этом одним из самых больших в России – 7,2 м в диаметре, а барабан одного из приделов был встроен в соборную закомару), то оба средней величины бесстолпных храма – домовая Троицкая и столпообразная подколоколенная церкви – имели оригинальные, ранее в русской архитектуре не встречавшиеся завершения: церковь Алексея митрополита была купольной, а церковь Троицы – шатровой. Эти новшества говорят об экспериментальном характере небывалого в нашей истории дворцового строительства. В опричный период, при Грозном, оба храма подверглись перестройке. К шатровой Троицкой церкви была пристроена напоминающая дворцовую залу трапезная на погребе и подклете, а церковь Алексея митрополита была обращена в колоссальный шатровый столп-часозвоню. Строительный материал этого периода – почти исключительно кирпич, однако стиль перестроенных сооружений при этом соблюден полностью. Поскольку известно, что реконструкция церкви «под колоколы» была вызвана необходимостью поместить при ней вывезенный из разгромленного Новгорода 500-пудовый Пименовский колокол (для чего при новом здании была выстроена огромная звонница на столбах), мы получаем возможность датировать новый строительный период в жизни Слободы 70-ми гг. XVI в. К 70-м гг. должна быть отнесена и фресковая роспись Покровской и Троицкой церквей (Успенская и Алексеевская дворцовые церкви никогда не расписывались).
Таким образом, имевшая место в опричный период и вскользь отмеченная источниками6 реконструкция Государева двора получила в процессе исследования всестороннее подтверждение, однако объем нового строительства оказался при этом не столь значительным. Две из четырех дворцовые церкви, ранее относимые нашей наукой ко второй половине XVI в. (и как казалось, с полным основанием ввиду их шатровой формы), в действительности оказались всего лишь перестроенными сооружениями – с явными признаками не одного, а двух строительных периодов. Поскольку Слобода после смерти в 1581 г. царевича Ивана Ивановича была навсегда оставлена Грозным, серьезных оснований для выдвижения каких-либо иных датировок не остается.
Что касается приписываемой эпохе Ивана Грозного Успенской церкви, то поводом для этой достаточно произвольной атрибуции (Троицкая и Успенская церкви построены одной рукой – одна на половине великого князя, другая – на половине великой княгини) послужила поздняя монастырская легенда, согласно которой вблизи северного Никольского придела Успенского храма существовал особый (чуть ли не «опричный») двор с палатой – будто бы самого Ивана Грозного, жившего в Слободе келейно. Источник этой легенды ясен. В писцовых книгах Переяславского уезда 20-х гг. XVII в. имеется одна и та же загадочная фраза о некоем приделе Николая чудотворца. После обычного «...город осыпной..., а в нем храм каменный Покров пресвятые Богородицы...» следует: «В городе же в осыпи место, что бывал Государев двор, придел Николая чудотворца, Живоначальные Троицы, Алексея митрополита, Успения пресвятые Богородицы...» В данном описании вызывают недоумение три момента. Во-первых, писцовые книги как бы отделяют Покровскую церковь от Государева двора, хотя по логике вещей и согласно известию 1513 г. она должна быть его частью. Во-вторых, перечень церквей, составляющих достоверную территорию двора, начинается почему-то с придела, а не с Успенской церкви, при которой этот придел находился. И, в-третьих, церковь и придел в перечне отделены друг от друга.
Всему этому удалось найти объяснение: в Слободе был не один, а два Никольских придела, второй – при той самой Покровской церкви, которую писцовые книги пытаются выделить в особое владение, и с него-то и брал начало Государев двор. В подобном разделении соборной церкви нет ничего необычного. Известно, что городские и архиерейские соборы на Руси сплошь и рядом находились в совместном владении разных общественных институтов или лиц, их представляющих, – ради общей церковной жизни и совместного соборного служения. Лучший пример – Успенский собор в Москве, в строительстве и эксплуатации которого в равной мере принимали участие великий князь и митрополит, государство и церковь. Как и домовый Благовещенский собор на Государевом дворе в Москве, Покровский собор располагался «на сенях», в преддверии дворца, о чем и сегодня воочию говорят его частично сохранившиеся западные «пропилеи» между двумя фланкирующими, суровой архитектуры палатами. Играя в Слободе роль открытой для общественных богослужений соборной церкви, Покровский собор имел, однако, и свою, связанную с особым дворцовым обиходом, внутреннюю, интимную часть – спрятанный в его глубине Никольский придел.
Придел сохранился и доступен изучению. Он расположен внутри алтарей собора – в дьяконнике, и с паперти попасть в него невозможно. В отличие от обычных приделов при алтарях, Никольский придел (в монастырский период он был переименован в Симеоновский) имеет совершенно оригинальное архитектурное решение: его пространственное ядро составляет высокий дьяконник крестовокупольного храма с открытым в него с юга пониженным трехстенным объемом, закамуфлированным снаружи под самостоятельный церковный четверик с крохотной полуапсидкой и световым барабаном (разобран в 20-е гг. XIX в.). Из-за скромных размеров лжечетверика барабан был прислонен к церковной закомаре юго-восточного соборного компартимента вплотную. Дьяконник и придел как бы «врезаются» друг в друга. Причину такой, едва ли не единственной в своем роде, компоновки объемов (позднее этот прием в еще более утрированной форме был повторен в соборе Никитского монастыря в Переславле-Залесском) мы видим в том, что с востока на южную паперть изначально вел особый узкий проход, соединявший здание собора с находившимися за алтарями деревянными палатами, вероятно, государева духовника. Для устройства этого прохода (позднее забранного дверью на подставах) четверик южного придела и пришлось «задвинуть» в дьяконник.
Несмотря на подражательный, заданный по отношению к архитектуре Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря характер, роскошь, с которой построен Покровский собор, не уступает московским дворцовым церквам великого князя. В нем совершенно уникальны вышеупомянутые торжественные «пропилеи» с лестницей, лес круглых, поддерживающих кровлю папертей колонн (с каменными между ними филенчатыми простенками), огромные каменные полуциркульные тимпаны напротив северных и южных церковных дверей (не сохранились, известны по чертежу XIX в.), изощренная резьба порталов и киота и т.д.7 Естественно, что этот главный дворцовый храм Слободы был расписан. Нет сомнений, что святая святых Государева двора – Никольский придел писцовых книг – находился именно здесь.
Из сказанного следует, что в 1513 г. в Слободе был закончен отделкою второй по величине, красоте и богатству Государев двор, или дворец, – с погребами, подклетами и малыми палатами, тронной палатой и несколькими церквями, не говоря уже о множестве деревянных палат и переходов между ними. Вот почему, покидая в 1564 г. Москву, царский поезд повернул из Коломенского на север, в Слободу, где царя и его семью всегда ждал готовый к приезду комфортабельный и надежно укрепленный дворцовый ансамбль, лишь немногим уступавший Большому Кремлевскому дворцу в Москве. Выбор новой столицы был, таким образом, предрешен.
1990–1994 гг.
Примечания
1. Краткое изложение доклада, прочитанного 16 января 1990 г. в ЛОИА на научной конференции «Чтения памяти П.А. Раппопорта, посвященные вопросам изучения древнерусского зодчества». Опубликован в «Информационном курьере» Московской организации Союза архитекторов РФ (М.,1991. №7. С.17–19). Исправлено и дополнено автором.
2. См. там же. С. 21 и далее.
3. Ковчеги двух профилей – в виде глубокой «полки» для нижних ярусов всех зданий и «смягченной формы», в виде «полки», дополненной четвертным валиком, для верхних ярусов, с последующим переходом в закомару.
4. Главы слободских церквей были обиты чернолощеной черепицей типа «бобровый хвост», закомары и кокошники опаяны жестью, а палаты и паперти покрыты тесом.
5. Один из них – северный придел Успенской церкви – был в XVII в. при реконструкции храма полностью (за исключением подклетной части) утрачен.
6. Имеются в виду, прежде всего, свидетельства немцев-опричников И. Таубе и Э.Крузе и Г. фон Штадена о постройке Иваном Грозным в Слободе после новгородского похода двух каменных церквей «с колоколами» и с каким-то «хранилищем под храмом», куда складывалась добыча. Одна из этих церквей, вне сомнения, – Распятская колокольня, другая – церковь Троицы на Дворце с новыми погребом и подклетом. По всей видимости, немцы застали эти храмы в лесах и сочли их вновь строящимися.
7. К сожалению, мы не имеем в настоящее время возможности исследовать этот выдающийся памятник сколько-нибудь подробно. После возобновления в 1991 г. в стенах Александровского музея Успенского девичьего монастыря доступ автора в некоторые важные с археологической точки зрения помещения собора (чердаки папертей и подклеты) был искусственно прекращен.
Ранее опубликовано в кн.: Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы (сборник статей). Владимир, 1995. С. 6-18.
Государев двор в Александровой Слободе
(опыт реконструкции)
О существовании в Московском Кремле громадного ренессансного дворца, построенного европейскими мастерами на рубеже XV–XVI вв., образованная Россия знала по крайней мере со времен Н.М.Карамзина, о существовании второго, загородного, построенного теми же мастерами или их преемниками в Новом селе Александровском (впоследствии – Александровой Слободе), до самого последнего времени не было известно почти никому. И это несмотря на относительную сохранность этих памятников и рано проявленный к ним исследовательский интерес. Последние триста лет остатки дворца – три храма и колокольня, – подобно драгоценным карбункулам, заключены в стены провинциального Успенского девичьего монастыря в г. Александрове – поздней (вторая половина XVII в.), невыразительной архитектуры – и в этом качестве известны буквально всем. Историки и историки архитектуры, писавшие о Слободе, возможно, и догадывались, что перед ними разрозненные здания некогда единого архитектурного ансамбля (выстроенного по специальному проекту с конкретной датой и «государствообразующей» функцией), но по целому ряду причин так и не сумели составить себе о нем понятия. Причин – множество.
Первая, и едва ли не основная, – отсутствие официальных летописных упоминаний об этом событии. Единственный источник, весьма коротко сообщающий о постройке в глубине Переславских лесов дворцового столичного ансамбля, вполне может быть охарактеризован как «частный»: это запись «для памяти», сделанная на полях богослужебного сборника рукою игумена соседнего Троице-Сергиева монастыря Памвы Мошнина, вернувшегося в декабре 1513 г. с новоселья в Новом селе Александровском, где он помимо прочего участвовал в освящении соборной Покровской церкви1. Ни в одном из летописных сводов первых десятилетий XVI в. упоминаний о таком важном событии русской истории, как возведение под Москвой загородной великокняжеской резиденции – Государева двора, нет. Источник сделался известным более ста лет тому назад, но заметного воздействия на науку об Александровой Слободе (в плане архитектурном) так и не оказал. В нем, вопреки ожиданию, содержалась ненужная, как это представлялось в тот момент, даже «избыточная» информация. Памва сообщает об освящении на протяжении двух с половиной недель, с 28-го ноября по 15-е декабря 1513 г., властями Троице-Сергиева монастыря во главе с троицким постриженником, епископом Митрофаном Коломенским нескольких церквей в монастыре и его окрестностях, в том числе – в Новом селе Александровском. Как следует из контекста, и там, и там – и в монастыре, и по селам – в освящении храмов и «двора» участвовал сам Василий III с семьей (великой княгиней), двором, но почему-то без главного «богомольца» великокняжеской семьи – митрополита Варлаама. О самом «новоселье» Памва говорит скороговоркой: «Тогды ж князь великий и во двор вшел», что вполне понятно, ибо для Памвы – игумена, свидетеля и зрителя как бы «сбоку» – главным было не освящение двора, а освящение церквей монастыря, притом вполне замечательного – патрона и небесного «крестного» Василия III – преподобного Сергия Радонежского. Общерусское событие предстает у него как монастырское.
Однако так оно в действительности и было. Сооружение главной загородной резиденции московских государей в 40 верстах от Троице-Сергиева монастыря было, по всем данным, инициировано троицкими монахами. Будущая Слобода родилась в качестве своеобразных «троицких выселок». Об этом говорит архитектура главной соборной церкви, посвящение приделов и церквей и весь принятый в этом месте на протяжении столетия обиход. Вторая функция (после государственной) самого большого за пределами Кремля «гражданского» ансамбля Москвы была, таким образом, богомольной. В передаче Памвы его официальное и государственное значение оказалось естественным образом притушенным. «Государев двор» – термин, эквивалентный европейскому понятию «двор королевский», – не был произнесен игуменом с должной отчетливостью. А вследствие этого у части историографов-любителей возникло ощущение, что речь идет чуть ли не о помещичьей усадьбе. Это неправомерное мнение не изжито и до сего дня.
Вторая причина, помешавшая своевременной кристаллизации исследовательской мысли, – состояние самих памятников, их так называемая «застроенность» (произведенные за столетия переделки и ремонты), но пуще всего – понесенные ансамблем Слободы утраты. В последние десятилетия XVII в. при распространении Успенского монастыря на всю территорию Государева двора (первоначально учрежденный в 50-е гг. XVI в. монастырь занимал небольшую территорию на южной, женской половине дворца) все каменные палаты, составляющие ядро любого европейского королевского дворца или замка, были безжалостно разрушены монастырским духовником игуменом Корнилием (с 90-х годов XX в. – местный преподобный). В результате от собственно дворца остались только две каменных кордегардии с большой парадной лестницей между ними, громадная позднеготическая колоннада вокруг соборной церкви, три теплых подклета на погребах под одной из церквей и каменные холодные погреба с холодными подклетами под другой – все типичные атрибуты великокняжеского дворцового обихода. О размахе завершившегося в 1513 г. слободского строительства косвенно свидетельствуют выдающиеся размеры главной соборной церкви (освященный в том же году Покровский собор был по понятиям своего времени всего лишь вотчинным княжеским храмом, в действительности же являлся третьим по величине зданием средневековой Москвы после Успенского и Архангельского соборов) и роскошь ее отделки. На значимость осуществленного в Слободе замысла указывает также постройка посреди Государева двора против собора столпообразной подколоколенной капеллы со звонничным ризалитом для отпевания умерших дворян и слуг.
Все эти диковинные и совершенно незнакомые историкам русской архитектуры сооружения трактовались – без учета понимания целого – совершенно превратно: кордегардии с лестницей-колоннадой долгое время считались пристроенными к собору позднее, церковь на теплых подклетах и погребах и вторая – на холодных подклетах и погребах – приписывались деятельности Ивана Грозного, перестраивавшего Слободу после новгородского похода, а подколоколенная капелла, впервые открытая исследователями в 40-е годы XX в., еще полвека ждала своей идентификации. Параметры же Покровского собора до Г.Н.Бочарова и В.П.Выголова вообще всерьез не принимались во внимание. Факт большого удаления церквей друг от друга, обнаружившийся после произошедшей в литовское разорение гибели деревянных хоромов дворца, рассматривался как доказательство их разновременности и отдельности, несмотря на феноменальное тождество их архитектуры и строительного материала.
Была еще одна причина, на целое столетие задержавшая развитие науки о Слободе, которая может быть с полным основанием отнесена к числу «роковых» случайностей. В самом конце XVI в. в процессе вышеупомянутой передачи Успенскому монастырю всей территории Государева двора большая соборная церковь Покрова была переосвящена, но не обычным переосвящением, а посредством переноса главного соборного престола в другую теплую домовую церковь тут же во дворе и обратного переноса престола из малой церкви – в большую, чем был совершен нечаянный «топонимический подлог». В источниках это двойное переосвящение никак не отразилось, монастырские власти продолжали получать государеву ругу по старым книгам Казенного приказа (в которые подьячие вовсе не собирались вносить коррективы). Догадаться о совершившемся переосвящении без внимательного изучения самих памятников (хотя бы их фресок) в этих условиях для ученых нового времени оказалось делом невозможным. После знакомства с игуменской записью историки Слободы стали принимать за церковь Покрова 1513 г. небольшой шатровый храм в глубине двора, а нынешний Троицкий собор, открывающий собою крупнейший ансамбль средневековой России, считать постройкою Ивана Грозного. Наиболее скверным последствием данного заблуждения стала утрата ими представления о масштабе события. Воображение исследователей неизменно рисовало вокруг лже-Покровской церкви небольшую деревянную, в очередной раз – почти «помещичью», усадьбу (сельского или городского типа – безразлично) «двора» Василия III «с маленькой буквы». Так сложилась одна из местных топографических легенд о так называемом «начале Слободы». При этом ученых не смущала «ранняя» шатровая конструкция храма (в науке было принято считать, что каменные шатровые храмы не могли появиться в России раньше 1532 г. – год постройки церкви Вознесения в Коломенском).
С трудностями чтения источников связана еще одна постигшая науку неудача. В писцовых книгах, составленных правительством после литовского разорения, подьячие в качестве топографических ориентиров при описании «места» сожженного Государева двора (в границах так называемой «Осыпи» – бывших крепостных стен) приняли расположенные на этой территории дворцовые церкви. Здание большого Покровского собора, имевшего помимо придворного статус «городской» соборной церкви, оказалось из этого перечня искусственно вычленено, а многочисленные в виде отдельных объемов церковные приделы (почему-то кроме одного – Николая чудотворца!) – опущены. С этого-то – Никольского – придела и начиналось, по данным писцовых книг, «место государева двора» (ориентир, во всех отношениях странный!). Ученая попытка отыскать искомое место и стала причиной очередной ошибки, окончательно дезориентировавшей науку. В Слободе на беду оказалось два Никольских придела, местное же предание помнило только об одном: при Успенской церкви в дальней южной стороне двора. Александровские историографы, а за ними и московские ученые посчитали, что Государев двор (по крайней мере, перед Смутой) располагался здесь, на отшибе от основных зданий, в виде «уединенной усадьбы» – теперь уже самого «мятущегося тирана» Ивана Грозного, – между тем как Никольский придел, с которого двор действительно, по-видимому, начинался, находился (случай вовсе не уникальный!) внутри соборной Покровской церкви. Беря в этом приделе свое таинственное «начало», двор затем охватывал всю уставленную церквями территорию в границах пресловутой «Осыпи». Так заключенная в термине «Государев двор» масштабная идея оказалась в очередной раз дезавуированной. Понятие «королевской резиденции» для государя величайшей державы Европы, несмотря на обилие косвенных фактов в виде величины собора и каменных кордегардий при нем, не складывалось.
«Легендарный» туман вокруг памятников Слободы рассеялся только в советское время. В 1924 г. исследователи установили, наконец, каким в действительности было посвящение большого собора, а с ним впервые обрели истинную дату этого архитектурного колосса. Чуть раньше (в 1914 г.) в научном обороте появились гравюры-иллюстрации из книги Я.Ульфельдта, давшие возможность любому исследователю оценить при желании масштаб и контуры ансамбля. Был сделан первый шаг к идентификации всех расположенных на территории бывшего Государева двора сооружений. Одним из исследователей, оценивших масштаб событий 1510-х гг., был проф. А.И.Некрасов. Его рукопись 1948 г., хранящаяся в архиве Государственного историко-художественного музея-заповедника «Александрова Слобода», поныне остается ценнейшим компендиумом знаний по архитектурной истории Слободы. Ее уже почти адекватно читали наши современники Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов, а также исследователь памятников Слободы архитектор-реставратор П.С.Полонский (машинопись его работы также хранится в архиве музея-заповедника) и ярославский ученый-краевед М.П.Куницын.
Однако камнем претковения для всех без исключения историков Слободы оставалась сама ее архитектура, чью тонкую стилистику ученые продолжали (и сейчас продолжают) не понимать. Исследователи упорно не желают видеть в разбросанных на громадной территории (в границах бывшей «Осыпи») церковных зданиях причудливой и одновременно строго унифицированной архитектуры – остатков единого, подчиненного общему замыслу грандиозного архитектурного ансамбля. Ни тождество строительного материала, кирпича, железа, белого камня, кровельной черепицы и т. д., ни единое для всех четырех храмов колористическое решение фасадов (по-европейски открытая снизу доверху фактура кирпичных и белокаменных кладок, белокаменные подклеты и апсиды, красные стены и барабаны и черные «графитовые» кровли), ни итало-готическая резьба церковных порталов, поясов и карнизов не может поколебать их старинной, основанной на случайных свидетельствах иностранцев уверенности, что здания Слободы сооружались не в один, как это видят наши глаза, а непременно – в два приема с разрывом в 50 лет между ними: первая группа зданий – собор и церковь под колоколы – при Василии III, а вторая – две церкви на погребах и подклетах в глубине двора, а также гиганская шатровая столпообразная колокольня, заново возведенная над старой церковью под колоколы (и все, что к ним некогда «примыкало», включая новые деревянные хоромы и «дьячьи избы» и т.п.) – при Грозном, в эпоху опричнины. Таков вердикт, вынесенный самому загадочному русскому «гражданскому» средневековому ансамблю большинством исследователей. Этот вердикт не может не вызвать тревоги и сомнений. Ведь перед нами художественное явление колоссального значения, вполне сопоставимое с королевскими дворами Европы.
Совершенно открытым в течение десятилетий оставался вопрос о снесенных Корнилием палатах, их архитектуре, материале и датировках. Не имея самих палат перед глазами (часто даже не подозревая об их существовании в прошлом, поскольку источники на этот счет хранят молчание), ученые XIX–XX вв. были склонны называть дворец «усадьбой» – по аналогии с усадьбой Коломенское царя Алексея Михайловича, – давая тем самым понять, что весь так называемый «жилой фонд» дворца, за исключением церквей, был первоначально деревянным. Черпаемые из актового материала первой половины XVII в. сведения о достоверно существовавших на территории Государева двора при Михаиле Федоровиче деревянных хоромах поддерживали их в этом убеждении. Подобная, априорная по сути своей, точка зрения не может быть сочтена, тем не менее, беспредметной: все многочисленные подмосковные резиденции Романовых, начиная с «путевых дворцов» в Троице-Сергиеве монастыре и Слободе, в окрестностях Москвы были деревянными. Деревянными, за исключением громадных усадебных церквей, немногих погребов, ворот и кордегардий при них (совсем как в нашем случае!), были и такие крупные подмосковные резиденции, как Коломенское и Измайлово, а также все известные по источникам великокняжеские и царские кельи и «хоромы на приезд» по городам и весям и монастырям – по всему государству. И диктовала подобный выбор материала не нужда, а традиция. Единственным в новейшей русской истории «владетельным князем», пытавшимся построить себе в дальнем Подмосковье каменный замок в самом конце XVI в., считался убежденный западник, конюший боярин Б.Ф.Годунов (Борисов городок на Протве). И только в Московском Кремле и в уделах наукой были зафиксированы наряду с деревянными каменные жилые постройки, в том числе – на боярских дворах. Очевидно, ставить деревянные хоромы и «жилья» в вотчинах в рассматриваемое время было укоренившимся в народе обычаем, выражением некоего привычного стереотипа – дань распространенным во всех слоях общества воззрениям на природу и человека, а вовсе не диктовалось, как часто думают, экономическими причинами. Деревянное жилище в лесном краю запечатлелось в русском сознании, как юрта в сознании кочевника, – на уровне религиозного откровения, как образ своего национального рая, на взгляд же иноземцев это должно было быть знаком недостаточной цивилизованности. Отсюда следует, что вышеизложенные взгляды на природу русского загородного жилища вполне возможны и допустимы, но их рискованно распространять на первую загородную резиденцию, где со времен Василия III принимались послы и кипела дипломатическая работа. Деревянный дворец (даже самый великолепный, в стиле, например, Коломенского) должен был производить на европейцев ущербное впечатление. А потому очевидное отсутствие достоверных следов каменных палат в древнем Коломенском, Острове, Воробьеве, Крылатском и т.п., а также в относительно «новом» Измайлове убеждает нас в обратном. А именно: официальная резиденция московских государей западного типа с каменными палатами для приемов (во все времена, начиная с 1513 г.) была в государстве одна-единственная – и только в Слободе. Ее оставление во второй половине XVII в. (фактический «уход» из нее государей начался, разумеется, значительно раньше), упадок и последующее «невозобновление» имели сложные культурные, религиозные, политические и эстетические – вообще, мировоззренческие – причины, вплоть до изменения стиля жизни. Помимо того, что Слобода была разорена в годы иностранной интервенции, она устарела, потеряла по каким-то неизвестным нам причинам свою привлекательность для августейшей семьи и двора.
В опричнину Слобода была перестроена. Сколь глубоко и как – основной вопрос, волнующий сегодня ученых. Разумеется, – в камне и дереве, с прибавлением новых комнат и палат, но без сооружения новых церквей, что крайне важно. О перестройке Слободы прямых свидетельств не имеется, есть только показания позднего нарративного источника о ее традиционном, по-русски, «возобновлении» в дереве. Старое хоромное строение заменялось свежерубленым, менялся кровельный тес, все «избяное освежалось», и даже, якобы заново, «ставился город», т. е. крепость вокруг Государева двора. В какой мере перестройка коснулась каменных палат, можно лишь догадываться. Предполагать мы вправе, конечно, все. Два дворцовых храма из четырех имеют вид реконструированных еще в древности. Это – церковь под колоколы Алексея митрополита (с начала XVIII в. – Распятская колокольня) и домовая церковь Троицы на теплых подклетах и погребах. Интересно, что оба храма – шатровые, однако конструкции их шатров различны.
Распятская колокольня – выдающийся памятник эпохи опричнины. Сегодня это огромный шатровый столп с несохранившимися часами и четырьмя деревянными циферблатами на четыре стороны света, по сути, – часовая башня или «часобитня» готического пошиба. Узкий, вытянутый, первоначально глухой шатер часовой башни напоминает готические шпили Северной Европы. Русским элементом башни являются ярусы кокошников под звонами. При часобитне, в перевязку с нею, была выстроена огромная звонница на столбах для благовестных очепных колоколов – своих и трофейных – и площадка-ризалит под церковной главой для колоколов «язычных». При своем сооружении Распятская колокольня была поставлена на стены старой гептогональной церкви Алексея-митрополита 1513 г., которая, как показали исследования, была этой тяжестью буквально раздавлена (сейчас церковь-капелла Алексея-митрополита образует внутренний объем Распятской колокольни).
Точная дата постройки нового звонничного комплекса неизвестна, но поскольку на нем (на звоннице) был установлен трофейный новгородский (так называемый «пименовский») колокол, считается, что это произошло после новгородского похода 1570 г. Распятская колокольня в своем сегодняшнем виде свидетельствует о серьезности предпринятых в Слободе в опричнину перестроек. Подколоколенных сооружений подобной высоты и типа на Руси XVI в. не строили, тем более – с «готическим» завершением. Это была воистину «столичная» постройка, долгое время не имевшая себе равных. Знаменитый комплекс Ивановских колоколен во главе с Иваном Великим в Московском Кремле в своем настоящем виде сложился только к 1680 г. Венчающий ажурный «киоск» Распятской колокольни (шатровый восьмерик со звонами) – самый ранний из числа до нас дошедших. До надстройки подобным же «готическим» завершением Спасской башни оставалось еще полвека. Комплекс Распятской колокольни является одним из главных аргументов в пользу распространенной в ученом мире идеи капитальной перестройки (и даже постройки заново!) каменных корпусов слободского дворца после 1565 г. – года учреждения опричнины и переноса столицы, но аргументом всего лишь косвенным и не отвечающим на главный вопрос нашего исследования: чем был Государев двор в 1513 г., в момент его возведения?
Характер перестройки домовой Троицкой церкви, напротив, с трудом поддается расшифровке. К ней в определенный момент были пристроены западный притвор («трапезная») и северный придел-капелла Федора Стратилата, и есть предположение, что тогда же был реконструирован ее верх, вместо барабана гипертрофированных размеров (подобного барабану гарнизонной церкви Иван-города 1516 г.) над ней, по мнению некоторых ученых, был возведен нынешний «короткий» каменный шатер. Здание Троицкой церкви настолько необычно, что строгая датировка ее второго строительного периода представляется делом исключительно сложным. Вместе с тем есть основание полагать, что ее реконструкция совершилась еще при Василии III, а если это так, перед нами памятник первого, а не второго этапа строительства слободского дворца, и помочь определению стилистики исчезнувших палат ничем не может. Между тем здесь главная проблема изучения памятника: к какому архитектурному типу принадлежал наполовину уничтоженный дворец? Относился ли он к ренессансной культурной традиции, подобно Большому Кремлевскому дворцу в Москве, или это было нечто подобное укрепленному немецкому феодальному подворью (типа бурга) с каменными многоэтажными «избами» со ступенчатыми торцами и островерхими крышами – «опричный замок» в стиле Северного Ренессанса? Или это было и вовсе изысканное, заключавшее в себе и то и другое: русско-итало-немецкий позднеготический шедевр, подобный Успенскому собору Аристотеля Фиораванти в Москве, где количество готицизмов, как известно, преобладает над значительно менее заметными итальянизмами?
Перевод государственного аппарата и опричного войска в Слободу, конечно, сопровождался массовым деревянным строительством – приказов, казарм, хозяйственных построек и хором (о чем вскользь говорит вышеупомянутый летописец). Иное дело – сам дворец, его «анфилады» – столовая и тронная залы, его парадные покои. Невозможно предположить, что все это возводилось заново. Ведь выбор столицы царем Иваном был выбором «старого», а не «нового» места. Настоящим строителем второй, «богомольной» столицы России – Слободы – был, конечно, Василий III. Иван Грозный превратил ее на время в политическую столицу.
Одним из доказательств раннего происхождения Государева двора является его «старомодность». Перед нами – укрепленное поселение, город, замок, средневековая крепость, а отнюдь не вилла, открытая на природу, – нечто архитектурно замкнутое, противоположное тому, что в это время начинают строить в переживающей свое культурное возрождение Западной Европе. Действительно, к началу царствования Ивана Грозного характер княжеской вотчины коренным образом меняется. Последнее происходит на удивление быстро. Уже в начале 30-х годов Василием III, вступившим во второй брак с литовской шляхтянкой Еленой Глинской, была выстроена новая подмосковная, на этот раз «ближняя» – в Коломенском, небывалого на Руси типа: с домовой церковью «на пленере», бесстрашно вынесенной за ограду на колоссальные речные просторы. Таких живописно-ренессансных дворцовых композиций в то время не было даже в Европе, где множество дворцов и замков со встроенными в них придворными капеллами (того же церковного объема, что и церковь Вознесения) водружены посреди городов и красивых долин на скалы, но при этом не «включены» в пейзаж, а со средневековой мрачностью противостоят ему. Какое-то время, можно не сомневаться, церковь Вознесения стояла в ограде, но не крепостной, а дворцовой, церковной. Архитектурно же она была поставлена далеко на восток не только от хором, но даже от древнего кладбища, с которым была связана церковной традицией. За церковью Вознесения последовало множество аналогичных вотчинных храмов царя и знати. Принципиальное значение приобретает ее башнеобразность. Башнеобразное церковное здание несовместимо с жильем, т. е. по определению оно ассоциируется с кладбищем и церковным помином. Церковь Вознесения не только церковь «вверх» (термин писцовых книг, сообщающих о шатровой конструкции здания), но и «в сторону», она не только «вытянута», но и «вынесена». На кручи и мысы вынесены и другие тождественные архитектурные композиции – городские мемориалы типа Покровского собора на Рву в Москве и Борисоглебского собора в Старице. Это была настоящая художественная революция в вотчинном усадебном строительстве, в том числе городском. Отдаленным аналогом подобных церквей в России могут считаться разве что церковные «великокняжеские погосты» – старинные центры христианизации края. Итальянский зодчий, выстроивший церковь Вознесения, непостижимым образом соединил в Коломенской усадьбе дворец и погост. Но самое, пожалуй, удивительное, что новый архитектурный тип возник всего четверть века спустя после постройки Государева двора в Слободе.
За этой сменой декораций стоит многое: наступившее в стране «успокоение», ослабление угрозы нашествия со стороны Оки, окрепшие связи с королевскими дворами Европы, проникновение в придворную культуру эстетических концепций Возрождения и т. д. – вплоть до перемен в самом образе жизни московского двора. Это был вариант новой русской вотчины, с придворной церковью, выставленной за ограду, и хоромами «для прохлады». В Слободе же было сооружено нечто среднее между дворцом и цитаделью – полудвор-полукрепость, «русский феодальный замок».
Обнесенный крепостной стеной Государев двор в Слободе дышит глубокой архаикой. Его украшением служит традиционного «византийского» типа крестовокупольный Покровский собор, многопридельный объем которого изящно скомпонован из чистых архитектурных плоскостей и цилиндров (барабан и пять алтарных полукружий). В покрывающей архитектурные членения собора орнаментальной резьбе объединены русские (первой четверти XV в.) и итало-готические мотивы, но общий характер резьбы – фряжский. Вместе с тем в ренессансном облике Покровского собора есть что-то домонгольское, напоминающее постройки Юрия Долгорукого, в частности соседний Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (полуциркульные закомары и огромный барабан). Очевидно, заказчик подражал стилю своего пращура.
Тем не менее, при всей своей очевидной импозантности Покровский собор «тонул» в крышах и провалился в стены окружавших его построек. Как показали археологические наблюдения вблизи собора, непосредственно перед ним, почти вплотную к его западному фасаду, проходила изображенная на известной гравюре Ульфельдта (об этом ниже) крепостная стена. Эта стена до сего дня археологически не датирована. Ее древоземляная конструкция была описана Генрихом фон Штаденом. Наши ученые априори относят ее ко временам опричнины, но не задаются при этом вопросом, как в таком случае был огорожен Государев двор при Василии III: «тыном», «в забор» или как-то еще? Может быть, это изначально был рубленый город? Ведь не мог же Государев двор быть открыт всем ветрам? В фигуре Покровского собора есть нечто, говорящее о том, что он «прятался» за этой (гипотетической для нас пока) стеной, как за забралом. У него шокирующие приземистые пропорции, несмотря на то, что он поставлен, подобно всем домовым храмам нового времени, на подклеты. Распластанные под собором обширные белокаменные подклеты столь низки, что не позволяют под ними нормально передвигаться. Эти подклеты – одна из архитектурных загадок слободского ансамбля, поскольку аналогичные подклеты под стоящей в отдалении Успенской церковью выше их в полтора раза. Застроенность Покровского собора так называемыми «второстепенными» объемами – крыльцами, папертями, кордегардиями и приделами – представляет собой явление и может сравниться только с исторической обстройкой домового Благовещенского собора Московского Кремля. Встроенная между кордегардиями громадная западная лестница служила дворцу пропилеями, а уставленные колоннадами крытые паперти несли дополнительный ярус закомар, аналогичных закомарам самого храма. Эта пышная двухъярусность составляла истинную душу этого архитектурного шедевра. «Застроенность» Благовещенского и Покровского «соборов на Сенях» выдерживает сравнение со средневековой обстройкой придворных соборов Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, нет только лестничных башен. Оба собора расположены «в преддверии» дворцовых «анфилад» и оба связаны с парадными лестницами.
Несмотря на средневековые аллюзии, Покровский собор – ренессансный памятник. Столь же «ренессансным» должен был быть расположенный позади него дворец. Слишком близок он по времени Большому Кремлевскому дворцу. Покровский собор – залог декларируемого нами ренессансного устройства дворца, сколь бы ни были серьезны произведенные в нем в опричное время преобразования. На ульфельдтовской гравюре № 1 Покровский собор – единственный опознаваемый памятник.
Таковы проблемы изучения выдающегося архитектурного ансамбля средневековой России. Понятно, с каким жадным нетерпением встретили ученые сто лет тому назад появление в печати материалов Ульфельдта, единственного свидетеля, видевшего дворец своими глазами, и сколь велико было их разочарование.
Четыре гравюры-иллюстрации из книги Якоба Ульфельдта – единственный имеющийся в распоряжении науки графический источник, на котором изображен дворец-крепость в Слободе. По содержанию это – поздние иллюстрации к посольскому отчету. На гравюре № 1 представлен общий вид крепости с изображением маршрутов посольства, на гравюрах № 2, 3 и 4 изображены торжественные акты с участием Ивана Грозного и царевича внутри дворцовых покоев в присутствии господ послов и двора: на гравюре № 2 – вручение верительных грамот, на гравюре № 3 – стол в Столовой палате, на гравюре № 4 – «отдание» грамот и подарков, прощальная аудиенция.
Гравюры выполнены в Дании много времени спустя по возвращении посольства на родину и составления Ульфельдтом своего отчета. Были ли сделаны подготовительные рисунки по памяти, которые до нас не дошли, вопрос открытый.
Гравюры № 1 и гравюры 2-я, 3-я и 4-я выполнены одной рукой (в смысле – одним гравировальщиком), но в разных жанрах, на разном профессиональном уровне. Рисунок к гравюре № 1 готовил опытный путешественник, картограф, вообще, «старший офицер» по званию, занимавшийся вопросами дислокаций, передвижения и пр., отвечающий за них. Рисунки к гравюрам 2, 3 и 4 готовил бытописатель и этнограф, разбирающийся в обычаях, внимательный к этикету, человек, отвечающий за протокол. И в том и в другом случае на стол к граверу должны были лечь графические наброски, но совершенно разного качества и реального наполнения. Пролагатель маршрутов мог пользоваться условными обозначениями, чертить схемы, оставаясь при этом совершенно равнодушным к природе, слепым к натуре, неквалифицированным рисовальщиком. Бытописатель, напротив, должен был строить свои композиции по законам современного ему западноевропейского изобразительного искусства, быть если не драматургом, то сценографом, владеющим перспективой, опытным рисовальщиком интерьеров, знатоком обычаев и костюма, талантливым натуралистом и пр. Он, и никто иной, должен был рассадить гостей и хозяев по чину, одеть их, сообщить им подобающие случаю позы и т. п.
Мог ли это сделать один человек? Мог, но только при условии, что умел рисовать, обладал зрительной памятью, вел хотя бы тайные заметки, был хоть немного ученым и т. п. Однако тот, кто изобразил Слободу с высоты птичьего полета на рисунке к гравюре № 1 и проложил по ней схематические маршруты, рисовать, строго говоря, не умел, тогда как сцены в интерьере исполнены опытным рисовальщиком и умелым гравером, умеющим сглаживать могущие возникнуть зрительные шероховатости. Рисунок же к гравюре 1 сделан, по общему мнению, рукою дикаря.
Между рисунком 1 и рисунками 2, 3 и 4 – пропасть. Считается, что если на гравюре № 1 изображен худо-бедно слободской дворец, то на гравюрах 2, 3 и 4 изображены, непременно, его, дворца, интерьеры. Однако это далеко не факт. Есть все основания считать, что на этих гравюрах изображены не конкретные исторические интерьеры представленных на первой гравюре палат, а условные интерьеры богатого североевропейского жилища, несмотря на их верность слободскому протоколу и этнографической правде. Их информативность в таком случае – нулевая. Рисунки 2, 3 и 4 – всего лишь «прекрасная ложь», тогда как рисунок № 1 – голая, беспомощная правда, но все-таки – правда.
Условность графического языка «Ульфельдта» не была секретом для русских исследователей. Гравюру с изображением Александровой Слободы почти все, писавшие о ней, называли фантастической, не жалея слов и выражений. Некоторые наши предшественники вообще отказывали ей в достоинствах графического источника. «Ульфельдта» подозревали во всех смертных грехах, отказывали ему в праве называться натуралистом, но не предпринимали ничего, чтобы научиться его при этом «читать». Ведь даже если созданная «Ульфельдтом» «сомнамбулическая» картина города – всего лишь криптограмма, в ней есть «язык», ее можно и нужно прочесть. Ученым XX века недоставало знания изображенных «Ульфельдтом» памятников. Они были лишены возможности сравнивать его фантазии с натурой. Они не могли его «проверить». Сегодня эта возможность наконец появилась.
Проведенные в последние годы Александровским музеем исследования памятников Государева двора позволили их все более или менее удовлетворительно реконструировать.
Понять степень нищеты рисунка «Ульфельдта» совсем не просто. Дело в том, что, создавая свою архитектурную фантасмагорию, «Ульфельдт» вовсе не ставил перед собой тех целей, которые обычно ставят любознательные путешественники, географы и натуралисты. Он вовсе не стремился изобразить архитектурный ансамбль Слободы, вообще был менее всего к этому предназначен или способен. Подобно всем людям низкой графической культуры, начиная с представителей примитивных формаций охотников и скотоводов и кончая мореплавателями и полководцами, сообразуясь со своими целями, он пользовался так называемым пиктографическим письмом, не заботясь о том, чтобы передавать какие-то формы, какую-то конкретику: он не живописал Слободу, он всего лишь изображал маршруты посольства во дворце и пункты посещений, иллюстрировал таким образом протокол. Делал он это, не прибегая к графическим абстракциям – не условными линиями, а содержательными знаками, как делают картографы всего мира. В изображении Слободы он и был таким картографом, а отнюдь не художником-натуралистом. Однако как самостоятельно действующий дипломат он не был чужд самодеятельности: он сам придумывал свои пиктограммы, сам насыщал или не насыщал их «реалиями» – опознавательными знаками задуманных им пиктограмм.
Эти немногие отобранные по прихоти автора гравюр детали или «реалии» и есть предмет нашего исследования. То, например, как «Ульфельдт» изобразил подколоколенное сооружение Государева двора, как он вылепил из подручного материала свою соотносимую с этим зданием пиктограмму, поможет нам оценить его таинственный метод и понять меру его информативности. Изображение фантастического двухбашенного подколоколенного сооружения в центре Слободы стало для своего времени сенсацией. Прошло едва не целое столетие, прежде чем ученым удалось развеять этот совершенно безграмотный ульфельдтовский фантом без остатка. Справедливость требует отметить, что осторожное отношение к рисунку колокольни присутствовало всегда. Наиболее проницательные из ученых уже давно высказали предположение, что не понимающий русскую архитектуру Ульфельдт изобразил, таким образом, арочную столпообразную звонницу, однако другие продолжали искать в земле «остатки второй башни». К концу вокруг Распятской колокольни не оставалось живого места. Стало ясно, второй башни не было в природе. В 1989 г. фундаменты звонницы были найдены. Появилась возможность реконструировать оба сменивших друг друга на протяжении полувека сооружения. Оказалось, что надстроенная первой церковью Алексея митрополита огромная Распятская колокольня почти во всем повторяла и самую предшествовавшую церковь под колоколы и ее звонницу. Старое здание оказалось увеличенным в высоту в 2,5 раза и превращено в часовую башню. Остался открытым только вопрос о дате перестройки. Эту звонницу Ульфельдт, будучи датчанином, просто не заметил: столпообразные звонницы были ему в диковину. В Северной Европе таких звонниц для сверхтяжелых колоколов просто нет. Сверхтяжелые колокола в Европе всегда помещают в башни. Столь огромных колоколов под открытым небом – особенность русского звона – Ульфельдт у себя в Европе никогда не видел. Рисуя свой маршрут по памяти, Ульфельдт затруднился вспомнить, как они висели. Тектоника сооружения не была им ни понята, ни усвоена. Вместо четырех реально существовавших столбов он оставил одну «опору» в виде второй башни, повесив колокола «гирляндою». Поскольку первая башня – столпообразная церковь, у него получилось две церкви, что, конечно, ни с чем не сообразуется и противно самому духу русской архитектуры. Пытаясь ухватить ускользающую от него суть непонятного ему сооружения, он изобразил реально имевшую быть двускатную кровлю над звонницей (но без самой звонницы!), достоверно существовавший фряжский «плоскостной» портал (продублирован на второй лжебашне) башнеобразной церкви Алексея митрополита (кстати, единственный церковный портал, изображенный Ульфельдтом).
Новый звонничный комплекс повторял старый с той разницей, что церковь Алексея митрополита теперь была надстроена часовой башней и увенчана шатром-шпилем. Какую из двух колоколен – старую или новую – видел Ульфельдт? Судя по гравюре № 1, Ульфельдт не заметил ни шпиля циферблатов, ни яруса звона. Между тем башенные часы устраивались в Европе уже больше столетия – сначала на ратушах, потом – на церквях. Думаем поэтому, что он видел церковь и звонницу в первой редакции, а значит, перестройка Распятской колокольни происходила после 1578 г., это все еще в огромной степени был дворец Василия III.
Итак, Ульфельдт, не обладая необходимой архитектурной квалификацией, не мог донести в деталях архитектуру слободского дворца, из чего следует, что архитектурный стаффаж на рисунках 2, 3 и 4 задумывал не он.
Итак, делаем первые выводы: рисунки 2, 3 и 4 с их богатой изобразительностью в действительности не содержат никакой имеющей отношение к Слободе архитектурной информации. В них нет живого рисовальщика, полного растяпы и неумехи, каким был посол Ульфельдт. Они слишком гладкие, слишком правильные, слишком отдают книжной школой. В рисунке № 1, напротив, все натурально, все подлинно, он изначально лишен художественно-живописной установки. Не архитектура цель автора, а «графика посещений», передаваемая «человеческими гирляндами» – шпалерами опричников, церемониал. Лишенный натурального обзора, «прогоняемый сквозь строй» Ульфельдт видит не дворцовую резиденцию русского царя, а груди и спины опричников. Зато это – правда. Таковы трудности этого источника.
Почти столь же фальшиво, как колокольня, выглядит и придуманная «крестообразная» пиктограмма для трех слободских церквей – Покровского собора, Троицкой и Успенской. С трудом веришь, что здесь изображены русские церкви, несмотря на подрисованные к ним вполне узнаваемые барабаны и луковичные главы (разумеется, без крестов).
Изобретенным де Бри церковным пиктограммам возможны два разумных объяснения. Первое: художник использовал живущее в сознании любого европейца клише базиликального храма римско-католической традиции в виде двух перекрещивающихся «однонефных» базилик с куполом над средокрестием, фронтонами на четырех торцах и острыми двускатными кровлями крест-накрест. Так выглядит большинство романских и готических храмов Европы, других стереотипов Европа по-настоящему не знает. Художнику нужен был знак церкви или кирхи, и он взял отвечающую этому понятию готовую знаковую фигуру – но без обязательной в Европе башни, поскольку, по-видимому, успел обратить внимание, что церкви в России строились без башен. При этом отмечена главная особенность русского крестовокупольного храма – принципиальное равенство в нем ветвей воображаемого «креста» – тайный источник его «византийской» центричности.
Но возможно и другое объяснение использованной Ульфельдтом пиктограммы (оно уже в пользу путешественника): приданная храмам Слободы условная крестообразность, возможно, все-таки передает на свой лад натуру. Прежде всего это касается замысловато скомпонованного гигантского объема Покровского собора с его широко распластанными по земле приделами, кордегардиями, крыльцами и волнообразными двухъярусными кровлями, что вполне могло навеять Ульфельдту и его спутникам далекие от действительности ассоциации.
И это, вероятно, главное, о чем поведал нам Ульфельдт.
К сказанному следует добавить немногое. Ульфельдт изображает паперти и переходы большого каменного дворца исключительно деревянными. Рубленые из плах, на врытых столбах, с перилами и балясами и лестницами настилы – бросающаяся в глаза, будто положенная под увеличительное стекло, реалия гравюры, и не верить ей по этой причине невозможно. Но это, конечно, не вся правда. В любом каменном позднеготическом немецком замке или дворце Северной Европы вообще деревянными были только половина галерей и переходов. Вторая половина всегда каменная. Каменные паперти мы вправе ожидать вокруг больших палат во главе с Тронной палатой, и это проверяемо. Вокруг домовой Успенской церкви часть каменных папертей сохранилась in situ, другая – выявлена исследованиями. Площадь этих папертей впечатляет: они окружали храм со всех четырех сторон. Западная, южная и частично северная паперти были сводчатые, восточная и северо-восточное крыло представляли собой открытое каменное гульбище, служившее им продолжением. Это гульбище имело продолжение – на север, к предполагаемому центру дворца. Каменное гульбище Успенской церкви подтверждает существование изображенных Ульфельдтом открытых деревянных переходов, подобных известным по иконографии открытым гульбищам Большого Кремлевского дворца в Москве (гульбище Золотой и Отдаточной палат, Боярская площадка и т. д.).
Эта неизвестного назначения (простиравшаяся на север, как далеко, мы не знаем) каменная площадка «на Сенях» позади Успенской церкви – прямое доказательство существования в Слободе европейского дворца вообще. В ином контексте она необъяснима.
Имеются и другие доказательства, говорящие о наличии в Слободе не только деревянных, но и каменных переходов и гульбищ. Фундаменты каменных столбов выявлены недавно археологическими раскопками под стенами Тронной палаты. База столба была встречена при раскопках далекой восточной палаты на противоположной стороне комплекса и т. д. Отметка каменных папертей и гульбища Успенской церкви дает нам отметку всего дворцового подиума. Примерно на этой же отметке находится не имевшая в прошлом каменных папертей Троицкая церковь. Подклетные ярусы этих домовых храмов имеют одинаковые карнизы уникального профиля. Этими карнизами отмечены два конца огромной дворцовой, растянувшейся с севера на юг, каменно-деревянной платформы. На ее существование указал нам Ульфельдт.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ОР РГБ. Ф. 304. Ед. хран. 647. Л. 4 об.
Ранее опубликовано в кн.: Якоб Ульфельдт. Путешествие в Россию. М., 2002. С. 457-487.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ НА ГОСУДАРЕВОМ ДВОРЕ ДРЕВНЕЙ
АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЫ
Шатровая, на погребах и подклетах, церковь Троицы на Государевом дворе или Дворце дошла до нас в составе Успенского девичьего монастыря в г. Александрове в сильно перестроенном виде.
В источниках церковь Троицы появляется впервые в 1571 г., в свадебном разряде царевича Ивана Ивановича1. После польско-литовской интервенции она упоминается среди четырех церквей разоренного Государева двора – второй после соборной церкви Покрова с приделом Николая чудотворца2. Службы в ней в это время нет. В 1641 г. власти приступают к ремонту пустующей церкви и в том же году ее освящают3. Одновременно с возобновлением храма рядом с ним заново возводятся «царские хоромы» – жилая деревянная часть дворца4. Однако уже в 1650 г., по благословению патриарха Никона и с разрешения царя, на женской половине дворца, напротив церкви Троицы, при церкви Успения в Буграх основывается девичий монастырь. Учреждение среди развалин Государева двора монастыря означало фактическую ликвидацию старинной великокняжеской и царской резиденции, просуществовавшей на этом месте чуть менее полутораста лет. Около 1666–1667 гг. одновременно с началом постройки деревянного дворца в Коломенском царь Алексей Михайлович передает монастырю на слом – для сооружения «келий и крестовой» – свои только что отстроенные «хоромы, что возле Троицкой церкви»5, а к концу 70-х гг. под монастырь уже отходит вся остальная территория Государева двора, включая соборную и Троицкую церкви. В 1680 г. церковь Троицы перестраивается в большую монастырскую трапезную церковь6. С запада к ней пристраивается двустолпная палата с шатровой колокольней, церковный шатер перегораживается дополнительным восьмигранным купольным сводом, алтари расширяются за счет слома заалтарной казенной палаты, а на юго-восточном углу строится новый придел Федора Стратилата (в честь ктитора монастыря царя Федора Алексеевича) взамен старого, возле северо-восточного угла, того же посвящения7. Работами по перестройке храма руководил каменных дел подмастерье Никита Корольков8.
По окончании строительства Троицкая церковь была переосвящена9. Ее престол был перенесен в соборную Покровскую церковь, а престол соборной церкви – в Троицкую. «Настоящее», как принято у православных, название церкви, таким образом, – Покровская, но для историков архитектуры она навсегда останется Троицкой. В ее посвящении Троице, как увидим ниже, был заключен особый смысл.
Историки русской архитектуры стали уделять внимание памятнику с последней четверти XIX в. Первым, кто пытался оценить его архитектуру, был Ф.Ф.Горностаев10, а первым исследователем в современном смысле слова можно считать А.И.Некрасова11. Ничего не зная о переосвящении слободских церквей, ученые того времени датировали шатровую Троицкую церковь по известию, в действительности относящемуся к Покровской соборной церкви, освященной, согласно источнику, 11 декабря 1513 г.12 У них получалось, что каменная шатровая Троицкая церковь была построена до церкви Вознесения в Коломенском, которая претендовала на то, чтобы считаться первым каменным шатровым храмом на Руси. Этот вывод, в тех условиях ничем не подкрепленный, оказал отрицательное воздействие на становление теории русского каменного шатрового зодчества, которая окончательно оформилась только в 70-е гг. нашего века в трудах М.А.Ильина и Н.И.Брунова13.
Отношение же к самой Троицкой церкви у историков русской архитектуры всегда было и оставалось прохладным. В литературе принято обращать внимание на «неправильный» вытянутый план, грузные неуклюжие пропорции самого церковного здания и особенно на «приземистый», низко висящий шатер. Все знающие памятник, не сговариваясь, приходят к выводу, что строивший церковь зодчий не имел понятия о достижениях русского шатрового зодчества второй половины XVI в. Ему неведомы ни эстетика, ни пропорциональный строй этих глубоко укоренившихся в нашей культуре после Казанского похода сооружений.
В 1924 г. комиссия Центральных реставрационных мастерских, исследуя живопись Покровского собора, установила, каким в действительности было освящение этого храма14. Стало ясно, что известие об освящении Покровской церкви в 1513 г. к Троицкой шатровой церкви не относится. С чувством понятного облегчения исследователи приступили к поискам иной, по понятиям того времени более скорректированной, учитывающей шатровую конструкцию храма, датировки. Ответ, казалось бы, лежал на поверхности. Из записок немцев-опричников И. Таубе и Э.Крузе и Г. фон Штадена известно, что в разгар опричнины, сразу после новгородского похода, в Слободе ведется интенсивное строительство. Царь строит две церкви «с колоколами» и какое-то хранилище под храмом, куда свозят награбленное15. Естественно было предположить, что один из этих храмов на погребах и с обширным подцерковьем – церковь Троицы на Дворце (к таким, например, выводам пришли впоследствии Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов16). Однако, в годы, о которых идет речь, не все ученые так рассуждали. Камнем преткновения для некоторых из них, прежде всего – для А.И.Некрасова, сделались профилированные импосты в распалубках и резные орнаментированные замковые розетки в сводах подклетов Троицкого храма, более всего говорящие о вероятном создании памятника в эпоху Василия III17. После же расчистки и реставрации в 60-е гг. нашего века находящихся под церковью великолепных белокаменных погребов возник вопрос и о датировке этих последних. Так к исследователям пришло ощущение несовместимости «позднего» шатра с достаточно явными признаками «ранней» и даже «очень ранней» архитектуры. В результате ученые стали высказывать осторожные предположения о возможных двух строительных этапах в жизни памятника. Последним, кто некоторое время разделял эту точку зрения, был автор настоящей статьи, печатно высказавшийся о вероятной перекладке шатра в опричный период существования Слободы18. Однако при исследовании памятника с лесов эта гипотеза отпала сама собой: церковь Троицы вся, от погребов до скуфьи купола, выстроена в течение двух–трех строительных сезонов. Это на редкость цельный и очень неплохо сохранившийся в своей обстройке памятник.
Положительным итогом этого важного этапа исследования стал утвердившийся среди части ученых взгляд на Троицкую церковь как на домовый храм жилой части слободского дворца.
К сожалению, этот чрезвычайно существенный для понимания памятника вывод был получен не вполне корректным образом. Не приводя прямых аргументов, но лишь угадывая непростую природу памятника, исследователи предпочитали ссылаться в этом вопросе на некое «местное предание», якобы об этом свидетельствующее. В действительности такого «предания» не существует, а то, что за него обычно принимается, восходит к тому же источнику, что и вышеприведенная «ложная» по отношению к данному памятнику дата19.
На назначение Троицкой церкви быть домовым храмом надежно указывают следующие моменты:
1. Ее место в перечне дворцовых церквей при описании Государева двора в 20-е гг. XVII в. (Она упоминается второй после Никольского придела Покровского собора, с которого начинался собственно дворец20).
2. Две церкви на Дворце, Покровская и Троицкая, были расписаны в 60–70-е гг. XVI в.: Покровская как главная и соборная, Троицкая как личная молельня государя. Два других храма, подколоколенная церковь Алексея митрополита21 и Успенская на женской половине дворца, никогда не расписывались.
3. При церкви Троицы, как и при домовом кремлевском Благовещенском соборе на Сенях, до ее реконструкции в 1680 г. существовала встроенная в ее алтари специальная казенная палата для складывания походной казны великого князя. Наличие при храме казнохранилища говорит о его принадлежности сюзерену.
4. Церковь Троицы построена «на погребах». Все известные памятники этого типа (включая монастырские церкви) – домовые. (Но не все домовые церкви обязательно «на погребах»!) Таковы Успенский собор в Дмитрове (10-е гг. XVI в.) в уделе Юрия Ивановича Дмитровского, Успенская церковь на Крутицах 1516 г. в резиденции Подонского владыки, церковь Одигитрии в Кушалине в уделе Симеона Бекбулатовича (конец XVI в.) и Архангельский собор Московского Кремля на Государевом дворе в Москве 1508 г. (погреба под папертями с юго-западной стороны собора). Кроме церкви Троицы, здесь же в Слободе на погребах и подклетах в пару с нею построена еще одна малая церковь – Успения – на половине великой княгини. Манера строить на погребах и подклетах – на тех и других одновременно – пока зафиксирована только у памятников конца XV–начала XVI в. Позже этот прием уже никогда не применялся.
5. При церкви Троицы изначально было отделанное с дворцовым великолепием «жилое» теплое подцерковье и небольшой внешний теплый северо-восточный придел Федора Стратилата. И подцерковье, и придел уникальны. Подцерковье образуют двойные подклеты со сводами красивого рисунка, с распалубками на профилированных импостах и резными замковыми розетками в щелыгах, на которых некогда висели бронзовые паникадильца на крюках. Один из сводов, тот, что непосредственно под церковью, расписан «кирпичным паркетом» по левкасу. Вероятное назначение этих помещений – быть хранилищем «второй» и «третьей» государевой казны, рухлядной, постельной, оружейной палатами и т.д. Роскошь этих второстепенных помещений, своего рода «малых палат», или «комнат», – знак интимной части дворца. Крохотный теплый придел Федора Стратилата – изысканнейшее произведение зодчества XVI в. Он безапсидный, нарочито «папертной» архитектуры, из двух перекрытых крестовыми сводами на профилированных импостах компартиментов, с изначально заложенными наружными простенками. Придел «трехстенный». Его внутренняя четвертая стена – это фрагмент как бы взятой в футляр наружной архитектуры храма, угол с цоколем и лопаткой и целиком вся северная стена заалтарной казенной палаты. Генезис данного архитектурного приема («прируб» к основной «клети») восходит к деревянной архитектуре. Столь изысканная форма имитирует известные по источникам старинные «приделы на папертях». Поскольку единая для всего конгломерата теплых помещений дымовая труба стояла на смежной стене казенной палаты и придела, можно думать, что и эта палата была теплой. Все четыре отапливаемых помещения Троицкой церкви были очень низки. Из-за необходимости зрительно выделить объем придела над его основными сводами были возведены вторые. На втором, защитном, своде стояла не дошедшая до нас глава. Холодная шатровая церковь в окружении теплых палаток, папертей и подцерковья, несомненно, домовая.
6. Среди церквей Слободы только церковь Троицы не имеет каменных папертей, так как изначально была обстроена деревянными хоромами, о чем и сообщил нам поздний источник. В русском языке слово «хоромы» – синоним жилища, жилья. О назначении Троицкой церкви служить центром жилой, деревянной, интимной части дворца свидетельствует также ее упрощенная, «прямоблочная», «на деревянное дело» архитектура, в частности, такие ее формы, как утрированные полицы шатра, карниз без архитрава и фриза, отсутствие капителей у лопаток, «придел-прируб» и щипцовые порталы.
7. И, наконец, у храма – сложная сакральная форма, с претензией на башнеобразность, шатровая и купольная одновременно. Эти понятия к памятникам русской архитектуры традиционно не применяются, однако в теории христианского храма они являются основополагающими и нет причин от них отказываться. Сочетание жилых комнат или апартаментов с храмом сакральной формы позволяет говорить о Троицкой церкви как о семейной «домовой капелле» западного типа. Найти данному явлению аналоги на русской почве довольно трудно. Подобными функциями наделялись только архиерейские крестовые церкви у владык на сенях. Лучший пример – Спас на Сенях Ростовского архиерейского дома.
«Домовое» предназначение Троицкой церкви, таким образом, очевидно. Перед нами редчайший в типологическом отношении памятник русской дворцовой архитектуры – домовая церковь-капелла Московского государя. Что представляло собой здание Троицкой церкви до ее перестройки?
Здание Троицкой церкви исследовалось в 40–50-е гг. архитекторами-реставраторами П.С.Полонским и Н.В.Сибиряковым. Качество реставрации высокое. Сибиряковым были восстановлены полностью утраченные кокошники, карнизы, окна и подготовлена музеефикация церковного интерьера (речь идет о представляющей научный интерес древней части памятника). Под руководством этого архитектора были раскопаны и подготовлены для экспозиции засыпанные монастырем погреба. Им же выполнены прекрасные обмеры всего здания. В своей графической реконструкции мы опирались на чертежи Сибирякова и собственные промеры и раскрытия.
Церковь Троицы расположена за алтарями Покровского собора на значительном, до 50 м, от него расстоянии. По отношению к собору ось здания смещена к северу и совпадает с осью северного наружного Сергиевского придела. Храм как бы отступает, пропуская вперед главную замковую улицу или площадь, берущую начало от обращенного на восток парадного южного крыльца Покровского собора.
Древнее ядро Троицкой церкви состоит из двойного (о двух помещениях) белокаменного подклета с водруженными на него, как на подиум, церковью и находящейся в створе с нею заалтарной казенной палатой. Под подклетом два глубоких погреба. При общей растянутости здания в восточном направлении, все его расположенные в три этажа помещения, начиная с погребов, имеют поперечную ориентацию и слегка вытянутый план. Таким образом, в композиции церкви Троицы легко прочитывается ее «вычлененность» из некой анфилады зданий.
Главный, «рабочий» фасад здания – южный, некогда обращенный к центру замка, возможно, к стоящей напротив тронной зале. Сюда на юг выходят целых шесть расположенных в три яруса дверных проемов: южные церковные двери, дверь в казенную палату (не сохранилась), две двери в подклеты и два погребных выхода в специальных белокаменных приямках. Из-за «нехватки» фасадной площади оба обращенных на юг окна подклетов устроены косыми. Прочие окна (два подклетных и два погребных) выходят на север. Торцовые (западный и восточный) фасады подклета-подиума в древности окон не имели. Это – знак некогда примыкавших к ним хоромных строений. С севера и юга к зданию были пристроены неизвестной конструкции паперти: из пилонов северного и южного порталов им навстречу выступали кольца могучих железных связей. Какая-то крылечная конструкция существовала перед западным порталом (судя по сохранившимся в закладках древним импостам).
Стилистика здания изысканно противоречива. Церковь и палата представляют собой причудливое сочленение двух взаимопроникающих разной высоты и разной конфигурации объемов. Церковь – «верх шатром», палата – «низменной» архитектуры. Эта достаточно выразительная сама по себе композиция доведена до пронзительного контраста несовпадающим пластическим решением каждого из объемов. Уникальных пропорций «сдавленный» церковный четверик поставлен на развитый высокий белокаменный цоколь и увенчан оригинального рисунка белокаменным некрепованным карнизом. Четверик и шатер инкрустированы кирпичными ковчегами-впадинами. Устроенная же в створе с четвериком казенная палата, напротив, была полностью лишена архитектонического убранства (за исключением не дошедшего до нас карниза) и имела вид чистого белокаменного параллелепипеда. Ковчегами-филенками обработаны лишенные капителей крещатые белокаменные лопатки четверика и придела. Окна подклетов и алтарные окна большого храма не имели наличников.
Кроме двух основных объемов – церкви и палаты – при здании церкви Троицы существует, как отмечалось выше, еще и третий, выстроенный одновременно с ними наружный северо-восточный придел Федора Стратилата. Придел представляет собой двухъярусную постройку прямоугольной конфигурации, заложенную в створе с восточной стеной казенной палаты. Это единственный объем в здании, ориентированный с запада на восток. Выстроенный с опозданием на один строительный сезон, уже после возведения подклетов, придел еще в древности пришел в катастрофическое состояние: его северо-западный угол ушел в землю, стены расселись, своды, основной и защитный, треснули и разломились, что повлекло за собой его глубокую перестройку. Реконструкция придела происходила в том же XVI в. Двойные крестовые своды были переложены в прежних формах, в западную стену вложена новая связь, защитный же свод и глава восстановлены по измененному рисунку. Последняя по времени реконструкция придельного храмика происходила уже в 1680 г., при Никите Королькове. В этот раз его верхи были окончательно разобраны, и он был обращен в ризницу.
Церковь Троицы выстроена из большемерного кирпича и белого камня на дубовых осадочных и металлических внутристенных и проемных связях, без обухов, «якорного» типа, на жирном известковом растворе. Кладка смешанная. От яруса к ярусу объем белого камня постепенно убывает. В третьем, церковном ярусе, из белого камня целиком (кроме сводов) была выложена только казенная палата и три алтарных экседры. В отделке же церкви и придела кирпич (он используется здесь как декоративный материал) уже преобладает. Из белого камня здесь выложены только цоколи, лопатки и порталы (не полностью), конструктивные «накрывные» элементы карнизов и кокошников и облицованы до половины высоты стены в интерьере. В остальном верхи здания почти целиком кирпичные. В проемах преобладают прямоблочные перемычки, но есть, например, в оконных четвертях придела, кирпичные арочные. Из кирпича сложены распалубки всех без исключения дверных и оконных проемов, на всех трех ярусах здания. Неожиданным для нас оказался факт применения кирпича в порталах.
Белокаменные в своей основе, «плоскостные» порталы храма принадлежат руке иностранного художника. Южный, северный и портал придела Федора Стратилата – щипцовые; западный – с полуциркульным верхом. Щипцы – сочные, из профилированного кирпича обычного набора («полка» – «четверть вала» – «полка на ребро» – «четверть вала» – «полка» – у южного портала; «полка» – «четверть вала» – «полка на ребро» – у придельного), относительно слабого (до 32 см) выноса, тимпаны – кирпичные. Архитектура порталов оригинальна и глубоко продумана. Устроенная в тонкой «папертной» стене белокаменная декорация малого придельного портала искусно развернута в плоскости, а вот мощные белокаменные пилоны боковых порталов, во-первых, надложены поверх капителей дополнительным ярусом кирпичной кладки, а во-вторых, выступают из плоскости стены столь далеко, что требуют для своего завершения каких-то объемных элементов типа пинаклей или обелисков. В эти кирпичные надкладки заделывались кольца могучих, сложной ковки, связей для прикрепления к ним (каким образом – это остается для нас тайной) неизвестной конструкции папертей или крылец. И гипотетические навершия-обелиски, и кольца связей погибли при перестройке здания в 1680 г. Зато единственный на памятнике западный портал с полуциркульным верхом свое уникальной формы навершие сохранил. До своей растески в конце XIX в. он имел боковые стенки в форме развернутых волют (сохранились их отпечатки на обрезе стены под современным полом) и падугу неизвестного профиля и рисунка. На карнизе нетронутого при растеске завершающего архивольта (с профилем в виде «гуся») лежит огромный, закрученный жгутом «сноповидный» вал, опирающийся на покрытые веерообразными листовидными орнаментами гигантские белокаменные валики с окончаниями в виде белокаменных «моллюсков». Пронизанный «органикой» и трудный в исполнении «сноповидный» вал выложен, тем не менее, из тесаного кирпича, по которому уже в кладке протесана перевязь. Кирпичные элементы всех четырех порталов густо облевкашены, причем без признаков росписи. Это редкий вид работы, доныне нигде не отмеченный.
Двойная, «белокаменно-кирпичная» природа подмазанных левкасом порталов Троицкой церкви помогла нам ответить на вопрос большой научной важности, который должен стать в деле датировки памятников Александровой Слободы решающим. Оказалось, что, покрывая левкасом кирпичные навершия портального декора (будь то вал или щипцы) и притирая его к белому камню или к кирпичу основной конструкции, древние не прикасались к самой кладке ни мастерком, ни кистью, оставляя фактуру кирпича или белого камня в неприкосновенности. Четко прописанные по натуральному кирпичу швы – вот и все убранство как портальных тимпанов (очень хорошо сохранившихся в обкладке XVII в.), так и инкрустированных кирпичом церковных прясел (огромные фрагменты которых можно видеть на чердаках южной и северной папертей). Из сказанного следует, что в первый период своего существования – от момента постройки и вплоть до 1680 г. – здание Троицкой церкви не красилось и не белилось. Кроме порталов, левкасом на кляммерах были покрыты архивольты кокошников, нижние кирпичные членения карнизов, кирпичные рамы оконных наличников и не исключено, что и сам, ныне недоступный исследованию, шатер (подобные примеры известны). Белокаменный, местами по кирпичу подмазанный ослепительно белым левкасом, архитектонический наряд церкви Троицы резко выделялся на фоне натуральной кирпичной кладки с аккуратно прописанными, тонко затертыми, напоминающими пасту известковыми швами. В основе цветового решения памятника лежало, таким образом, использование декоративных свойств строительного материала – белого камня и красного кирпича. Церковь Троицы была выстроена в западноевропейских традициях – в кирпиче и камне – и воспринималась ввиду обилия кирпичных инкрустаций как «кирпичная». Все последующие окраски в два цвета – реставрационные и принадлежат нашему времени. Аналогичным образом были решены фасады и трех других дворцовых церквей александровского ансамбля. Последний факт более других говорит о его единовременном создании.
На протяжении своей истории церковь Троицы перестраивалась дважды.
В отличие от реконструкции 1680 г., результаты которой у всех перед глазами, объем и характер ее первой по времени перестройки, имевшей по всем данным место в XVI столетии, все еще недостаточно выяснены. Особенно для нас важна ее уточненная датировка. Ведь если будет доказано, что перестройка церкви происходила в опричный период, при Грозном (а это, по общему мнению, самое вероятное), то сам памятник должен быть построен много раньше. Эту возможность уже рассматривали некоторые наши предшественники и, как увидим ниже, не ошиблись.
Стратиграфическое обследование нижних ярусов здания показало, что по истечении некоторого времени после сооружения Троицкой церкви к ее западному фасаду была пристроена новая дополнительная секция, состоявшая, как и первые две, из погреба, подклета и палаты над ними22. Палата была разобрана Никитой Корольковым в 1680 г. при расширении церкви, погреб же и подклет сохранены внутри новой трапезной. На юго-западный и северо-западный углы подклета были поставлены оба трапезных столба. В отличие от двух старых секционных объемов, новая секция получила иное плановое решение: квадратный, перекрытый в направлении север – юг коробовым сводом погреб, двойной, разделенный продольной (!) стеной подклет, – и иную трактовку объемов: щелыга разобранного в 1680 г. коробового (лоткового?) свода палаты достигала церковного карниза и врубалась в него. Но главное – новая секция была заложена на иной, чем церковь Троицы, отметке. В момент ее постройки вокруг памятника уже образовался культурный слой до полуметра толщиной, вследствие чего двери в подклет и погреб оказались поднятыми на новый уровень. Соответственно поднятыми оказались и свод погреба, и полы. Между возведением основного здания и пристройкой прошел, таким образом, не один десяток лет.
В архитектурном же отношении западная пристройка была более или менее добросовестно стилизована под основной памятник. Ее белокаменный подклет, насколько это возможно, воспроизводит подклеты первого здания. У него та же каменная облицовка (карниз подклета был полностью разобран в 1680 г.); те же двери в подклет и рядом погребной выход в специальном приямке; то же подклетное окно на северную сторону при отсутствии окон в торцовой стене подклета – ради сохранения анфиладных принципов этой части дворца (наглухо отгороженные друг от друга несообщающиеся между собою подклеты и свободный переход из здания в здание – по верхнему жилому ярусу дворца). Принципиальным новшеством этого строительного периода было сооружение для входа в новую палату каменного южного крыльца – единственного каменного крыльца в истории здания. Оно было устроено над приямком в погреб, отчего спуск в приямок шел с поворотом. Крыльцо было разобрано в 1680 г.
При всех указанных различиях физическая масса новой секции почти уравновешивала массу храма, так что, если Таубе и Крузе или фон Штаден посетили Слободу в момент ее постройки, у них вполне могло сложиться впечатление, что Троицкая церковь возводится заново.
Дворцовая принадлежность новой пристройки несомненна, но считать ее светской залой, как это делают в своем труде Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов, думаем, нет оснований. Скорее всего, это был заказанный царем Иваном церковный притвор или трапезная, и его возведение преследовало те же цели, что и сооружение позднейших притворов и трапезных при приходских и монастырских церквях, – начиная с увеличения полезной площади и кончая организацией совместного трапезования с постановлением поминальных кормов и т.п. Последнее тем более вероятно, поскольку именно в Слободе, как считается, царь и его опричники в какой-то период усиленно пародировали монастырский чин. Это могла быть, например, царская «келарская», т.е. место интимных, гостевых трапез, сопровождавшихся чтением из Священного Писания.
Под сводом новой палаты оказались не только западный портал и церковные лопатки, но и западное надпортальное окно верхнего света, т.е. весьма крупный фрагмент наружной храмовой декорации. На то, что между двумя строительными периодами пролегает эпоха, помимо завышенных дверей, порогов и, главное, полов, указывает также иное, низкое, мастерство и иная, низкая, культура строительства: над входом в погреб нет иконной нишки (над входами в соседние древние погреба они есть), своды подклета не имеют импостов под распалубками, щелыги – розеток. Мелка, худосочна и по-особому груба архитектура единственного подклетного окна, по-иному положены связи, иначе и из другого железа сделаны поковки к окнам и дверям и, что совершенно невероятно, неправильно и опасно положена разделяющая подклет стена – поперек щелыги погребного свода! И этой явной бедности духа не могут скрыть никакие стилизаторские ухищрения. В архитектуре новой палаты видны грубость и старание вписаться – случай, во всем аналогичный тут же на Государевом дворе стоящей церкви Алексея митрополита, превращенной в 70-е гг. XVI в. во всем известный шатровый столп.
По-видимому, одновременно с пристройкой западной палаты происходил ремонт придела Федора Стратилата и устраивались новые каменные кровли над казнохранилищем23.
Таковы в общих чертах строительная история, конструктивные приемы и оригинальная стилистика этого незаурядного памятника.
Но церковь Троицы замечательна не только этими любопытными частностями. Среди крупномасштабных элементов ее архитектуры, таких, как погреба, «жилые» подклеты и придел «в папертях» с печью в алтаре и деревянными всходами и папертями, – самым замечательным является необычная структура основного церковного объема и его перекрывающей конструкции – шатра. Шатер Троицкой церкви – явление уникальное, и он должен быть поставлен в типологическую связь с дворцовым зодчеством своего времени.
У шатровой Троицкой церкви – «неправильный», неканонический с точки зрения архитектурного типа оклад: ее четверик вытянут в поперечном направлении более чем на сажень. Восточная стена как таковая отсутствует. Вместо нее в храм глядят три стройные, разделенные тонкими пилонами, почти равновеликие четверику алтарные экседры. Необычный этот четверик перекрыт в центральной своей части редкой формы приземистым, напоминающим «деревянное небо» каменным шатром. Устроено это перекрытие следующим образом. От стен четверика к шатру ведет многоступенчатая переходная конструкция, разбитая по высоте на четыре зоны. Первую зону составляют перекрывающие углы четверика крупные, косо поставленные тромпы. Эта зона образует фигуру сильно вытянутого с севера на юг восьмерика. Для создания в вышележащих ярусах необходимого для установки шатра равностороннего основания поверх зоны тромпов с запада на восток перекинуты две могучие подпружные арки на толстых проемных металлических связях. Пяты арок поставлены на косые тромпы заподлицо с ними, отчего арки приняли необычную «распалубленную» форму. Эту вынужденную распалубленность строивший Троицкую церковь зодчий остроумно использовал, поместив под обеими арками люнеты с круглыми окнами. В отличие от поставленного на обрез стены западного люнета, люнеты под арками «втянуты» вглубь интерьера посредством консольной конструкции, выполненной в технике нависающей кладки. Этим приемом зодчий добился удивительной мягкости и сглаженности между многочисленными переходными конструкциями в основании шатра, так что невооруженный глаз самого существования поддерживающих шатер арок просто не замечает. На фасады окна люнетов выходят в обрамлении громадных, поставленных на карниз с могучей полицей кокошников.
Венец из восьми кокошников обступает вышележащую шатровую конструкцию. Она – парадоксальна. Благодаря введению двух дополнительных перекидных арок неправильный восьмерик зоны тромпов превратился в обычный, близкий равностороннему восьмерик, вполне пригодный, чтобы быть перекрытым уже шатром. Тем не менее, этого не произошло. Здесь же в зоне арок от грани к грани идет череда вялых, небрежно выложенных плоских парусов, представляющих собой классическую конструкцию перехода к барабану. Завершает эту зону парусов увенчанное трехобломным карнизом натуральное «подбарабанное кольцо», которое в памятниках крестовокупольной конструкции обычно предшествует барабану с куполом. Однако строители от этой формы перекрытия почему-то отказались. Прямо на обрезе кольца они поставили скованный из полосового железа семиметровый каркас в форме восьмигранного шатра и обложили его кирпичной кладкой подколотыми горизонтальными рядами, разбив ее, в свою очередь, еще на две зоны. Нижняя получила со стороны фасадов вид неправдоподобно низкого, «перетянутого», фальшивого восьмерика под острым белокаменным карнизом. Верхнюю образует сам шатер с гуртами, итоговая высота которого после такой манипуляции сократилась с 7 до 5,5 м. Между двумя кладками внутри шатра был пропущен еще один трехобломный карниз. На шатер водружен восьмигранный световой фонарь.
Основываясь на этих данных, мы в состоянии высказать следующие взаимоисключающие предположения: или шатер в форме каменного «неба» был поставлен над четвериком церкви Троицы по зрелому размышлению, а вначале предполагалось нечто иное, например купол или барабан с куполом, или же подбарабанное кольцо над, по сути дела, уже готовым к перекрытию восьмериком было выложено с какими-то более тонкими целями, например для смягчения перехода от довольно грубого, не совсем симметричного, далеко не идеального восьмерика к шатру, чтобы иметь возможность основать шатер как бы заново, зрительно откорректировав его.
Так это или не так (нам ближе последняя точка зрения), но при том окладе храма, который зодчие с самого начала для себя избрали, их окончательное решение не могло быть свободным от импровизации. Ведь в распоряжении зодчих того времени была только одна готовая форма перекрытия средней величины храма из арсенала весьма редких на Руси купольных церквей типа «барабан на четверике» или «купол на четверике», т.е. именно та конструкция, которая много позже была применена в церквях Иван-города под Нарвой. Блистательным памятником этого редкого типа купольного перекрытия остаются малые приделы Покровского собора на Рву, в одном из которых есть даже две переброшенные дополнительные арки, однако миниатюрные размеры приделов давали Барме «с товарищи» безграничные возможности варьировать данную форму вплоть до придания крохотным куполо-барабанным церквам столпообразности (чего зодчий Троицкой церкви был, разумеется, лишен). Здание Троицкой церкви с его нелепым планом и тремя равновеликими четверику (!) «плоскими» алтарными экседрами могло родиться только в уникальной обстановке строящегося Государева двора, в процессе очень масштабного, требующего нестандартных решений, «разносилуэтного» строительства, Ничего общего с известными памятниками русского шатрового зодчества церковь Троицы, разумеется, не имеет. Она – вне традиции.
Однако, отказавшись по каким-то причинам от купольного перекрытия (или изначально преследуя свои определенные цели, для чего и сочинялась вся конструкция), зодчие Троицкой церкви добились в интерьере храма удивительного эффекта. И этому более всего способствовало устроенное в створе с узкой частью четверика громадное подбарабанное кольцо! Благодаря особой «раздвинутости» стен четверика на север и на юг и отсутствию нормальной восьмериковой опоры у зрителя рождается полное ощущение парящего над его головой граненого купола. Ничего подобного наша шатровая архитектура не знает. Памятник бесконечно оригинален и, возможно, более продуман, чем это нам кажется. Поскольку же Троицкая церковь с шатром оказалась в опричный период расписанной (по В.М.Сорокатому – в 60-е гг. XVI в.), есть все основания предполагать, что храм строился с расчетом на живопись, что его приземистый, приближенный к «деревянному небу» шатер был специально задуман для росписи. Заметим сразу же, что поздняя датировка росписи вовсе не означает поздней датировки самого шатра. Известно, что домовый Архангельский собор на Государевом дворе в Кремле был окончен в 1508 г., а расписан впервые где-то в 60-е гг.
Парящий в воздухе, как бы лишенный внутренней опоры, шатер – не единственный поражающий воображение элемент памятника. Не менее оригинальны и его алтари. Специальное алтарное помещение в храме отсутствует. Пространство алтаря размещено под тем же куполом, что и пространство для молящихся (что является ярким признаком храма башнеобразного типа). От остальной церкви его отделяла деревянная алтарная преграда с высоким трехтябловым иконостасом. Три обращенные в храм «мелкие» алтарные экседры представляют собой всего лишь элегантную декорацию, своего рода «задник». В центральной экседре помещалось открытое зондажами Н.В.Сибирякова каменное горнее место, перед ним (на полу из керамической плитки, уже под куполом храма) – остатки каменного престола. В северном алтаре Сибиряковым же был восстановлен стенной жертвенник в виде врезанного в тело экседры высокого «смятого» полуцилиндра, перекрытого надетою на железную связь белокаменною плитою. Перед нами – большой бесстолпный храм, воспроизводящий в увеличенном масштабе обычные для Московской Руси придельные церкви-капеллы. Подобное решение алтарного пространства, на что указывал еще М.А.Ильин, ставит церковь Троицы в один ряд с памятниками столпообразной традиции.
Три «мелкие» алтарные экседры вместо одной вместительной апсиды (что было бы логичнее при выборе бесстолпной конструкции церкви) – результат особого статуса храма. Прямо за алтарями, в перевязку с ними и в створе с северной и южной стенами четверика, располагалась (как уже говорилось) составляющая одно целое с церковью белокаменная казенная палата – личная сокровищница великого князя. Такова уходящая в глубь веков традиция устройства казнохранилища при алтарях и святилищах у всех народов на всех этапах цивилизации. Троицкая церковь не составляет здесь, таким образом, исключения, являя полную параллель домовому Благовещенскому собору на Сенях в Московском Кремле. Эта разобранная в 1680 г. палата, будучи в отличие от одностолпной Казенной палаты при Благовещенском соборе всего лишь узким папертным застенком, «вдавила» тем не менее внутрь храма его алтари, чем и предопределила в конечном счете его поперечную ориентацию. Но этим, как мы понимаем, деформирующее воздействие заалтарной казенной палаты на архитектуру церкви Троицы не исчерпывается. Зодчим храма пришлось проявить особую изобретательность при освещении алтарного пространства. Как установил при реставрации памятника Н.В.Сибиряков, алтарные экседры освещались окнами-люкарнами погребного типа, пропускавшими свет сверху вниз через специально устроенные косые световые колодцы, имевшие над кровлей казенной палаты специальные каменные приямки под крышками (погибли в 1680 г. вместе со сводом палаты). Эти резко диссонирующие с обычной храмовой архитектурой, превращающие нормальную церковь в «пещерную» алтарные окна смутили нас в свое время, заставив поверить в якобы имевшую некогда место капитальную перестройку всего сооружения.
Подведем некоторые итоги. Причина выбора зодчими изначально деформированного, «сдавленного» оклада как будто очевидна. В ней повинна встроенная в алтари казенная палата, не позволившая распространить церковь дальше на восток. Однако подобное объяснение не удовлетворяет с рациональной точки зрения: почему здание нельзя было заложить так, чтобы в нем могли свободно уместиться и правильно размеченная церковь, и заалтарная палата, как это сделано было, например, в Благовещенском соборе Московского Кремля? Думаем, что идея взаимопроникающих объемов была вложена в конструкцию здания изначально, что она носила, по всей видимости, принципиальный характер и в этом качестве предшествовала замыслу шатра. Присутствие за алтарями (по сути дела, «в алтарях») специальной палаты не только деформировало церковное здание, не оставив ему вариантов для устройства традиционной, разумной, формы перекрытия, но и «ослепило» его алтарные экседры, помешало сделать в них правильные окна, привело к нагромождению связанных с освещением технических трудностей. Перекрыть этот сложно построенный, не имеющий восточной стены четверик иным способом, кроме купольной конструкции любого типа, в те времена не представлялось возможным. Выбор зодчих пролегал между сферическим или восьмигранным куполом (на барабане или без барабана) и русским «деревянным» шатром. Зодчие остановились на последнем. Для второй столпообразной церкви Государева двора – церкви Алексея митрополита был выбран восьмигранный купол24, для церкви Троицы – шатер. Экспериментальный характер этого единственного в своем роде шатрового сооружения, таким образом, ясен.
Как датировать эту уникальную русскую шатровую капеллу? На первый взгляд датировка церкви Троицы представляет собой дилемму: в качестве памятника шатрового зодчества она, согласно существующей теории, должна быть отнесена к середине–третьей четверти XVI в.; в качестве здания, стилистически, конструктивно и технологически безраздельно принадлежащего данному архитектурному ансамблю, она должна датироваться по его главному зданию – Покровской соборной церкви, освященной 11 декабря 1513 г. В свое время нам уже приходилось высказываться по этому поводу25. В пользу единого происхождения Троицкой церкви и трех других сохранившихся зданий ансамбля говорят многочисленные факты. У памятника то же связующее, тот же кирпич, тех же кондиций белый камень, те же «якорные» с кольцами сложной ковки связи, те же обработанные кирпичными инкрустациями (в виде «впадин» или «ковчегов») фасады при строго белокаменном архитектоническом убранстве, те же наборы повторяющихся профилей цоколей (по три типа на каждом памятнике, на Успенской церкви – четыре), тот же различных модификаций классический трехобломный антаблемент (используемый в капителях и карнизах), та же архитектура итальянских «плоскостных порталов» и, наконец, та же «фряжская» резьба с некоторыми элементами «готицизма», исполненная, однако, на разных памятниках разными руками. Высказываясь несколько лет тому назад по данному вопросу, автор допустил в силу незнания лишь одну ошибку: он был убежден, что кирпичные инкрустации в процессе возведения здания тут же расписывались «под кирпич» по кирпичу же (именно такую роспись мы встретили при поверхностном обследовании с лесов Покровского собора). Однако сегодня мы знаем: по крайней мере три памятника Александровского ансамбля на протяжении десятков лет после их создания вообще не расписывались и не белились. Покровский собор – до, по крайней мере, 70-х гг. XVI в., Успенская церковь – до превращения в монастырскую, церковь Троицы – до перестройки 1680 г. Как мы понимаем, при разновременном их сооружении такого просто не могло быть! А потому вопрос о дате постройки всех четырех дворцовых церквей Александровой Слободы, включая церковь Троицы, можно считать закрытым. Как и весь дворец, вместе с крепостью и палатами, они возведены итальянскими мастерами великого князя после окончания Большого Кремлевского дворца в Москве. Отсюда следует, что вышеизложенная дилемма иллюзорна: в ней спорят между собой не факты, а теория (т.е. наше сегодняшнее понимание генезиса русского шатрового зодчества – и факты26). В такой ситуации долг исследователя – безоговорочно встать на сторону фактов и датировать церковь Троицы, как и весь дворец, 1509–1513 гг.27
Однако, поскольку стилистическое и конструктивное единство церкви Троицы с другими зданиями ансамбля не всеми исследователями принимается в качестве абсолютно бесспорного аргумента в пользу их общей датировки (считается, что памятник мог быть построен таким «в подражание» остальным зданиям, – это через пятьдесят-то лет!), обратимся к малоизвестным обстоятельствам создания самого Государева двора в Новом селе Александровском, для чего перечтем еще раз ранее цитировавшийся источник и попробуем отыскать в нем указание на постройку в том году, помимо Покровской, еще и Троицкой церкви. Может показаться странным, но при внимательном рассмотрении источника такое указание там обнаруживается.
Источник – вписанный на пустых листах богослужебной рукописи XVI в. «краткий летописец» – был обнародован иеромонахом Арсением при описании им библиотеки Троице-Сергиева монастыря в сильно урезанном виде28. «Летописец» по составу своему не представлял для издателя (и справедливо) особого интереса. Подавляющая часть его известий (включая даже отдельные троицкие) была извлечена из общерусской летописи, и лишь несколько, современных составителю и относящихся к постройкам и освящению церквей, были напрямую связаны с местными событиями и, правильнее сказать, с одним событием, весьма заметным в жизни тогдашнего общества и государства. При публикации, носившей всего лишь осведомительный характер, иеромонах Арсений сделал в тексте самые, на первый взгляд, незначительные купюры, которые, однако, держали на себе все остальное: сообщали событию протяженность во времени, называли отдельных участников, а главное – давали почувствовать смысл и значение происходящего. В результате означенное событие лишилось присущей ему картинности, а главное – потеряло в такой редакции свой исторический масштаб. Со времен Арсения этот весьма небольшой по объему рукописный текст никем не перечитывался. Событие, о котором идет речь, – зимний поход великого князя в декабре 1513 г. в Троицу на новоселье (плюс то, что ему непосредственно предшествовало). Вот его полный текст от начала и до конца:
«Лета 7021 октября 3 в Сергиеве манастыре основаша ворота кирпичныи, а на воротех во имя Сергия чюдотворца. Лета 7022 ноября 28 священа быстъ црквь древяная в Клементьеве. Того ж лет<а> декабря 1 сщнна бысть црквь Покров стеи Бцы в Новом селе Олександровском. Тогды ж кнзь великий и во двор вшел. Того ж мсца декабря 15 сщнна бысть црквь кирпичнаи в Сергиеве манастырь на воротех стый Сергий, а сщал ее епспъ Митрофан Коломенский да игумен Памва, а на сщние был кнзь великий»29.
Прежде чем прокомментировать этот текст, добавим к нему очень важную выписку из другого краткого троицкого летописца, изданного некогда А.Ф.Бычковым:
«7021 поставлены в Сергиеве мнстре ворота кирпичныа, <а> на воротех храм прпъднаго отца Сергия чюдотворца, а на правой стране приделъ Василиа Парийский»30.
Итак, возвращенные на свои места «околичности» восстанавливают подробности, хронологию (а с ними и смысл) одного из напрочь забытых троицких походов Василия III. Этот не отмеченный летописями многодневный поход (причем, вопреки обыкновению, зимний) был посвящен знаменательному событию в жизни великокняжеской семьи и двора – новоселью в только что отстроенном Государевом дворе (дворце) в Новом селе Александровском и одновременно ктиторскому посещению Троицкого монастыря.
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с полной редакцией известия, – состав участников со стороны духовенства. Наконец-то мы получаем ответ на давний мучительный вопрос, почему о постройке вблизи столицы громадного загородного дворца нет официальных упоминаний. Оказывается, в походе с Василием III не было митрополита Варлаама, хотя как первосвященник он должен был участвовать в нем непременно! Вместо него – и там, и там – священнодействовали викарный Митрофан Коломенский и троицкие власти в лице игумена Памвы Мошнина, келаря и соборных старцев (последнее – по чину, поскольку чин освящения требует присутствия большого количества духовных лиц, певчих и пр.). Вероятно, митрополит был болен. А это означает, что среди действующих лиц не было гипотетического «образованного клирика» из митрополичьей свиты, выполнявшего обязанности хрониста. Ни при дворе великого князя, ни тем паче при дворе коломенского епископа летописанием никто, как видим, не занимался. Эта судьбоносная для выдающегося памятника русской истории и культуры болезнь (думаем, это была все-таки болезнь, хотя отсутствие митрополита могло иметь и другие причины) сделала то, что постройка вблизи Москвы первоклассной загородной резиденции, по сути дела, «замка», не отложилась в исторической памяти русского народа и, в конце концов, начисто ускользнула от внимания ученых. В народном сознании Слобода навсегда осталась «кровопийственным градом», местом пыток и казней, а не загородных увеселений, охоты, пиров и богомольных наездов московского двора, чем была на самом деле.
Второе, что открывается в вышеприведенных текстах, – протокольная последовательность событий, и главное из них – совершенный в Троице заключительный акт. Не все здесь поддается восстановлению. Поскольку попасть в Слободу, минуя Троицу, нельзя (если гости, конечно, шли из Москвы), установить сегодня в деталях, как все происходило в действительности, уже не представляется возможным, как невозможно решить сейчас, принимал Василий III участие в постройке и освящении Успенской церкви в Клементьеве на въезде в Троицкий монастырь 28 ноября или нет31 (в постройке, скорее всего, принимал, в освящении, вероятно, – нет). В остальном же последовательность событий, как показывают даты, была следующей: сначала было трехдневное – с 11 по 13 (14) декабря новоселье, потом – уже второе, протокольное, посещение монастыря, имевшее место 15 декабря 1513 г.
Нас, в первую очередь, должно интересовать ктиторское посещение. В нем – ключ ко всему остальному. Это была итоговая, завершающая часть похода и одновременно – исполненный глубокой символики акт окончания грандиозного государственного строительства, начатого двумя десятилетиями раньше (еще при жизни Ивана III) постройкой Большого Кремлевского дворца в Москве и законченного сооружением второго, меньших размеров загородного дворца вблизи главного московского богомолия – Троице-Сергиева монастыря. Последним штрихом к этой, в основном исчерпавшей себя к осени 1512 г., программе стала закладка в монастыре 3 октября этого года кирпичных Святых ворот с двухпрестольной надвратной «настоятельской» церковью в честь небесного крестного Василия III, «начальника» обители игумена Сергия и тезоименитого ангела ктитора Василия Парийского32. Постройкой на воротах церкви своего имени Василий III брал монастырь под свою личную защиту. Придел Василия Парийского в надвратной церкви Сергиева монастыря – первая, насколько мы знаем, и единственная именинная церковь 34-летнего Василия III, поставленная им в знак окончания домостроительного цикла в своей подмосковной лавре вблизи своего нового загородного жилища. Ни в главном – Кремлевском – дворце, ни вообще в Москве, ни в Новом селе домашней церкви в честь своего ангела у Василия III не было. Соединение двух разного уровня известий – известия о завершении дворца с известием о постройке в 40 верстах от него персонального храма хозяина дворца в одном частном монастырском летописце – не случайность, не результат совпадения места и времени, сроков готовности построек, близости расстояний и т.д., а вехи единого – троицкого – деяния, и память о нем сохранил для нас, как видим, троицкий источник.
Двойное освящение надвратных церквей в присутствии двора происходило, надо полагать, с особой пышностью; помимо обычных молебнов у гроба чудотворца Сергия в Троицком соборе (на этот раз особенно торжественных, поскольку освящалась вторая на Москве (об этом ниже) и первая в обители церковь во имя чудотворца) подавалась милостыня игумену и братии, одаривались гости, ставились столы в трапезной и т.п. Не будучи официальным33, источник не сообщает, был ли Василий III в походе один или вместе с великой княгиней Соломонией. Однако, поскольку новоселье – крепкий народный обычай – требует для будущего счастья полной семьи, мы вправе сделать вывод, что в походе были оба двора – его и ее. Таковы основные параметры и некоторые акценты этого троицкого похода. Любое посещение Государева двора в Новом селе будет отныне начинаться и заканчиваться в Троице.
И, наконец, третье и, наверное, главное, что непосредственно не следует из источника, но надежно экстраполируется из него (при условии знания памятника), это – двойное посвящение дворца Троице и Покрову. Выбор Василием III в качестве главного престола загородной резиденции праздника Покрова Богородицы (празднуется 1 октября) вопросов не вызывает. Известно, что лето на Руси (да и нигде, наверное, в мире) никогда не являлось временем отдыха. Это было время страды, изнурительных сельских трудов, а для государства еще и время повышенной военной опасности. Полноценный отдых начинался лишь с окончанием хозяйственного года, с предзимья – с Покрова. На Покров на Руси сводился баланс, заключались сделки, игрались свадьбы, забивался скот, открывалась господская охота. Начиная с Покрова, отдыхала и бражничала вся крестьянская страна – и князья, и пахари. Посвятив расположенную на входе во дворец огромную соборную церковь Покрову, Василий III не только принимал на себя обязательства ходить сюда «к празднику», но и декларировал сугубо светский, государственный характер совершаемых здесь, на отдыхе, трудов. Этому отвечала ренессансная стилистика дворца, роскошь его храмов, палат и комнат. В отличие от близлежащей лавры, где у него также были свои «кельи на приезд», здесь во дворце он мог заниматься государственными делами, жить семейной жизнью (меньшую «половину» двора занимала, как было принято, великая княгиня со своим штатом), охотиться. Построив дворец в двух «поприщах» от лавры (расстояние играло роль условной «карантинной зоны»), Василий III исключительно удачно решил свои проблемы, совместив личное богомолие с местом своей «прохлады» и «потехи», не нарушая приличий в глазах подданных. Здесь он «работает», руководит канцелярией, принимает послов и т.п., но и здесь же, под боком у Троице-Сергиева монастыря, он постничает, молится, празднует в узком кругу Троицу и Сергиеву память и ходит или не ходит, смотря по обстоятельствам, «к празднику». В дни ежегодного осеннего троицкого похода он мог, например, придя на Сергиев день (25 сентября) в монастырь, оказаться через четыре дня в Новом селе у Покрова и дальше уже жить, как заблагорассудится, хоть до Рождества. Однако, удаляясь во дворец, великий князь не порывал связи с обителью Сергия – центром духовного притяжения всей округи и местом своего крещения. Эта своеобразная двойственность и редкое даже для средневековья соединение в его жизни светского и религиозного начал нашли себе беспрецедентное выражение в архитектуре Александровского дворца.
Будучи, по европейским понятиям, первым «королевским замком» страны и далеко превосходя Сергиев монастырь красотой и величием строений, Александровский дворец в плане духовном играл всего лишь роль «троицких выселок» для наезжавшего сюда время от времени двора. Уже архитектура главной соборной церкви поражает обилием троицких аллюзий: у Покровского собора тот же, что и у Троицкого – увеличенный на сажень, со смещенными к востоку столбами, план34, та же «большая» глава на плоском постаменте, те же крытые тесом «бессводные» паперти (при наличии во дворце сводчатых каменных папертей при Успенской церкви), те же «сторонние», покрытые «фряжскими» орнаментами, «русские» перспективные порталы (порталы остальных трех церквей дворца исключительно «фряжские») и, наконец, те же «татарские» (по Лелекову) орнаментальные резные пояса начала XV в., насильственно включенные в систему классического ренессансного декора. Эти черты делают Покровский собор откровенной итальянизированной копией монастырского собора. Подобная, совершенно неоправданная с эстетической точки зрения, рабская зависимость соборной церкви от усыпальницы Сергия Радонежского как ничто другое издавна вредила репутации памятника в глазах ученых.
Но этим связь Александровского дворца с Троице-Сергиевым монастырем не исчерпывается. Немногие поклонники древнерусского зодчества знают, что Святые ворота монастыря, на которых некогда стояли две церкви Василия III и через которые в праздничные дни в монастырь входят прибывшие из Москвы богомольцы и туристы, в действительности, согласно древней топографии, были обращены в противоположную от Москвы сторону – на находящуюся в 40 км в северо-востоку Александрову Слободу35, на ведущую к «ставке» великого князя Александровскую дорогу. Поскольку ворота и дворец, согласно нашему источнику, были построены теми же мастерами и освящены, что называется, «день в день», мы вправе предположить, что архитектура ворот зеркально повторяла дворцовую, иначе говоря, была и «фряжской» и «кирпичной». «Кирпичными» называет ворота и письменный источник. Невзирая на разделявшее их огромное расстояние, ворота и дворец представляли собой своего рода масштабную архитектурную контаминацию: ворота смотрели на Слободу, Слобода – на ворота. Какие церкви стояли на воротах, мы, благодаря источнику, знаем. Какие церкви встречали путника на другом конце Александровской дороги при въезде во дворец? Прямо на дворцовой лестнице стояла Покровская, но она, как известно, была не одна. Справа, слева и позади нее находились другие престолы. Какие?
Мы, наконец, подходим к главному. Ясно, что посвященность дворца Троице-Сергиевскому культу не могла ограничиться одними лишь орнаментами. «Троицкой» была его архитектура, «троицкими» должны были быть и посвящения его престолов. Сколько церквей было в Троице? Известно, что в Сергиеве монастыре до 1512 г., до закладки Василием III Святых ворот, было всего две церкви, обе Троицкие: соборная – над гробом чудотворца Сергия и подколоколенная – переосвященная в конце XVI в. в церковь Сошествия Святого Духа. С 1513 г., с момента освящения ворот, церквей стало три, а основных престолов два: Троицы и Сергия36. Источник, говоря о новоселье («во двор вшел»), называет в числе освященных в тот раз престолов только главный – Покровский, и ничего не говорит об остальных дворцовых церквах, в том числе о расположенных тут же на папертях двух приделах самого собора – Никольского в алтарях и Сергия Радонежского в виде пристроенного снаружи к жертвеннику объема. Это игнорирование придельных церквей – общее место нашего летописания37. Когда они были освящены? Здесь нам на помощь вновь приходит рукописный источник. Благодаря известию об освящении церкви на воротах с тем же посвящением, мы вправе умозаключить, что и эти два придела – Сергия Радонежского и обозначенный писцовыми книгами начала XVII в. как личная молельня государя придел Николы чудотворца38 – были освящены в те же дни, разумеется, после основного престола, т.е. 12-го, в крайнем случае, 13-го декабря, Митрофаном Коломенским, игуменом Памвою и старцами. Ведь «первою на Москве» церковью преподобного Сергия была не церковь на воротах, освященная 15 декабря и заложенная согласно «Краткому летописцу» всего лишь поздней осенью 1512 г., когда дворец в Новом селе вчерне был уже готов и писались утварь и иконы, а одноименный ей Сергиевский придел во Дворце, основанный, как нетрудно подсчитать, тремя годами ранее, в 1509 г. при закладке самого дворца39.
Не освятив первую церковь у себя во дворце, великий князь не мог идти освящать вторую. В тот же день, но с некоторым опережением, был освящен и придел «одесную алтаря» – Николы чудотворца, имевший в качестве личной молельни государя перед Сергиевским приделом фору. Присутствие Сергиевского престола в преддверии дворца, в храме, посвященном Покрову, но демонстративно одетом при этом в «троицкие» одежды, – явление, обещающее некую кульминацию. Действительно, два синхронно и впервые основанных Сергиевских храма не столько «закрывают», сколько «открывают» троицкую тему, в первую очередь для дворца. Торжественно обращаясь к памяти своего небесного патрона, ставя ему две малые каменные церкви, мог ли Василий III не поставить «у себя» парную ему большую церковь – Живоначальной Троицы? Ведь помимо осенних походов на Сергиеву память в обычаях московского двора были не менее грандиозные походы в начале лета на Троицу с последующим «плотным» посещением дворца. О взаимосвязи и субординации этих двух престолов на Руси говорит солидная практика устройства соименных престолов в приписных к Троице-Сергиеву монастырях и по селам40. Закономерность следующая: если оба праздника встречаются почему-либо вместе в одном монастыре или в одном храме, под общей крышей, то престол большей церкви обычно посвящается Троице, а престол малой или придельной – Сергию41. Но в нашем дворце придел Сергия находится при Покровском соборе. Значит, где-то здесь, поблизости, в том же дворце должна находиться и «средняя» после Покровской – Троицкая церковь, тоже каменная и теми же руками построенная. Такую – большую, чем Сергиевский придел – домовую церковь-капеллу мы встретили в личных жилых апартаментах великого князя, в глубине дворца. В отличие от перекрытой коробовым сводом с прорезью одноглавой Сергиевской церкви, она неожиданно оказалась шатровой. Тем не менее анализ ее во всем тождественной архитектуры не оставляет сомнений, что она была построена тогда же и освящена в те же дни, что и Сергиевская церковь, в обстановке трехдневных празднеств, в присутствии великокняжеской четы и двора. А потому, отбросив сомнения, смело датируем ее декабрем 1513 г.
Тогда же на Дворце были освящены еще две малые церкви – Успенская с приделом Николая чудотворца на половине великой княгини и Алексея митрополита «под колоколами» – для отпевания умерших.
В заключение позволим себе поделиться с читателем следующим соображением: мы абсолютно убеждены, что Покровский собор Александровой Слободы строился Василием III как «Троицкий» (откуда и посвящение придела Сергию Радонежскому, и все остальное). Однако такое дублирование посвящений, как было показано выше, делало невозможным одновременное посещение двух Троицких церквей «в праздник», на Троицын день, отчего для второго престола и была выбрана близкая к памяти Сергия осенняя дата. Отказаться же вообще от Троицкого престола хозяин дворца ни при каких обстоятельствах не мог, и последний был удален с авансцены вглубь дворца.
Другого объяснения архитектурным парадоксам древней Александровой Слободы мы не знаем.
1994 г.
Примечания
1. «Свадебный чин царевича Ивана Ивановича и роспись приготовления к свадьбе 1571 г.» не опубликованы. ОР БАН Ед. хр. 16.15.15 (Осн. 233). Л. 161–174. Рукопись ХVII в.
Сведения взяты нами у О.А. Яковлевой «Кремль в Александровской Слободе в эпоху Ивана IV» (см.: Труды Института истории естествознания и техники. Т.7. М., 1955. С. 170, примеч. 32). Подлинник автору в настоящее время недоступен.
2. Писцовые книги Переяславль-3алесского уезда XVII в. неоднократно публиковались (выборочно). Наиболее полно во Владимирских губернских ведомостях (1854. № 17, 20). Писцовые книги 1625, 1627–1630, 1637–1639, 1640–1643 и 1675–1677 гг. хранятся в РГАДА, в ф. Поместного приказа. Ссылки на них встречаются во всех работах, посвященных памятникам Александровой Слободы. Имеется в виду следующее место: «...город осыпной..., а в нем храм каменный Покров пресвятые Богородицы... В городе же в осыпи место, что бывал Государев двор, придел Николая чудотворца, Живоначальные Троицы, Алексея митрополита, Успения пресвятые Богородицы...» (ПК 1629 г.), а также «место двора Государева придел Святого Николая чудотворца...» (ПК 1625 г.). Расшифровку этого трудного для понимания текста см.: Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы // Информационный курьер Московской организации Союза архитекторов РФ. 1991. № 7. С. 18. Автор статьи к подлиннику не обращался. См. также первую статью настоящего сборника, являющуюся кратким изложением упомянутого доклада.
3. ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 2. Карт. XII. Ед. хр. 1268. О ремонте неизвестной каменной церкви в Александровской Слободе, 1641 г.; В 1639–1640 гг. возобновляется выдача ладана в церковь Троицы, что в Осыпи: РГАДА, ф.396 Дворцовый отдел. Оп.2. 4.1. Ед.хр.417. Ладанная книга 1639 г., Л. 84 об, 85, и ед. хр. 418. Ладанная книга 1640 г., Л. 58, 59, а с нач. 40-х гг. «строятся» церковные одежды: там же, ед. хр 486. Книги церковного строения 1643 г., Л. 29, 29 об., 30, 33, 34, 62, 62 об., 34 об.
4. Монастырский летописец или сказание об основании Успенской девичьей обители... (первой половины XVIII в.) //Леонид, архим. Историческое и археологическое описание первоклассного Успенского женского монастыря в г. Александрове (Владимирской губернии). СПб., 1884., изд. 1-ое. С.22. В источнике царь Алексей Михайлович называет хоромы «своими», что верно с точки зрения прав собственности, но не по существу. Строил хоромы его отец.
5. Там же, с.36.
6. Книга записная дворцовых строительных работ в Александровой Слободе в Успенском девичьем монастыре 1680–1681 гг. ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 365; Благословенная грамота патриарха Иоакима, данная Успенскому девичьему монастырю в Александровой Слободе на перестройку в нем каменной церкви 7188 (1680) г. июня 21 (ветхая). Ф. 17. Оп. 2. Карт. 6а. Ед. хр. 762. Л. 1, 2. Как показывает записная книга, к моменту выдачи благословенной церковь была почти полностью перестроена, т.е. грамота давалась задним числом.
7. Придел Федора Стратилата упоминается только в благословенной грамоте патриарха Иоакима (см. примеч. 6) и нигде больше. Каким было его древнее посвящение, неизвестно. Поскольку в монастырский период храмы переосвящались, вопрос остается открытым. Придел мог быть посвящен Федору Стратилату после того, как ктитором монастыря стал царь Федор Алексеевич, носивший это имя. Позднее в честь ангела царя была построена церковь на Святых воротах.
8. Книга записная... ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 365. Л. 27 об.,28,29,46,48,105 об.
9. Никаких известий об имевшем место переосвящении соборной и Троицкой церквей не сохранилось. Ясно, что произошло это в момент полной перестройки монастыря. Непосредственным поводом к этому могло стать создание крипты под алтарем собора для умершего в августе 1681 г. местного святого монастырского духовника Корнилия, инициатора перестройки. Однако в документах центральных учреждений собор еще долго оставался Покровским – таковы особенности древнего делопроизводства.
10. Горностаев Ф.Ф. Шатровые храмы // История русского искусства. Т.2. М., б.г. С. 7.
11. В своей жизни проф. А.И. Некрасов обращался к памятникам архитектуры Александровой Слободы дважды. Его первые работы, при всем их положительном значении в деле ознакомления общественности с замечательным архитектурным ансамблем, еще наивны с историко-архитектурной точки зрения. Попав за два года до смерти в ссылку в Александров, он вторично обратился к теме Александровой Слободы и написал очень живую, полную натурных наблюдений и остроумных догадок книгу, оставшуюся, к сожалению, неопубликованной (см.: Памятники Александровой Слободы, их состояние и значение. М., 1948. ЦГАЛИ. Ф. 2039. Оп. 1. Ед. хр. 17.) Особое значение при написании этой книги имели личные контакты А.И.Некрасова с исследователем Александровой Слободы архитектором П.С.Полонским. Хранящаяся в Александровском музее отрицательная рецензия Полонского на книгу Некрасова не перечеркивает многочисленных достоинств этой рукописи.
12. Арсений, иеромонах. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкого Сергиева монастыря. М., 1888.
13. Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980; Брунов Н.И. Покровский собор. Храм Василия Блаженного в Москве. М., 1988.
14. Сведения о работе в Покровском соборе комиссии Центральных реставрационных мастерских мы нашли в «Рецензии на рукопись проф. А.И.Некрасова «Памятники архитектуры Александровой Слободы» П.С.Полонского» (М., 1948, архив Александровского музея).
Протокол об осмотре подписан 2 июня 1924 г. Анисимовым, Чириковым, Левинсоном и др. В печати об открытии сообщил в своей статье Н.Малицкий, где он ссылается на читанные незадолго перед этим в Академии истории материальной культуры доклады М.К.Каргера (1925 г.) и Е.О.Костецкой (1927 г.).
15. Таубе И., Крузе Э. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922. С.51; Штаден Г. О Москве Ивана Грозного: Записки немца-опричника. М., 1925, С.67, 90, 91.
16. Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Александровская Слобода. М., 1970. С. 25-27.
17. Некрасов А.И. Указ. соч. С. 198, 227 и др.
18. Кавельмахер В.В. Указ. соч. С.18.
19. Если собрать воедино все встречающиеся в литературе ссылки на местные «предания» и «легенды», то таких легенд окажется три: 1) двор Василия III был при Покровской церкви, 2) двор его сына, царя Ивана, был при Троицкой соборной церкви и 3) двор царя Ивана был при Успенской церкви. Это неправомочное (если вспомнить писцовые книги, см. примеч. 2) разделение одного и того же Государева двора между двумя государями и тремя церквями – исторически и топографически абсурдно. Однако у каждой версии имеется свой источник, а у версии об Успенской церкви их даже два. Источник первой легенды – свидетельство краткого летописца (об этом – ниже) об освящении Покровской церкви в 1513 г. и о вхождении Василия III «во двор». Покровская же церковь самой легенды – это в действительности Троицкая церковь во Дворце, о перемене престола которой сочинители легенды не догадывались. Источник второй легенды – это «Сказание об основании девичьей обители...» первой половины XVIII в. (по Леониду), где речь идет, как мы помним, о «царских хоромах при Троицкой церкви». Троицкая церковь этой легенды – это переосвященная Покровская церковь 1513 г. Что касается Успенской церкви в качестве центра особого (чуть ли не «опричного»!) двора, то эта идея появилась в результате чтения писцовых книг первой трети ХVII в., где действительно встречается непонятная фраза: «...Государев двор, придел Николая чудотворца...» Из другого источника – монастырского архива – заимствованы сведения о том, что придел Николая чудотворца до его переосвящения в 60-е гг. XVII в. был при Успенской церкви. Однако еще один Никольский придел был при Покровском соборе, и с него-то и начинался собственно Государев двор! (см.: Кавельмахер В.В. Указ. соч.). Творцами всех трех легенд были грамотные историографы-любители из числа жителей Слободы. В их осведомленности нет ничего невероятного: прочесть в монастыре или воеводской канцелярии выписки из писцовых книг Поместного приказа не составляло труда уже во второй половине ХVII в., наши же легенды все не ранее второй половины XVIII в. Подлинных легенд Александрова Слобода, видимо, не сохранила. Все это памятники письменной традиции и принадлежат Новому времени. Использовать их в научных целях – нецелесообразно.
20. Кавельмахер В.В. Указ. соч.
21. Кавельмахер В.В. Новые исследования Распятской колокольни Успенского монастыря в Александрове // Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования. М., 1991. С. 110, примеч. 4. (См. также статью в данном сборнике).
22. Следы западной пристройки были обнаружены на чердаке трапезной епархиальным арх. Латковым еще в начале XX в. В отделе графики ГНИМА им. А.В.Щусева хранится его схематический обмерный чертеж разобранного свода (Р-У № 1699/2, 1921 г.). О пристройке писали Некрасов (см.: Некрасов А.И. Указ.соч. С. 241), Бочаров и Выголов (см.: Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Указ.соч. С. 27). По каким-то причинам наши предшественники считали пристройку органической частью памятника. Изначальными считаются у них и новый погреб, и новый подклет.
23. На чердаках Успенской и Троицкой церквей сохранились пяты вторичных пологих кирпичных сводов, сделанных с целью замены тесовых кровель после страшного пожара, уничтожившего белокаменный декор Успенской церкви. Пожар датируется XVI в., горели тесовые кровли папертей. Поверх сводов выкладывалась лотковая черепица. На остатки сводов обратил внимание А.И.Некрасов при осмотре чердаков Троицкого храма (см.: Некрасов А.И. Указ.соч. С.204).
24. См. нашу реконструкцию: Кавельмахер В.В. Новые исследования... С. 124)
25. Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры...
26. Предлагаемое отнесение церкви Троицы к первым десятилетиям XVI в. подрывает, на первый взгляд, самые основы теории русского шатрового зодчества. Однако так ли уж строга и совершенна эта теория? Так, первым каменным шатровым храмом на Руси считается с некоторых пор известная «заместительница» церкви Троицы на Дворце – церковь Вознесения в Коломенском, построенная тем же ктитором и с тою же целью – в качестве холодного дворцового храма в своей новой подмосковной резиденции. Постройка была осуществлена с неслыханным размахом и огромными материальными затратами. Строил церковь, как полагают исследователи, выдающийся итальянский архитектор Пьетро Франциско Аннибал (Петрок Малый) в 1528–1532 гг. В истории русского зодчества храм остался произведением, с точки зрения его формального совершенства, единственным и неповторимым. Однако на этом процесс возведения каменных шатровых храмов в Москве в силу ряда обстоятельств прервался. «Массовое» строительство шатровых церквей возобновилось лишь в 50-е гг. XVI в. – враз, спонтанно, в поразительно развитой и совершенной форме, ничего общего, однако, с церковью Вознесения уже не имеющей. Разрыв нового строительства с конструктивной идеей и пластикой предполагаемого прототипа еще как-то можно объяснить, но как объяснить безупречно зрелую, «выдержанную», самостоятельную форму новой серии памятников? Ведь если следовать данной теории, получается, что едва ли не первыми после двадцатилетнего перерыва были построены такие шедевры, как центральный шатровый столп Покровского собора на Рву (1554–1561 гг.) и не дошедший до нас пятишатровый Борисоглебский собор в Старице (1557–1561 гг.). Можно, конечно, предположить, что оба здания строил гениальный Барма «с товарищи». Но кто тогда строил другой шатровый шедевр – не дошедшую до нас церковь Сергия на Троицко-Богоявленском подворье в Кремле (1558 г.)? Или не столь безупречный с точки зрения формы, но уверенно сделанный шатровый реликварий – усыпальницу Авраамия Ростовского в Авраамиево-Богоявленском монастыре Ростова Великого (1554 г.)? И кто создал конструктивно грубую, но вызывающе дерзкую шатрово-крестовокупольную конструкцию Спасо-Преображенского собора на Соловках? Кто построил двустолпный крестовокульный-шатровый Благовещенский собор в фамильном замке Строгановых в Сольвычегорске (1557 г.)? И как тогда понимать свидетельство источника о постройке Покровского собора «с приделы» – «разными образцы и переводы»? Если принять эту теорию, придется признать, что у русских строителей не было никакого предшествующего опыта в строительстве шатровых храмов! Это льстит национальному самолюбию, так как предполагает у наших зодчих способность к гениальному спонтанному творчеству, но это – «плохая теория». Между тем архитектурные формы Покровского собора на Рву восходят не к церкви Вознесения в Коломенском (последнее касается только вымпергов и наличников), а в первую очередь к двум столпообразным памятникам Александровой Слободы – купольной церкви Алексея митрополита и шатровой Троицкой церкви. Если Троицкая церковь, как думают многие, тоже поздний памятник, то она в сравнении с Покровским собором – безобразное и регрессивное явление. Именно такой приговор ей вынесла история архитектуры. Однако памятник слишком свеж и самобытен, слишком неуклюже-наивен, чтобы быть просто творческой неудачей неизвестного итальянского зодчего. А потому методы его датировки за неимением других должны быть строго археологическими.
27. Установить дату закладки дворца должна помочь простая арифметика. В 1508 г. был закончен Большой Кремлевский дворец и в течение пяти лет никакого строительства в Москве, если верить летописям, не велось. В 1514 г. строительство, государево и частное, возобновляется. Где находились строительные кадры с 1509 по 1513 г.? Ответ лежит на поверхности: в вотчинах и уделах, во-первых, и по городам и монастырям, во-вторых. Новое село Александровское и Троицкий монастырь и были такими «вотчинами». Дата окончания дворца это подтверждает. Покровская церковь была освящена 11 декабря 1513 г. (но закончена постройка могла быть годом раньше, см. ниже, – осенью 1512 г.) Для ее возведения требовалось от трех до четырех-пяти лет. Значит, она, а с нею и весь дворец, были заложены весной 1509 г. Кроме Покровской церкви в течение 1509, 1510, 1512 и 1513 годов были выстроены еще три палаты, крепость, три малые церкви, деревянные хоромы – в общем, целый город. Прерванное в Москве и синхронно с этим развернувшееся в Слободе строительство говорит о едином, длящемся без перерыва до самого конца царствования градостроительном процессе. Но интереснее другое: Александровский дворец был последней домашней великокняжеской постройкой, возведенной с участием итальянских резчиков по камню. И хотя само итальянское строительство продолжалось после этого еще более двух десятков лет, каменной фряжской резьбы вплоть до постройки церкви Вознесения в Коломенском (окончена в 1532 г.) мы в Москве уже не встречаем. Причем резьба эта окажется по духу и стилю совершенно иной. По-видимому, закончив свой загородный дворец, Василий III отпустил дорогих итальянских резчиков домой, а архитекторов задержал на службе и с ними обстраивал Москву и провинцию.
28. Арсений, иером. Указ. соч.
29. ОР ГБЛ. Ф. 304. Ед. хр. 647. Л. 4,4 об.
30. Летописец Троице-Сергиева монастыря. Типографская летопись. ОР ГИМ. Син. Ед. хр. 645. Л. 427 об., опубл.: Леонид, архим. Краткий летописец Свято-Троицкия Сергиевы лавры //А.В.Горский. Историческое описание Свято-Троицкие Сергиевы Лавры. М., 1890. С.177.
31. Успенская церковь была поставлена в селе Клементьеве на своего рода «поклонной горе», там, где путнику впервые открывался вид на обитель преподобного Сергия, где спешивались конные, творились поклоны, раздавалась первая милостыня. Это были лаврские пропилеи, и участие в ее постройке великого князя вполне вероятно.
32. До постройки в Троицком монастыре каменных Святых ворот с Сергиевской церковью на их месте были другие – деревянные ворота с деревянной же церковью тезоименитого ангела Дмитрия Ивановича Донского – Дмитрия Солунского. При перестройке ворот церковь Дмитрия Солунского была сохранена и поставлена наверху ворот «против лестницы» в качестве второго придела Сергиевской церкви. Ее видел Симон Азарьин. Эта церковь была разобрана «на дрова» в дни осады.
33. «Краткий летописец» составлен кем-то из властных монахов Троицкого монастыря, может быть, келарем, участником всех вышеописанных церемоний, спустя некоторое время, для себя, по памяти. О ранге писца свидетельствует тот факт, что богослужебный сборник, на листах которого делались заметки, принадлежал позднее архиепископу Великого Новгорода и Пскова Серапиону Курцеву.
34. Расширяя церковь во все стороны на сажень, строители увеличили физический объем Покровского собора в полтора раза. Поставленная на подклетный ярус, огромная, широко расползшаяся со своими лестницами, приделами и палатами Покровская церковь была одним из самых монументальных зданий своего времени. Достаточно сказать, что еще во второй половине XVII в. власти предлагали ее в качестве образца для перестройки Успенского собора Мономаха в Смоленске.
35. Древние москвичи шли в монастырь с юго-запада через Клементьево и, обходя овраг и делая петлю, попадали в него с севера, через нынешнюю Каличью башню.
36. Известная «Ермолинская» трапезная Троице-Сергиева монастыря не имела церкви до начала XVII в. Кроме церквей Троицы и Сергия, в монастыре было два придела: Похвальский в дьяконнике Троицкого собора и Ивана Предтечи в дьяконнике подколоколенной церкви.
37. Так, ничего не сообщает об освящении многочисленных приделов великих московских дворцовых соборов – Успенского (3 придела), Архангельского (7), Спасского на Бору (не меньше пяти), Благовещенского на Сенях (4 придела, летопись сообщает об одном), – официальное летописание.
38. Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры...
39. Постройка только одной Покровской церкви требует не менее четырех лет. Кроме Покровского собора к 1513 г. были выстроены еще три церкви, три больших палаты и крепость. Таким образом, строительство должно было начаться около 1509 г. Но в 1508 г. завершилось строительство Большого Кремлевского дворца в Москве. Ясно, что в Слободу были переброшены освободившиеся в Москве строительные кадры. Любопытна и дата возобновления итальянского строительства в столице – 1514 г. И оно тоже было, как известно, государевым.
40. Мы просмотрели описные книги монастырского приказа рубежа XVII–XVIII вв., в частности места, касающиеся приписных к Троице-Сергиевой лавре монастырей (РГАДА. Ф. 237. Ед. хр. 40). Самостоятельные Троицкие и Сергиевские церкви встречены в них как порознь, так и вместе (например, в Богоявленском монастыре в Москве, в Киржацком и Стромынском монастырях трапезные церкви были посвящены преп. Сергию, а Троицких церквей не было вообще), Сергиевские же приделы без основной Троицкой церкви не встречены ни разу (например, два Сергиевских придела в приписных Казанском и Алаторском монастырях)! (Там же. Л. 103–125 об., 128–144 об.).
41. Известен только один случай, когда трапезная церковь Сергия была каменной, а холодная Троицкая – деревянной (в Сергиевском Свияжском монастыре XVI в.), но это объясняется вынужденной очередностью строительства. Игумен торопился построить теплую каменную церковь, а построить холодную уже не успел (РГАДА. Ф.237. Ед.хр. 40. Л.153 – 191 об.).
Ранее опубликовано в кн.: Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы (сборник статей). Владимир, 1995. С. 19-74.
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПЯТСКОЙ КОЛОКОЛЬНИ
УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В АЛЕКСАНДРОВЕ
Распятская колокольня Успенского монастыря в г. Александрове – одно из наиболее загадочных сооружений русской архитектуры XVI в. До того как во второй половине XVII в. колокольня вошла в состав основанного на развалинах Александровой Слободы девичьего монастыря, она в течение более чем 150 лет играла роль архитектурной доминанты знаменитого дворцового комплекса в новом селе Александровском (давшем Слободе ее название), по древней терминологии – Государева двора. В науке существуют две противоположные точки зрения на время постройки Государева двора. По одной из них (в недавнем прошлом ее разделяло большинство исследователей), дошедшие до нас постройки Слободы возводились в течение нескольких десятилетий XVI в. По другой, высказанной впервые нами1, комплекс в основе своей – сооружение единовременное, и единственная известная дата его предполагаемого окончания – 1513 г. Согласно этой новой точке зрения, укрепленный комплекс Государева двора был возведен сразу после окончания Большого Кремлевского дворца в Москве итальянскими зодчими Василия III и строился около пяти лет – с 1508–1509 по 1513 г. Имевший вид загородного замка, окруженный стенами и рвами Государев двор включал в себя три каменных церкви с приделами, смежными палатами, подклетами и погребами, три большие каменные палаты, вкупе с тронной, множество каменных и деревянных хозяйственного назначения клетских построек (связанных между собой деревянными переходами) и обязательную в таких случаях поминальную церковь-часовню «под колоколы»2. От этой первой, относительно небольшой подколоколенной церкви берет свое начало Распятская колокольня.
Распятская колокольня (до 1710 г. церковь Алексея митрополита3) – огромный, около 50 м в высоту, восьмигранный шатровый столп с маленькой церковкой-капеллой внутри и четырехъярусным звонничным ризалитом возле юго-западной грани. Памятник был введен в научный оборот в 80-е гг. прошлого века. О нем писали В.В.Суслов4, Ф.Ф.Горностаев5, впоследствии – А.И.Некрасов6, в наше время – М.А.Ильин7, М.Н.Куницын8, Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов9 и др. Дата постройки колокольни неизвестна, однако все исследователи, исходя из масштаба и пропорционального строя сооружения, уверенно относят его к опричному периоду существования Слободы – ко второй половине 60–70-х гг. XVI в. В 40-е гг. нашего столетия колокольню изучал в натуре и обмерял архитектор П.С.Полонский10. Посредством зондажей и контрольных промеров ему удалось выявить внутри гигантского столпа другое, более раннее столпообразное сооружение, по всей видимости, 10-х гг. XVI в. Стало ясно, что возведенный при Василии III храм был спустя несколько десятков лет обложен дополнительной кладкой и надстроен. Выдвинутая историками архитектуры умозрительная датировка получила, таким образом, убедительное подтверждение.
Открытие Полонского ценно, прежде всего, тем, что снимает большинство связанных с необычной формой памятника вопросов. Столп Распятской колокольни, будучи в церковной своей части достаточно скромным сооружением, с точки зрения наружных объемов и фасадной декорации представляет собой колоссальную архитектурную бутафорию, смысл и назначение которой устанавливаются с трудом. Как показали исследования11, небольшой храм октагональной конфигурации (со стороной не более 4 м) был посредством надстройки превращен в основание огромной, пустой, увенчанной глухим шпилеобразным шатром12 часобитни. Старое здание оказалось при этом увеличенным в высоту в 2,5 раза! Для придания надстроенному столпу устойчивости его первоначальный объем был со всех сторон обложен гипертрофированной высоты двухъярусными папертями, призванными играть в новой постройке роль контрфорсов. Пропорции папертей совершенно ирреальны: огромные, лишенные внутреннего обхода пилоны условного «подклетного» яруса относятся к ярусу «ходовому», как 3:1. Паперти накрыты короткой полицей и увенчаны тремя отступающими рядами кокошников облегченной конструкции. Из кипы кокошников вырастает шатровый восьмерик со звонами. В нем, согласно поздним источникам13, помещался деревянный чулан с часовым механизмом. Собственно церковный объем древнего октагона (при реконструкции здания он был несколько понижен) совпадает по высоте с «подклетным» ярусом обстройки, полностью в нее упрятан. Второй же ярус, играющий в храмах роль церковных папертей, в действительности «никуда» не ведет: через него попадали в пустой стакан часобитни к началу гиревого деревянного короба и деревянной же лестницы наверх к часовому чулану. Вся эта могучая, широко задуманная, устремленная ввысь архитектура, с точки зрения основной церковной функции здания, совершенно алогична и колокольней, в строгом смысле слова, не является: в звонах под шатром нет приспособлений для крепления колоколов. Последнее означает, что основные благовестные большие и средние церковные колокола, за исключением часового с перечасными, здесь не стояли. Перед нами – увенчанная шатровым чуланом городская башня-кампанила для больших башенных часов с церковью в нижнем ярусе, а отнюдь не церковь «под колоколы», поскольку последние в древности было принято завершать церковными главами «на толстой шее» (барабане) – знаком церкви. Единственным отличием Александровской часобитни от других известных русских шатровых часовых башен XVI–первой четверти XVII в. остается ее восьмигранная форма, однако, благодаря исследованию Полонского, ясно, что форма эта навязана зодчему логикой перестройки старого здания и воспроизводит в первую очередь его конфигурацию.
Однако поскольку перед нами все же церковь «под колоколы» (а это значение за Распятской колокольней при всех условиях сохраняется), то остается вопрос, где в ней могли находиться собственно церковные, прежде всего большие благовестные колокола? На первый взгляд, на звонничном ризалите. Однако осмотр последнего убеждает нас, что и эта часть колокольни удовлетворяет указанным требованиям лишь частично. В звонах ризалита, как в звонах восьмерика под шатром, никаких приспособлений для крепления колоколов нет (за исключением, разумеется, обычных проемных связей), тем более для крепления целого их собрания. Перед нами типичный для русской архитектуры второй половины XVI–первой половины XVII в. колоколоприемник для большого благовестного колокола в виде перекрытой вспарушенным крестовым сводом ажурной палатки с открытыми до полу звонами церковной главой и кровлей из одного ряда кокошников. Такие палатки, или «места для колоколов» по древней терминологии, предназначались для установки в каждой из них в середине на деревянных станах одного единственного очепного благовестника из числа самых тяжелых на колокольне14. Таких колоколов на больших благоустроенных колокольнях бывало три как минимум. У нас же палатка одна. Где в таком случае могли находиться остальные?
В свое время этот вопрос поставлен не был. Интересы первого исследователя памятника П.С.Полонского были направлены на другое. Обнаружив внутри Распятской колокольни неизвестную науке более раннюю постройку, он был целиком захвачен открывшейся перед ним перспективой. Отныне все внимание исследователя будет приковано не столько к Распятской колокольне как таковой, сколько к загадочному столпообразному сооружению внутри ее кладок. Остроумно и экономно зондируя здание, Полонский довольно скоро выявил основные членения столпа и обосновал общий принцип его реконструкции. Оказалось, что церковь Алексея митрополита сохранилась внутри Распятской колокольни почти в нетронутом виде (разобран был только ее купол). Однако вскоре на пути исследователя встали значительные трудности. Первая столпообразная церковь Слободы оказалась небольшим, сложенным из кирпича и белого камня, октагональным в основе своей сооружением. Ее внутренний «вписанный» план представляет собой октафолий из восьми обращенных внутрь небольших прямоугольных притворов. Притворы устроены очень низкими и составляют первый, открытый в церковь «цокольный» ярус храма15. Его второй ярус образует высокий, стройный, переходящий в восьмигранный барабан столп, окруженный снаружи по фасаду тонкой и изящной галереей-лоджией в виде аркады на белокаменных столбах неизвестного назначения16. Однако идеальный центричный план зданий оказался по каким-то причинам нарушенным самими строителями. Исследуя памятник, Полонский заметил, что западная грань цокольного яруса, вместо того, чтобы повернуть на юго-восток, как это должно было быть при последовательно октагональной форме, продолжается дальше на юг (как далеко – из-за сплошной обкладки Полонскому установить не удалось). Аналогичным образом меняет свое направление и галерея-лоджия. Под тою же уходящей на юг западной гранью, во втором ярусе Полонский нашел дополнительный девятый столб и как бы начало какого-то сводчатого помещения (в действительности перекрытую парусным сводом, изящно отделанную паперть треугольной конфигурации). Не зная, как объяснить эту аномалию, исследователь решил, что в его руках находится ключ к известной гравюре из книги датского посла Я.Ульфельдта, посетившего Слободу в 1578 г.
На гравюре с видом Слободы на месте знакомой нам Распятской колокольни изображено фантастического вида подколоколенное сооружение из двух башен с подвешенными между ними колоколами. Выявленное им внутри Распятской колокольни древнее столпообразное сооружение Полонский счел первой из этих башен, продолжающуюся на западную грань с девятым столбом – началом когда-то соединявшей башни многопролетной звонницы на высоком подиуме (именно так расшифровал Полонский мотив висящих между башнями колоколов). Если же предпринять исследования к югу от Распятской колокольни, – рассуждал исследователь, – то в земле должны встретиться остатки второй башни, во всем подобной первой. Гипотеза Полонского получила широкую известность и нашла отражение во множестве посвященных Александровой Слободе статей и книг. Современные исследователи используют любую возможность для проведения археологических разведок у стен Распятской колокольни в надежде обнаружить остатки второго столпа. Однако никаких следов или фундаментов в этом месте или поблизости по сей день так и не обнаружено17.
В 80-е годы нам удалось продолжить исследования Полонского и установить, как в действительности заканчивалось на юге первое подколоколенное сооружение Слободы. Полонский не обратил внимания на остатки винтовой лестницы в первом ярусе столпа 10-х гг. XVI в., которая выводила на узкий обходной ярус галереи как раз в том месте, где Полонским была отмечена аномалия в плане. Эта необходимая для доступа на лоджию внутристенная лестница была устроена не в теле церковного столпа, а в специальном, облицованном с одной, западной, стороны белым камнем угловом выступе, резко нарушившем идеальную конфигурацию здания. Задуманный в виде октагона, столп Алексея митрополита получил, однако, уже в первом ярусе неравностороннюю гептагональную форму. Аналогичным образом была спроектирована и аркада лоджии во втором ярусе, образовавшая над выходом винтовой лестницы вышеописанную треугольную в плане сень, или паперть. До перестройки храма последняя могла венчаться особой пирамидальной кровлей18. Таким образом, проблема облика первого подколоколенного сооружения Слободы оказалась на этот раз в его церковной части решенной. Однако загадка изображенного на гравюре Ульфельдта здания осталась: что Ульфельдт хотел сказать своим рисунком? Какие связанные с подколоколенным сооружением реалии могли быть им трансформированы столь невероятным образом?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо убедиться, какая их двух церквей Алексея митрополита послужила Ульфельдту предметом изображения – первая или вторая? Согласно свидетельствам иностранцев, строительство в Слободе при Грозном развернулось сразу после новгородского похода, т.е. после 1570 г.19. Именно в это время, сообщают Таубе и Крузе, царем были «построены» две церкви, причем «с колоколами»20. Ульфельдт же побывал в Слободе в 1578 г. – через восемь лет после указанных событий и за три года до того, как царь окончательно оставил Слободу, когда перестройка, а не «постройка», как полагали Таубе и Крузе, некоторых слободских зданий в основном должна была уже завершиться21. Из сказанного следует, что на гравюре Ульфельдта изображена все-таки существующая Распятская колокольня, а это значит, что объяснение странному изображению следует искать прежде всего в особенности ее формы.
На первый взгляд трудно найти что-либо общее между огромным шатровым столпом Распятской колокольни и фантастическим двухбашенным сооружением на гравюре, однако при внимательном знакомстве с памятником общее находится. Это общее – способ помещения в ней колоколов. Известно, что после завершения новгородского похода, к моменту предполагаемой перестройки церкви «под колоколы», на Государевом дворе скопилось самое значительное после Ивановских колоколен в Москве собрание больших благовестных колоколов. Это были военные трофеи царя, разграбившего два великих русских города – Новгород и Псков. Из источников известно, что ограблены опричным войском были не только соборные звонницы Святой Троицы и Софийского архиерейского дома, но и многие городские и загородные монастыри, а также Тверь и Торжок22. Самым замечательным трофеем царя стал знаменитый 500-пудовый благовестник архиепископа Пимена, вывезенный согласно Новгородской III летописи в Слободу23. Вся эта колокольная громада, пожертвованная царем, как было принято, соборной церкви Покрова и размещенная поначалу на временных деревянных опорах возле подколоколенной церкви, требовала более продуманного и упорядоченного размещения: во-первых, на каменных опорах, и, во-вторых, под церковной крышей. Последнее обстоятельство и стало основной причиной реконструкции старой церкви «под колоколы», уже не способной ни передать своими архитектурными формами величия исторического момента, ни вместить всю эту тяжесть.
Однако, поскольку осмотр звонов под шатром и в палатке возведенной по этому случаю колоссальной постройки не дал результатов, мы вправе сделать вывод, что упомянутые колокола непосредственно на Распятской колокольне все-таки не висели, а размещались на каком-то приспособлении близ нее. А это значит, что Распятская колокольня на раннем этапе своей истории была более сложным сооружением, чем это представляется нам сегодня. Действительно, на западном фасаде колокольни в месте стыка шатрового столпа и юго-западного ризалита и сегодня можно видеть еще один обращенный строго на запад узкий, изящных пропорций ризалит с двумя обрубленными связями над карнизом, служивший когда-то началом примыкавшего к колокольне с запада архитектурного объема. Судя по пропорциям, этот утраченный в монастырский период архитектурный объем был так называемой «отставной звонницей на столбах» (по принятой в XVII в. терминологии), и в ней-то, видимо, и висели как старые слободские, так и вновь свезенные в Слободу колокола. Столь сложная конфигурация Распятской колокольни (столп в соединении со звонницей) не должна вызывать удивления. Ведь ни арки старой церкви Алексея митрополита, ни звоны возведенного над нею шатрового столпа, даже если бы мы вопреки воле строителей захотели использовать их для этой цели, были не в состоянии принять ни главный новгородский трофей – Пименовский колокол (имевший около 2,5 м в поперечнике), ни большинство троицких и софийских благовестных колоколов, как из-за превосходящих эти звоны размеров, так и из-за самого из количества.
Известно также, что до второй половины XVII в. большие благовестные колокола внутрь колоколен под шатры не ставились. Что же касается палаток для колоколов, то первые опыты их устройства в каменной архитектуре приходятся на вторую половину XVI в. Во всяком случае, наша палатка из числа дошедших до нас самая ранняя; и она – единственная на колокольне. В то же время, каковы бы ни были размеры колокола, принятая на Руси технология звона «с земли» требовала, чтобы колокол стоял, по возможности, в арочном пролете, на внешней стороне колокольни. Таким образом, включение специального звонничного сооружения в объем александровского подколоколенного столпа было предрешено как политическими задачами опричного правительства, так и самой технологией церковного звона.
Что представляла собой утраченная звонница Распятской колокольни в архитектурном отношении, каковы были ее габариты, когда примерно она могла быть разобрана?
Подобно другим крупнейшим звонницам того времени, звонница Распятской колокольни была, вероятнее всего, трехпролетным четырехстолпным сооружением24. Ее четвертый полустолп сохранился. Это вышеупомянутый звонничный ризалит с внутренней лестницей на колокольню. В отличие от многошатровых звонниц второй половины XVI в., покрыта она была черепичной кровлей на два ската25. Высота пролета звонницы та же, что у аркады колокольни (так называемый «подклетный» ярус ложных папертей-контрфорсов), – 12,5 м. В первом от стены пролете колокола, как показывает архитектура ризалита, не висели. Он был оставлен пустым из-за опасения разрушить тонкую стенку ризалита (за нею лестничная клетка) при качании тяжелых колоколов, а может быть, и для обеспечения обхода церкви при крестных ходах. Во втором, самом широком пролете (его теоретический размер нам известен: он должен был несколько превышать поперечник Пименовского колокола) и в следующем, более узком, висели, или «стояли», самые большие благовестные колокола, трофеи злополучного похода, как было принято, один над другим. В основном пролете – 500-пудовый Пименовский, праздничный, под ним – средние «красные» из числа софийских или троицких колоколов, рядом – будничный и зазвонные (или наоборот, воскресный и зазвонные; последнее зависит от того, какие службы при Покровском соборе выполнял большой колокол в звонничном ризалите, см. примеч. 14). Подобно звонницам годуновского времени, трехпролетная звонница Распятской колокольни имела, по-видимому, так называемый «выделенный центр», т.е. ее центральный пролет был шире боковых. Таким нам видится ее гипотетическое устройство. Благодаря сохранности выступающего из тела колокольни ризалита, архитектурная обработка звонницы предельно ясна: ее арки лежали на трехобломных капителях, столбы были обработаны узкими филенками с закрестьями, а цоколь под столбами повторял цоколь основного объема.
Разобрана звонница Распятской колокольни была в монастырский период, где-то на рубеже XVII–XVIII вв. Дата ее разборки не установлена26. В процессе разборки все колокола с нее были сняты и впервые в истории здания подняты под шатер, в арки звонов. Поднят и поставлен внутрь под шатер был и 500-пудовый Пименовский колокол или его заместитель, поскольку Пименовский колокол уже в 1695 г. упоминается среди колоколов Ивана Великого в Москве27. Для того, чтобы втащить этого гиганта на колокольню, властям пришлось растесать и вновь сложить ее восточный арочный пролет. Памятником этих событий остаются деревянные станы с остатками очепного устройства, сохранявшиеся внутри под шатром до самого последнего времени28.
В истории русской архитектуры XVI в. Распятская колокольня занимает выдающееся место. Во-первых, это крупнейшее на Руси после Ивана Великого подколоколенное сооружение. Во-вторых, это самая ранняя из дошедших до нас городских шатровых часобитен – предшественница часобитни Спасской башни Московского Кремля, а ее шатер – самый ранний из известных нам утилитарных (не церковных) шатров вообще. И, наконец, Распятская колокольня – самое сложное (точнее даже сказать, гибридное) церковное здание XVI в., состоящее из трех самостоятельных, разного назначения и разного архитектурного облика объемов, напоминающее известные подколоколенные комплексы Соборной площади Кремля, Суздальского Спасо-Евфимьевского, Соловецкого и Троице-Сергиева монастырей29. Однако, в отличие от последних, «исторически» сложившихся зданий, Распятская колокольня построена по единому плану и лучше всего говорит о трудностях, переживаемых русским архитектурным творчеством в связи с успехами колокололитейного дела на Руси и с усложнением выполняемых колоколами функций. Многократное увеличение веса и размеров колоколов вызвало кризис в строительстве столпообразных церквей под колоколы, «расщепило» их некогда единый образ и вывело на передний план часовую шатровую башню, чем, в конце концов, и подготовило почву для появления на Руси шатровых колоколен.
Теперь, когда облик Распятской колокольни нам стал в общих чертах ясен, вернемся к вопросу о первоначальных формах старой церкви Алексея митрополита и к ее конфигурации в целом. Основная идея реконструкции древнего объема памятника принадлежит П.С.Полонскому (за исключением трактовки углового ризалита с винтовой лестницей внутри и такой заведомо спорной вещи, как купол здания). Ему же принадлежит идея размещения колоколов указанной церкви на приложенной к основному объему звоннице, с чем мы поначалу, на раннем этапе наших исследований, не согласились30. Источником для гипотезы Полонского послужила гравюра Ульфельдта, которую он безоговорочно связывал с первой, а не второй церковью «под колоколы». Правда, в отличие от Ульфельдта, у которого ясно показано, что древнее подколоколенное сооружение было ориентировано по линии запад-восток (т.е. обращено своими арками к собору), Полонский поставил свою гипотетическую звонницу по направлению север-юг. К этому неправомерному выводу Полонского привела принятая им на веру идея «второй церковной башни». (Последняя, при таком рассуждении, должна была находиться в равном положении с церковью Алексея митрополита, быть обращенной алтарем к востоку, а не стоять «в затылок» другому сооружению и т.д.). Раскрыв вторично один из зондажей Полонского и получив ясное свидетельство архитектурной законченности лестничного ризалита со стороны южного фасада здания, мы пришли в свою очередь к излишне поспешному выводу, что угловой юго-западный ризалит при церкви существовал как бы автономно, а не служил началом какой-то другой формы (что было в высшей степени нелогично) и что у церкви, таким образом, вообще могло не быть звонницы. Этот ошибочный вывод нашел отражение в опубликованной нами в 1993 г. реконструкции древнего памятника31. Исходя из собственной ложной посылки, мы, в отличие от Полонского (а также Бочарова и Выголова), предположили, что колокола церкви Алексея митрополита размещались между столбами окружавшей столп аркады (причем только со стороны, обращенной к собору, поскольку все доступные в тот момент изучению столбы были скреплены между собой по-итальянски двумя поясами кованых проемных связей). Серьезным недостатком предложенной нами тогда схемы была незначительная конструктивная глубина галереи-лоджии, что не давало шансов поставить в столбы и приводить при этом в движение колокола больше средних размеров. Действительно, продолженные нами вскоре исследования показали, что связи в два пояса скрепляют между собой пилоны-столбы по всему периметру церкви. Таким образом, вопрос о размещении колоколов «в теле церкви» отпал сам собой, и мы вновь были вынуждены обратиться к идее Полонского. При новом обследовании памятника вопрос этот удалось, наконец, решить. Колокола первой церкви Алексея митрополита стояли не в теле столпа, а на звоннице (в этом Полонский, а с ним Бочаров и Выголов, были правы), но шла она не на юг от ризалита, а, как и сменившая ее большая звонница, на запад, целиком ее, т.о., предваряя. В свое время мы не обратили должного внимания на странную конструкцию внутри лестничного ризалита Распятской колокольни. Речь идет о расположенном направо от западного входа в церковь своеобразном «тамбуре» – в виде высокого, перекрытого белокаменным арочным сводом (с щелыгою в направлении север-юг) прямоугольного помещения. Из этого, некогда открытого в сторону собора, «тамбура» была заново пробита дверь на перестроенную из старой винтовой новую многомаршевую лестницу на колокольню.
Стена налево при входе в тамбур (в ней пробит новый дверной проем) суть облицованная белым камнем стена углового ризалита первой церкви. Стена при входе направо, обработанная внутри и снаружи филенками, – кирпичная наружная стена ризалита Распятской колокольни. Белокаменная арка, переброшенная от стены белокаменной на стену кирпичную, в здании, построенном почти исключительно из кирпича, представляла собой не совсем понятное явление, почему мы и посчитали ее в свое время одним из результатов вторичности самой постройки. Особенно нас шокировал тот факт, что пята белокаменного свода была вложена в фуст западного белокаменного столба лоджии прямо над его базою (последняя была при этом оставлена нестесанной!). Поэтому вся конструкция показалась нам при первом знакомстве с памятником сплошным нарушением архитектурной логики. Сегодня при повторном обследовании мы убедились в подлинности и изначальности этого узла. Белокаменный свод при ближайшем рассмотрении оказался некогда открытой аркой, вложенной в столбы самими строителями, а обработанная (как выяснилось, со всех четырех сторон) филенками и замурованная в стену нового большого ризалита западная стена – древним звонничным пилоном! И арка, и пилон суть остатки первоначальной звонницы Алексеевской церкви. Пилон не только сохранил в новой обкладке все свои четыре фасада и прекрасный белокаменный цоколь, но и большой фрагмент капители – правда, уже без карниза. Западный фасад пилона и сегодня прекрасно читается снаружи. Членения его почти целиком сохранившегося антаблемента (снизу это «полка», валик и шесть рядов кирпичной кладки; под полкой в крещатых углах пилона – впервые описанные А.И.Некрасовым знаменитые александровские «клинышки») суть слегка адаптированные членения большеголовых капителей столбов октагона. Они «переходят» на звонницу со столов аркады. Антаблемент представляет собой парапетную стенку, над аркой сохранились остатки древнего чердака. Чердачное помещение, некогда перекрытое неизвестной нам кровлей, вероятнее всего, не использовалось. Изнутри чердака белокаменные столбы аркады не обработаны. На капители сохранившегося пилона некогда стояла первая арка многопролетной звонницы, очевидно, той же ширины, что и арки обходящей столп аркады и т.д.
Таким образом, реконструированная нами выше звонница Распятской колокольни архитектурно полностью повторяла звонницу первой подколоколенной церкви и даже включала в свою конструкцию ее пилоны. Сегодня, когда мы узнали ширину длинного звонничного рва, равного по ширине сохранившемуся древнему пилону (3 м), допустимо думать, что старые пилоны были в процессе перестройки всего лишь обложены новой кладкой и надстроены в высоту (а может быть, даже только надстроены?). Сколько пилонов и пролетов было у звонницы, узнать можно будет только после проведения дополнительных раскопок уже в непосредственной близости к зданию Распятской колокольни.
Отличие первой звонницы церкви Алексея митрополита от звонницы Распятской колокольни заключалось в том, что ее объем над описанной соединительной аркой был зрительно разъединен с объемом церковного столпа (это хорошо видно при осмотре чердака над этой аркой). Последнее означает, что эта звонница могла иметь отдельную от церкви двух- или трехшатровую кровлю в зависимости от количества ее пролетов.
К сказанному следует добавить, что теперь, когда угловой ризалит церкви Алексея митрополита получил, наконец, логическое объяснение, встает вопрос о его ритуальном «назначении». Если колокола, как мы убедились, стояли на звоннице, для чего были нужны винтовая лестница, узкий и неудобный круговой обход вокруг столпа и т.д.? Для развески зазвонных колоколов и звона в них? Едва ли. Остается предположить, что обход имел сакральное значение, как в древних памятниках средневековой Европы и Востока. С особым чувством отмечаем, что таинственная обходная галерея церкви Алексея митрополита была повторена в 3-м ярусе центрального столпа Покровского собора на Рву в Москве и нигде больше в этом столетии.
И, наконец, весьма вероятно и даже очень на то похоже, что на гравюре Ульфельдта изображена, как и думал Полонский, первая звонница. О существовании второй Полонский, как мы помним, не догадывался.
В заключение несколько слов о том, как мы реконструируем сам церковный объем первой церкви Алексея митрополита. Наша идея состоит в следующем: существующая Распятская колокольня каким-то образом повторяет старую церковь, ее план, основные объемы, воспроизводит в ином уже масштабе и обновленной трактовке ее архитектуру. Так, октагональная форма основного объема Распятской колокольни повторяет октагональную форму церкви-предшественницы; звонничный ризалит возле юго-западного угла воспроизводит, на свой лад, угловой выступ с винтовой лестницей, находящейся в первой церкви почти на том же месте: крупные, поярусно расположенные кокошники Распятской колокольни повторяют столь же крупные кокошники церкви Алексея митрополита (причем наверняка с аналогичными круглыми окнами по первому ярусу); звонница на столпах Распятской колокольни поглотила аналогичную звонницу первой церкви и т.д., – и только проецировать шатер этого гиганта на гипотетический шатер церкви Алексея 1513 г. мы, разумеется, не решаемся, предпочитая ему недавно включенный в круг памятников архитектуры начала XVI в. слегка вытянутый барочный купол церкви Петра митрополита Высокопетровского монастыря в Москве 1514–1517 гг.
Загадку утраченного купола первой столпообразной церкви безуспешно пытался разгадать П.С.Полонский. В поисках ответа им были перепробованы самые различные варианты, вплоть до кавказской конусообразной кровли. Пытался он воспроизвести в своих эскизах и завершение глав церкви Ивана Предтечи в Дьякове, справедливо относя эти памятники к единой линии развития. Данная проблема имеет два аспекта. В том, что огромный (около 6 м) барабан Алексеевской церкви перекрывал, вероятнее всего, восьмигранный купол (может быть, переходящий в сферический), сомнений, как будто, нет. Совершенно таинственным остается вопрос о его так называемом «завершении» и окончательной отделке, о его второй оболочке (если таковая, разумеется, была), и в итоге – о силуэте. Вопрос этот приходится решать сегодня в чисто теоретическом плане. Церковь Алексея митрополита – типичная купольная церковь христианского мира, как Запада, так и Востока, памятник высотно-центричной композиции с ярко выраженной поминально-литургической функцией и отчетливой семантикой32. Главным знаком в системе запечатленных этим памятником идей, их «говорящим символом» был купол. На русской почве встречаются три варианта архитектурно оформленных куполов33. В соответствии с этой градацией купол церкви Алексея митрополита был или «плоским», грибовидным, обложенным черепицей прямо по своду, или надстроенным дополнительным малым барабаном с главой, или же значительно приподнятым за счет обкладок, как вышеупомянутый купол Высокопетровского монастыря. Мы останавливаем свой выбор на огромном приподнятом куполе церкви Петра митрополита прежде всего потому, что церковь Алексея митрополита составляет ей во всех отношениях пару, начиная с посвящения и кончая датировкой, что строил эти церкви по единому плану или программе (весьма вероятно, по обету) один и тот же ктитор, вкладывая в это строительство (что совершенно очевидно, поскольку обе церкви построены столпообразными) один и тот же смысл34. Мы останавливаем свой выбор на этом куполе еще и потому, что склонны понимать заключенную в понятии «купольная церковь» метафору буквально. Если бы церковь строилась с традиционными для подколоколенных церквей звонами вверху на скуфье купола (как будут строиться позднее, в конце XVII–начале XVIII в. октафолийные церкви московской знати), вопроса бы не было, и мы бы завершили силуэт церкви небольшим барабаном с главой. Поскольку же звоны устроены заведомо «в столбах», а не на сводах, мы вправе предположить, что строители имели целью освободить и пластически выявить в полную мощь сам купол. С некоторым «безобразием» этой малопривычной барочной формы нас должна примирить его недавно восстановленная в правах подлинность35.
Само собой разумеется, что вопрос о форме несохранившегося купола первой столпообразной церкви Александровой Слободы остается открытым.
1991–1994 гг.
Примечания
1. Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы // Информационный курьер Московской организации Союза архитекторов РФ. № 7. 1991. С.17-19.
2. О назначении церквей «под колоколы» см.: Кавельмахер В.В. Способы колокольного звона и древнерусские колокольни // Колокола. История и современность. М., 1985. С.39–78; Кавельмахер В.В. Большие благовестники Москвы XVI – первой половины XVII в.// Колокола. История и современность. М., 1993, вып. 2. С.75–118.
3. Самое раннее упоминание Распятской церкви – март 1710 г. В «Историческом и археологическом описании первоклассного Успенского монастыря в городе Александрове» (архимандрит Леонид) (СПб., 1884, С. 100) в описи церковных сосудов встречаем: «Подсвечник серебряный вызолоченный с вырезанной надписью: «1710 года в марте дано от благородной и великой княжны Марии Алексеевны в церковь Распятию Господню в Успенский девичий монастырь, что в Слободе Александровой». О том, что у Распятской колокольни в древности было другое посвящение, первым догадался П.С.Полонский (См.: Полонский П.С. Рецензия на рукопись проф. А.И.Некрасова «Памятники Александровой Слободы» // Архив Александровского музея-заповедника. М., 1948. С. 30), за ним – А.И.Некрасов (Памятники Александровой Слободы, их состояние и значение. Александров, 1948. С.191. См.: ЦГАЛИ. Ф.2039. Оп.1 Ед. хр. 17.). Исследователи (весьма вероятно, первым был все-таки Некрасов, установить это сейчас уже невозможно) обратили внимание, что в писцовых книгах начала XVII в. Распятская церковь не упоминается, но фигурирует некая церковь Алексея митрополита, и сделали правильные выводы. Недавно нами был обнаружен прямой документ, подтверждающий факт переосвящения храма. В челобитной игуменьи Макрины о перенесении престола находящейся вблизи Слободы Крестовоздвиженской церкви в Успенский монастырь, датированной августом 1707 г., говорится: «... а у нас в монастыре церковь под колокольнею во имя иже во святых отца нашего Алексея митрополита каменная, службы в ней нет из давних лет» (см.: ЦГАДА. Ф.235. Оп. 1. Ед. хр. 6447. Л. 1-1 об.). Таким образом, если не считать Некрасова и Полонского, никому из наших предшественников первоначальное посвящение подколоколенной церкви известно не было. Тем не менее, мы в своем изложении будем, по мере необходимости, пользоваться правильным посвящением, не оговаривая это в каждом отдельном случае.
4. Суслов В.В. Памятники древней) русского зодчества. СПб., 1897. Вып. IV.
5. ИРИ. М., 1909. Т.2. С.73, примеч. 2. С. 84, 85.
6. Некрасов А.И. Древние подмосковные. Александрова Слобода. Коломенское. Измайлово. М., 1923; он же. Проблема происхождения древнерусских столпообразных храмов // Труды кабинета истории материальной культуры МГУ. 1930. Вып. V; он же. «Памятники Александровой Слободы, их состояние и значение». ЦГАЛИ. Ф. 2039. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 126-191.
7. Ильин М.А. Путь на Ростов Великий.М., 1973. С. 101 и далее.
8. Куницын М.Н. Александрова Слобода. Ярославль, 1968. С. 36-40.
9. Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Александрова Слобода. М., 1970. С. 22-24.
10. Полонский П.С. Архитектурные памятники Александровой Слободы // Архив Александровского музея-заповедника (не опубл.).
11. Полонским раскрыта в общих чертах строительная история памятника, все выводы относительно назначения отдельных его частей и его общая интерпретация – наши. Мы представляем выполненные разными авторами исследовательские этапы в виде общего теоретического итога ради простоты и удобства.
12. Существующие в шатре Распятской колокольни восемь слухов пробиты на рубеже ХVII–ХVIII вв. при превращении шатрового восьмерика в звонницу. На эту деталь впервые обратил наше внимание Н.В.Сибиряков. В четырех слухах видны элементы заложенной в шатер при его возведении кованой арматуры. До переделки шатер был зашит снизу деревянным потолком.
13. Леонид, архимандрит. Указ.соч. С. 82; Суслов В.В. Указ.соч.
14. На то, что перед нами классическое «место для колокола», указывает изначальное отсутствие в основании звонов каменных парапетов (ныне существующие принадлежат одному из поздних ремонтов). И пилоны палатки, и державшие колокол дубовые станы стояли на открытом полу, на виду у всего города. В такие донизу открытые звоны можно было звонить, раскачивая колокол, как было принято, с земли. Однако, в данном конкретном случае такому приему звона должны были мешать низко положенные металлические связи, так что, вероятнее всего, звонари Распятской колокольни приводили колокол в движение, стоя рядом с ним.
Пользуясь колокололитейными таблицами, можно довольно точно определить размеры и вес колокола, для которого этот колоколоприемник был построен. Расстояние между связью и полом палатки (меньше 2 м) показывает, что в нее мог быть поднят и поставлен колокол чуть меньше сажени высотой, т.е. около 250 пудов весом. Последнее позволяет сделать некоторые выводы о самом колоколе. Судя по построенному для него почетному вместилищу, это была местная реликвия – большой именной благовестный колокол великого князя. (На вклад великого князя, а не царя, указывает, с нашей точки зрения, его недостаточно большой вес. Начиная с 1550 г. царь делает вклады в свои соборные церкви колоколами не менее чем в 500 пудов весом, тогда как для эпохи Василия III этот вес огромен). Такой колокол, причем слободского происхождения, нам известен. Он и сегодня стоит на юго-восточном звоне валового яруса Ивана Великого и известен под именем «Старый слобоцкой». Колокол этот дошел до нас в переливке 1641 г. На самом колоколе его новый вес не проставлен (при переливках колокола всегда прибавляли в весе), но в дошедшей до нас описи Ивановских колоколов 1695 г. он указан: «309 пуд 20 гривенок» (см.: Ведомость о колоколах на Ивановской колокольне в Москве 1749 г. РГДДА. Ф.18. Ед.хр. 145. Л. 9 об.). Узнать вес колокола со столь высокой точностью абсолютно невозможно, поэтому, вероятнее всего, это был извлеченный из дел Пушкарского приказа вес положенного в печь металла и, может быть, даже без вычета на угар. В любом случае разница в весе в 50 пудов на итоговом размере колокола подобных кондиций сказывалась очень слабо, так что его поперечник, а стало быть, и высота остаются чуть больше – чуть меньше сажени, т.е. вполне вероятно, что это – тот самый колокол.
Факт переливки старого благовестника Василия III не следует принимать за попытку первых Романовых оживить Слободу, напротив, его новое, явно московское, прозвище свидетельствует, что колокол был привезен в Москву задолго до 1641 г., вероятнее всего, еще при Иване Грозном в конце опричнины.
Несмотря на почет, ему оказанный (отдельный колоколоприемник), выполнявшиеся Старым слободским колоколом функции не совсем ясны. Ни праздничным, ни воскресным колоколом он, скорее всего, уже не был. С появлением на колокольнях новых более тяжелых колоколов (об этом ниже) старые благовестники от праздничных служб отставлялись и им передавались менее важные службы. Думаем, что в новой ситуации, после постройки Распятской колокольни, Старый слободской мог играть в Слободе роль воскресного.
15. Пять из восьми притворов устроены функциональными: восточный играет роль церковной апсиды, северо-восточный – апсиды жертвенника, западный, северный и южный имеют форму глубоких дверных распалубок, их боковые стенки выложены наподобие откосов. Шестая – юго-западная – ниша сделана неглубокой: за нею находилась внутристенная винтовая лестница на обходную галерею. И только юго-восточная и северо-западная ниши могут считаться обычными притворами. В юго-восточной, восточной, северо-восточной и северо-западной нишах устроены окна в прямоугольных наличниках с толстыми прутовыми решетками и арочными перемычками (переделаны в начале XVIII в.) того же типа, что и окно Никольского придела Покровского собора. Снаружи сохранились две крашеные деревянные ставни, вероятно, начала XVIII в.
16. В том, что первая церковь Алексея митрополита (как и сменившая ее Распятская колокольня) суть церковь «под колоколы», априори были согласны все исследователи. Однако прямых доказательств этому до последнего момента получить не удавалось. При первой публикации этой статьи (см.: Кавельмахер В.В. Новые исследования Распятской колокольни Успенского монастыря в Александрове // Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования. М., 1991) нами было высказано предположение о размещении колоколов между столбами или пилонами октагональной части памятника. П.С.Полонский, Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов допускали существование при первой подколоколенной церкви звонницы (и оказались правы).
Тем не менее, обходящая церковный столп галерея-лоджия представляется с точки зрения идеи помещения в ней колоколов местом символически оправданным, даже идеальным, но крайне неудобным из-за недостатков ее конструкции. Название «галерея» весьма условно. Для того, чтобы иметь право так называться, она слишком узка. В действительности это соединенная между собой тесными 60-сантиметровыми проходами вереница разделенных угловыми столбами ниш, или «впадин», двухаршинной глубины. (Эти впадины мы и сейчас рассматриваем как ниши с боковыми слухами-проходами). Высказывая свое предположение, мы допускали, что колокола в этих «нишах» стояли не на капителях, а по-итальянски, на железных рамах в средней части (посредине) столбов. Однако при повторном обследовании памятника в 1993 г. мы обнаружили как раз в этом месте дополнительный мощный пояс связей (помимо обычного в таких случаях пояса над капителями, в пятах арок). Это обескураживающее открытие заставило нас вернуться к гипотезе Полонского – Бочарова – Выголова и найти, в конце концов, звонницу (см. ниже). Мы утешаем себя только тем, что найденная звонница является производной от арок лоджии, служит им продолжением и архитектурно их повторяет.
Нетрудно заметить, что в данном случае вопрос о назначении галереи с винтовой лестницей на нее становится открытым. Можно только предполагать, что ответ на него лежит в области обрядовой символики, в области древних верований и обычаев. Внутристенные (часто скрытые) обходы встречаются в культовых заупокойных памятниках в архитектуре разных народов.
17. Глазов В.П. Отчет об археологических раскопках на территории Успенского монастыря в г Александрове. Владимир, 1981 (Архив института археологии. Инв. № Р-1, 9268). Памятником нездорового интереса к выдвинутой П.С.Полонским гипотезе «двух колоколен» остается статья Н.И.Иванова, В.И.Плужникова и Н.Н.Свешникова «Применение биофизического метода к исследованию и реставрации памятников истории и культуры» (Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры: Сб. М., 1975. С. 253), в которой авторы утверждают, что ими с помощью «биолокаторов» зафиксированы остатки «второй колокольни». Утверждение это останется на совести его авторов.
18. См. также пирамидальные кровли на четырех углах четверика церкви Троицы на Дворце.
19. Штаден Г. О Москве Ивана Грозного: Записки немца-опричника. М.,1925.С.90,91 и 147; Таубе И., Крузе Э. Послание Иоганна Таубе и Элерга Крузе // Русский исторический журнал. Кн.8.Пг.,1922.С.51.
20. Таубе И., Крузе Э. Указ.соч.
21. Дифференциации строительных периодов в жизни архитектурного ансамбля Александровой Слободы посвящено наше исследование в настоящем сборнике «Государев двор в Александровой Слободе как памятник русской дворцовой архитектуры».
22. Штаден Г. Указ.соч.
23. Об увозе в Слободу Пименовского колокола в 500 пудов весом сообщает единственный источник – Новгородская III летопись (ПСРЛ. Т.III. СПб., 1841. С. 259). Встречающиеся в литературе упоминания (со ссылкою на Штадена) о том, что доставленный в Слободу колокол «был поставлен между церковью и башней», – плод литературной небрежности новейших авторов – М.Н.Куницына (см.: Куницын М.Н. Указ.соч. С.40) и Г.Н.Бочарова и В.П.Выголова (см.: Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Указ. соч. С.22, примеч. 31). «Отцом» этой топографической легенды является Куницын, соединивший «по забывчивости» два места из Штадена. В одном месте Штацен пишет об увозе Иваном Грозным в Слободу «всех больших колоколов» из Новгорода и Пскова (см.: Штаден Г. Указ.соч.С. 90, 91), в другом – говорит о большом благовестнике на Соборной площади в Кремле, действительно висевшем «между церковью и башней» (по контексту – «церковь» это Успенский собор, «башня» – Иван Великий; см.: Штаден Г. Указ.соч. С. 104). Вслед за Куницыным легенду о «колоколе и башне» повторили, не проверив, Бочаров и Выголов. В библиографическом списке к их книге книга Штадена не фигурирует.
24. Для выяснения габаритов звонницы и ширины ее пролетов и столбов летом 1989 г. нами были предприняты перед западным фасадом колокольни археологические раскопки. Приступая к исследованиям, мы отдавали себе отчет, что, подобно другим крупнейшим звонницам своего времени, звонница Распятской колокольни была основана не на прерывистых, а на сплошных ленточных фундаментах и что в случае выборки последних шансов на отыскание оснований или контуров столбов у нас почти не остается.
Действительно, на расстоянии 13 м от звонничного ризалита был обнаружен край фундаментного рва огромной, судя по всему, не менее чем трехпролетной звонницы, шедшей когда-то от стены колокольни в западном направлении. Как мы и предполагали, фундаменты изо рва при разборке звонницы были почти полностью выбраны (по крайней мере, на участке нашего очень небольшого, далеко отстоящего от церкви раскопа). Ров оказался засыпанным строительным мусором, битым кирпичом, счищенным известковым раствором, кровельной черепицей двух типов и белокаменными обломками, оставшимися от разборки. Дно рва уплотнено часто забитыми сваями, глубина от поверхности земли – одна сажень. Все извлеченные из засыпки белокаменные и кирпичные обломы идентичны обломам сохранившегося звонничного ризалита и Распятской колокольни в целом. Полученные данные: длина 14 м, ширина 3 м, высота столбов 11 м (последняя та же, что у ризалита), плюс выведенный нами по колокололитейным таблицам размер самого большого колоколенного пролета (поперечник Пименовского колокола 2,48 м с небольшой поправкой в сторону увеличения, итого – около 3 м), а также ясный и открытый пропорциональный строй этого сооружения позволяют нам, рассчитав величину и количество столбов, с достаточной долей вероятности реконструировать эту часть памятника.
К этим итогам остается добавить, что к западу от фундаментного рва никаких следов строительства (иначе говоря, остатков «второго столпа»), разумеется, не встречено. Думаем поэтому, что «второй столп» появился у Ульфельдта «от бедности воображения». Нарисовав «в воздухе», рядом со стоящим столпообразным сооружением цепочку колоколов, рисовальщик уже не знал, на что ему опереть их гирлянду с другой стороны. Как известно, рисунки к гравюрам рисовались по памяти и, естественно, уже не в России.
25. Напомним, что двухскатная кровля (что очень важно) изображена у Ульфельдта. Кроме того, шпилеобразный шатер часобитни делает излишним существование на здании еще трех островерхих шатров «готического» рисунка. И, наконец, культурный слой вокруг Распятской колокольни и вокруг бывшей звонницы предельно насыщен битой черепицей двух видов – чернолощеной типа «бобровый хвост» и серо-желтой лотковой средиземноморского типа. По всем данным, в ранний период существования Слободы ее здания были покрыты чернолощеной черепицей или укрепленной на гвоздях, или уложенной на растворе посводно. У многочисленных обломков чернолощеной черепицы, собранной в раскопе на месте звонницы, отверстия для гвоздей забиты раствором. Последнее означает, что черепица укладывалась посводно и что кровель на здании или не было вообще, или они (например, шатер часобитни) черепицею не крылись.
26. Это должно было произойти после смерти в 1707 г. опальной сестры Петра I царевны Марфы Алексеевны, когда бывшая церковь Алексея митрополита была по ходатайству властей переосвящена сначала в Крестовоздвиженскую, а потом в церковь Распятия Господня. Известно, что царевна Марфа – инокиня Маргарита – жила в пристроенных к Распятской колокольне с юга особых палатах, каменных и деревянных, однако домовой церковью инокини Маргариты был северный Сергиевский придел Покровского собора, а отнюдь не сливавшаяся с ее палатами подколоколенная церковь.
27. Ведомость о колоколах... РГАДА.Ф. 18. Ед. хр. 145. Л. 4 об., 13 об. Колокол дошел до нас в переливке 1730 г. Его новый вес – 420 пудов.
28. Эти станы, хотя напрямую их связывать с Пименовским колоколом и невозможно, являются сегодня (поскольку Распятская звонница не сохранилась) единственным материальным свидетельством пребывания Пименовского колокола в Слободе вообще. Дело в том, что колокол, поднятый под шатер Распятской колокольни в начале XVIII в., был насажен по-старинному на деревянный вал с металлическим сердечником длиной 2,5 м и вложен в окованные железом специальные уключины. Для XVIII в. эта система является полным анахронизмом, поэтому у нас появляется право датировать колокол на валу второй половиной–концом XVI в., когда только и могла произойти замена одного 500-пудового колокола другим. По-видимому, колокола-реликвии Распятской колокольни, первыми среди которых были, бесспорно, Пименовский и Старый слободской, были взяты Грозным в Москву, а взамен здесь же в Слободе на литейном дворе отлиты и установлены их весовые эквиваленты. Все дальнейшее происходило, таким образом, уже с колоколом-заместителем. К сожалению, документально проверить эти предположения из-за отсутствия у нас описей колоколов Распятской колокольни не представляется возможным. В прошлом веке ученым была известна какая-то опись 1742 г. (а также опись 20-х гг. XVIII в.), но сейчас следы ее потеряны. О том, что «в конце XVII в. на Распятской колокольне (где именно?) висело двенадцать колоколов» (один из них якобы пятисотпудовый благовестник), без ссылки на источник сообщает Куницын (см.: Куницын М.Н. Указ.соч .40.). Он же дает понять, что ему известно содержание отписки монастырских властей на известный указ Петра I 1701 г. об отсылке на Пушечный двор в Москву трети монастырской колокольной меди. По утверждению Куницына, в переливку был якобы отдан как раз «новгородский великан» – вещь совершенно невероятная и противоречащая фактам: «новгородский великан» по сей день стоит на Иване Великом. К сожалению, эти сведения Куницына очень похожи на домыслы. Однако поскольку следы колокола-заместителя под шатром Распятской колокольни теряются, вопрос остается открытым. Имеется, правда, слабая надежда, что следующий 500-пудовый колокол Успенского монастыря для Распятской колокольни в 1823 г. был отлит александровскими купцами Каленовым и Уголковым из старой меди, что это была переливка, но данная гипотеза, как впрочем, и все остальные, нуждается в проверке.
29. О двух последних несохранившихся звонничных ансамблях судим по иконографии.
30. См. примеч. 16.
31. Кавельмахер В.В. Указ. соч. С. 124. Рис. 2, 3.
32. На эту тему (общехристианские прототипы русских октагональных и столпообразных церквей) совместно с Т.Д. Пановой подготовлена статья «Остатки белокаменного храма XIV в. на Соборной площади в Кремле» о древнейшем октагональном памятнике московской архитектуры – церкви Ивана Лествичника 1329 г.
33. В действительности – больше, поскольку сюда следует отнести и столпообразные шатровые церкви, и различные модификации купольных церквей на квадратном основании. Мы выделяем три вида куполов применительно к данной ситуации и данному конкретному памятнику октагонально-столпообразной конфигурации. Это – плоско-шлемовидные, одинарные или двойные купола церкви Ивана Предтечи в Дьякове, Ивана Великого (до перестройки) и Покровского собора на Рву (конструкция куполов двух последних памятников представляет собой проблему, однако ясно, например, что купола 4-х ориентированных по странам света столпов Покровского собора были двойные). Это – увенчанные небольшими барабанами купола столпообразных церквей «под колоколы» (таких, как подколоколенная церковь в Спасо-Евфимьевском монастыре в Суздале, подколоколенная церковь Болдина монастыря и Георгиевская колокольня в Коломенском). И, наконец, это – известный пока в единственном числе барочный купол церкви Петра митрополита в Высокопетровском монастыре в Москве.
34. Петр и Алексей митрополиты – великие московские чудотворцы, первые по рангу святые покровители московского великокняжеского дома. В Москве были их целебноносные мощи, но в ней довольно долго не строили посвященных им каменных церквей. Постройка этих церквей великим князем вполне могла носить программный характер. Первая каменная церковь Алексея митрополита была построена в Чудове в 1473–1477 гг. на месте «проявления» мощей святого. По ряду признаков она имела форму мартирия и находилась при трапезной. В нее из соборного Благовещенского придела была перенесена рака чудотворца. Не исключено, что церковь Алексея митрополита в личных владениях великого князя в Слободе должна была о ней напоминать.
В отличие от Алексея митрополита, святой Петр-чудотворец не имел в Москве своего мартирия, усыпальницей ему служил им же заложенный кафедральный Успенский собор. Каменных церквей, посвященных Петру митрополиту, не ставили очень долго. Известная с начала XV в. церковь Петра митрополита на Государевом дворе в соседнем Переславле-Залесском была в течение 200 лет, вероятнее всего, деревянной. Церковь была поставлена на месте «деяний» святого. Ее мемориальный характер отражен в ее каменной реплике последней четверти XVI в.: она шатровая, крещатого плана. Первой каменной церковью Петра митрополита в Москве стала, по-видимому, современница нашей церкви Алексея – октафолийная церковь мастера Алевиза «в Высоком». Она также поставлена на месте «деяния» митрополита Петра, и ее форма – форма христианского мартирия – более всего говорит о продуманном символическом характере связанных с памятью святого мероприятий. Единственная известная нам каменная церковь Петра митрополита в непосредственной близости от его гроба была поставлена только в последней четверти ХVII в. в Кремле на Угрешском подворье. Она стояла на Кремлевской стене и была шатровой. Это взорванная Наполеоном Петровская башня.
35. Исследования арх. Б.П.Дедушенко (80-е гг.).
Ранее опубликовано в кн.: Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы (сборник статей). Владимир, 1995. С. 75-110.
ПОКРОВСКИЙ СОБОР АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЫ
И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ XVI В.
(скомпоновано из черновых рукописей автора)
Сдержанный, а то и откровенно критический тон в отношении Покровского (ныне Троицкого) собора Александровой Слободы – уже традиция нашей специальной литературы. Временами кажется, что историки архитектуры просто сдерживают себя перед вынесением окончательного приговора этому «малоудачному», с их точки зрения, памятнику русского зодчества. В многотомных монографических трудах по истории русского искусства и архитектуры, выходивших на протяжении первой половины ХХ в., где на огромном, в том числе периферийном, материале анализируются пути русской архитектуры за десять столетий, о Покровском соборе, как правило, нет упоминаний.
Отсутствие интереса со стороны жадной до фактов большой теории – верное свидетельство невостребованности памятника. Внутренней необходимости в Покровском соборе академическая наука не испытывает и по сей день. Он ей ничего не говорит, а если и говорит, то отнюдь не то, что она хотела бы слышать.
Историки русской архитектуры познакомились с Покровским собором более ста лет тому назад, и к моменту выхода из печати первых томов «Истории русского искусства» под редакцией И.Э.Грабаря (1910-е гг.) уже составили о нем свои первые представления. Но в конце ХIХ–начале ХХ вв. ученые еще не имели каких-либо объективных сведений о соборе и в своем понимании памятника были лишены возможности опираться на источники. Не было у них и никакой сопутствующей информации. Ни истинное посвящение памятника, ни точная дата его постройки им известны не были, и составить представление о памятнике в те годы можно было лишь на основании его визуального осмотра. Соответственно, применялись только методы стилистического анализа, что далеко не всегда приводит к успеху. Особенно трудно было им вынести суждение о его оценке, т.е. понять его место в ряду других подобных сооружений. Им приходилось самостоятельно решать вопрос о его датировке и судить о нем без опоры на источники.
У ученых того времени впервые возникли сомнения в эстетических качествах памятника и родилось «сдержанное» отношение к нему – при том, что подобные сомнения посещают исследователей крайне редко.
У такого неприятия были фундаментальные причины. Ученые нашли природу Покровского собора двойственной и отсталой. У памятника они находили черты столичного сооружения, однако его конструкцию видели архаичной, принадлежащей началу ХV в. Памятник не привлек к себе внимания ни в качестве здания раннего ХVI в., построенного «при участии итальянских мастеров» (как до сих пор любит выражаться осторожная часть наших ученых), ни в качестве грандиозного дворцового храма «на Сенях» – третьего в иерархии церквей Государева двора (после Благовещенского и Архангельского соборов), ни в качестве усадебной великокняжеской церкви «первого поколения» (т.е. построенной до церквей Вознесения в Коломенском, Преображения в Острове и Бориса и Глеба в Борисовом городке, – внутри, а не снаружи укрепленной усадьбы), – ни в каком-либо ином качестве.
То, что здание «не понравилось» исследователям, понять можно, и мы постараемся показать, почему.
На первый взгляд собор эстетически неблагополучен. У здания – дурные пропорции: оно широко и коротко одновременно. У него плавные величественные закомары, громадная мощная глава, и – короткое, буквально вдавленное вниз тело. От шокирующего впечатления приземистости нас не спасают даже распластанные под собором самые пространные на Руси белокаменные церковные подклеты на коротких столбах с низко посаженными пятами.
При этом собор огромен (размеры 19,5х19,5 м, высота с закомарами – около 16 м от уровня земли, высота четверика в строгом смысле – 10,5 м, т.е. его высота относится к ширине почти как 1:2). Размеры собора в полтора раза превышают размеры среднего четырехстолпного крестовокупольного храма. По своим массам Покровский собор тянет на шестистолпный, однако у него одна глава вместо, как минимум, трех и три боковых прясла вместо, как минимум, четырех. Эти прясла – огромные, подстать собору, но полупустые. Окна невелики и редки. Окруженный папертями четверик, имеющий габариты архиерейской церкви, освещается всего в один свет.
Может показаться, что Покровский собор – это в каком-то смысле нагромождение несообразностей, причудливая смесь новых, не очень новых и совсем не новых форм. Подобных размеров здание никогда еще не ставилось на подклеты. У здания – верхи из далекого прошлого, конструкция перекрытий приблизительно столетней давности, и только низы принадлежат своему времени. Со всеми этими несообразностями плохо мирится воспитанное на памятниках античности чувство гармонии.
Если подклеты под храмом и папертями художественно и конструктивно принадлежат новому времени, то конструкция четверика совершенно архаична: толстые столпы, мясистые, без импостов и лопаток, малые подпружные арки, пониженные угловые компартименты. Если не принимать во внимание аттические базы столпов, то крестовые своды угловых компартиментов – единственная дань, которую четверик собора платит новому времени. Все остальное принадлежит раннему ХV в.
Интерьер собора темен и пещерообразен. Это интерьер сильно увеличенного маленького храма. Архаичная конструкция сводов не соответствует архитектонической схеме фасадов. Принадлежащие великому домонгольскому художественному прошлому закомары скрывают за собой обширные (особенно над угловыми компартиментами) чердаки. ХV веку принадлежит и несохранившееся первоначальное тесовое покрытие собора. Классический рисунок закомар в сочетании с тесовым покрытием и чердаками – очередной нонсенс.
Не лучше обстоит дело и с декоративным убранством памятника. Оно бросает вызов чувству вкуса. У храма, возведенного в эпоху, повсеместно менявшую архитектоническую декорацию фасадов, насаждавшую ордер, – применены орнаментальные пояса очень старой и очень одинокой в нашей истории монастырской постройки – собора Троице-Сергиева монастыря, старомодные и немыслимые в здании начала ХVI в., диссонирующие с архитектурой этого времени. Причем пояса – белокаменные, тогда как за 15–20 лет до постройки Покровского собора в ходу были пояса керамические. Эти скопированные с незначительными нюансами строчные орнаментальные пояса, дополненные на алтарях и барабане орнаментами итальянского Возрождения, создают ощущение почти что безвкусицы. Как минимум, непреодоленной старомодности.
Это нагромождение диссонансов можно перечислять долго. Впечатление дурного вкуса производят даже покрытые итальянскими орнаментами русские перспективные боковые порталы храма, а впечаление дефекта конструкции – низко положенные связи подклета.
Разумеется, зодчий собора пытался как-то согласовать все эти разноречивые элементы, гармонизировать их, и даже, наверное, не без успеха. Но для чего было включать их в свою поэтику?
Ученые начала ХХ в. были далеки от того, чтобы задаваться этими вопросами, как были далеки и ученые второй половины столетия. Говоря на языке современных понятий, все это воспринималось как эклектизм, граничащий с безвкусицей. Оставалось ощущение, что архитектор желал идти в ногу со временем, но мыслил категориями допотопной строительной технологии и испытывал какие-то сентиментальные чувства к находящемуся поблизости Троице-Сергиеву монастырю.
Словом, с какой бы стороны мы ни анализировали памятник, его природа демонстрирует редкостную двойственность и противоречивость. Не меньшую двойственность и противоречивость ученые находили, скажем, в московском Успенском соборе, но там это объявлялось результатом беспримерной модернизации и обновления интерьера, здесь – отсталости и несовершенства конструкции. Там – со знаком плюс, тут – со знаком минус.
И приговор был вынесен. Его произнес самый серьезный ученый грабаревской плеяды – Ф.Ф.Горностаев. Покровский собор был назван «последним вздохом угасшего московского областного зодчества». Это нелицеприятное суждение осталось на памятнике, как клеймо, на долгие годы.
В 20–30-е годы нашего века памятник, до 1924 г. считавшийся Троицким собором, построенным то ли в начале–середине XV в., то ли в начале–середине ХVI в., был успешно атрибутирован, получил имя и, – не побоимся сказать, – буквально завораживающую историка летописную дату: 11 декабря 1513 г. (день освящения храма; тремя годами раньше, в 1508 г., был закончен Большой Кремлевский дворец). Однако в научной судьбе памятника это мало что могло уже изменить: сдержанное отношение к архитектуре Покровского собора сделалось своего рода нормой. В «Истории русского искусства» под редакцией И.Э.Грабаря, выходившей на протяжении первой половины ХХ в. дважды в полностью переработанном виде, как и в «Истории русской архитектуры» (трижды переиздававшемся вузовском учебнике 50-х гг.), собор не упоминается.
Единственная попытка ввести памятник в научный оборот, причем очень ранняя, талантливая и своевременная (хотя и фантасмагорическая по способу обращения с материалом), совпадает с выходом первой «Истории русского искусства» под редакцией Грабаря – 1916 г. Эта попытка была сделана профессором А.И.Некрасовым и, к сожалению, окончилась неудачей.
В глазах Некрасова здание собора, чью природу до того находили, по крайней мере, «двойственной», – непостижимым образом, как в оптическом приборе, «раздвоилось»: его белокаменные субструкции, безо всяких на то оснований, были отнесены ученым к одному времени, его кирпичные панно-заполнения и «докладки» – к другому. Техническая невозможность такой операции ученого не смущала: перед его умственным взором стояла летописная история перелицовки «гостем» Василием Ермолиным недостроенного белокаменного собора в Вознесенском монастыре Московского Кремля во второй половине ХV в. входившим тогда в моду кирпичом. Встретив на стенах Покровского собора кирпичные панно, аккуратно вложенные между белокаменных лопаток и орнаментальных поясов ХV в., Некрасов вспомнил московский Вознесенский собор и вообразил, что и в Слободе имело место нечто подобное.
Яркая и интригующая статья Некрасова, основные положения которой исследователь повторил в посвященной памятникам Александровой Слободы рукописи 1948 г., продемонстрировала блеск и нищету кабинетного искусствоведения. Ученый ошибся в дате и не разобрался в обстоятельствах постройки. «Каркас», апсиды и пояса Некрасов отнес к эпохе Юрия Дмитриевича Звенигородского, а кирпичные панно и барабаны – к ХVI в. В качестве даты постройки «белокаменной основы» здания собора Некрасов назвал 1428–1433 гг., т.е. время, когда великокняжеский престол занимал крестник Сергия Радонежского и паладин Троицкого культа Юрий Звенигородский.
Л. 72 рукописи Некрасова: «Мы можем признать, что ранее нами указанная дата строительства Юрия Звенигородского 1428–1434 гг. вполне справедлива, другому некому было строить здесь храм в стиле первой половины ХV в. Художественный облик собора, по замечанию Горностаева, еще имеет в своих формах нечто от строгих общих масс и деталей, как бы «последний вздох угасшего московского областного зодчества». Л. 77: «Своими основными пропорциями храм не противоречит памятникам первой половины ХV в., а скорее с ними связывается». Л. 105: «Самым существенным является наружная выкладка внешней стены кирпичом, причем на стене образуется филенка в каждой ее части, то есть и выше и ниже пояса». Л. 106: «Порталы высечены «гротесками», пущенными в ход Пинтуриккио». Л. 108: «Вся восточная часть целиком сохранилась от Юрия Звенигородского».
Разумеется, статья Некрасова никого не убедила, скорее даже усугубила ситуацию вокруг собора. Ошибки такого рода не проходят бесследно.
Однако у причудливой и археологически несостоятельной статьи Некрасова есть и другие качества. Написанная большим ученым, она остается, при всех ее недостатках, достойным памятником научной мысли. Беспомощный в вопросах строительной техники, ученый обладал безошибочным чувством стиля: он разгадал непростую природу памятника.
Он единственный понимал в те годы, что перед ним не жалкая провинциальная постройка, а шедевр архитектуры великокняжеской Москвы. И в статье 1916 г., и в рукописи 1948 г. Некрасов уверенно и с большим апломбом говорит об особой придворной фактуре памятника, об его кирпичных панно и белокаменной оторочке, указывая на это как на свидетельство «большого придворного стиля», на его столичное происхождение. По Некрасову, Покровский собор – не жалкая провинциальная постройка, а архитектурное сокровище великокняжеской Москвы.
Некрасов полагал, что оценка памятника Ф.Ф.Горностаевым неверна в главном: категории «провинциального», «областного» к искусству средневековья вообще неприменимы. «На смесь итальянщины с раннемосковской орнаментацией уже обратил внимание Горностаев, но никаких существенных выводов не сделал, полагая, что перед нами просто запоздалый образ раннемосковского зодчества (т.е. ХIV–XV вв.), но с внедрением итальянских орнаментаций». Для памятника великокняжеской усадьбы, рассуждает Некрасов, это объяснение выглядит слишком рискованным.
Еще одно важное замечание Некрасова: вначале Покровский собор датировался 60–70 гг. XVI века по Васильевским вратам, которые могли попасть в него только при Грозном, т.е. дата была «не позже 1570-х» (Троицкая церковь, упомянутая в свадебном разряде 1570 г., тоже была «не позже»; о ней см. отдельную статью в настоящем сборнике – прим. ред.). Но проходит немного времени, и «не позже» становится признанной датой.
И хотя Некрасов ошибочно «удревнил» Покровский собор (к сожалению, ученый не отказался от своей датировки и после многочисленных контактов в 1948 г. с выдающимся исследователем памятников Слободы архитектором П.С.Полонским), он в указанном смысле не изменил истине.
После выступления Некрасова Покровский собор надолго исчезает со страниц исследований. Как мы уже отмечали, в новой послевоенной редакции версии «Истории русского искусства» под редакцией И.Э.Грабаря он никак не фигурирует. Возможно, на судьбе памятника сказалась трагическая судьба самого профессора Некрасова, его защитника и пропагандиста: и сочинения, и само имя ученого сделались опальными. Клеймо второсортности после приговора Горностаева на соборе так и осталось. Памятник на долгие годы остался зданием с непроясненной архитектурной идеей и казался навсегда выключенным из большой науки как случайное явление, как недоразумение.
Следующая попытка должным образом оценить Покровский собор, предварительно досконально изучив его, была предпринята архитектором-реставратором П.С.Полонским в 40-е гг. нашего века. В научном плане Полонский был полным антиподом Некрасова. Он был докторантом Академии архитектуры, его научным руководителем считался А.В.Щусев. Он ставил своей целью неторопливое натурное изучение памятника, включая обмеры и зондажи. Работы начались в годы войны, когда памятник был выведен из ведения музея, в нем началось богослужение и он сделался приходской церковью города.
С сознанием необходимости охранных обмеров Полонский предпринял фундаментальное исследование всего ансамбля и до известной степени преуспел в этом. Однако на подготовительной фазе (были обмерены все здания, шло их интенсивное археологическое и архитектурное изучение) все оборвалось. Едва достигнув 40-летнего возраста, исследователь скончался. Чертежи и фотоархив ученого сохранились (некоторые графические материалы хранятся в архиве Музея архитектуры), но его текстовые материалы и пояснительные записки, за исключением двух, погибли.
Деятельность П.С.Полонского не ограничилась одними обмерами, исследованиями и раскрытиями. Ему принадлежит идея раскраски Покровского собора в два цвета. Мы не знаем всех выводов исследователя, нам неизвестны и его общетеоретические воззрения, но предпринятая им двухцветная окраска фасадов собора (неудачная по исполнению, как вспоминают очевидцы) свидетельствует, что он верно понял природу этого явления и пытался вернуть памятнику первоначальный вид. Долгие годы собор стоял двухцветным. Остается неизвестным, как именно Полонский представлял себе изначальную фактуру памятника: считал ли он его зданием изначально открытой фактуры или «окрашенным под кирпич» (часто применявшаяся поздняя технология).
Заслуживает упоминания и деятельность известного реставратора, одно время директора Александровского музея П.Д.Барановского, ставившего своей целью, где бы он ни работал, «освобождение» памятников от поздней уродующей обстройки. Он предпринял частичный слом поздней обстройки Покровского собора и убрал ложное пятиглавие. Но, испытывая почти религиозный восторг перед всем, что видел, Барановский чуждался каких-либо теоретических идей и оценочных конструкций.
Но, как бы то ни было, и Некрасов, и Полонский, и Барановский в один голос высоко ставили памятник и всеми силами старались привлечь к нему внимание. Все трое были убеждены, что перед ними шедевр московского зодчества. Некрасов в своей рукописи сравнивал Покровский собор с кремлевским Архангельским собором и церковью Вознесения в Коломенском. Полонский и Барановский тоже хорошо представляли себе класс памятника, знали дату его постройки, имя ктитора, имели все возможности хотя бы в имперсональной форме обозначить личность автора, но не сделали этого – может быть, испытывая давление со стороны общества, в котором жили.
После войны создавалась новая редакция «Истории русского искусства», выведшая Покровский собор из «большой науки». Выключение первоклассного памятника русского зодчества из научно построенной истории этого зодчества, несомненно, было явлением идеологической жизни общества. Новая наука по заказу и под редакцией государственных идеологических учреждений писалась в «патриотическом» ключе, и за Покровским собором, как за памятником, лишенным «пафоса», окончательно закрепилась печать второсортности. Лишенный серьезной научной оценки, он стал жить в краеведческой и исторической научно-популярной литературе в качестве «местного» памятника.
Развернувшаяся в 60-е гг. нашего века просветительская деятельность государственных издательств, поставившая своей целью знакомить читающую публику с памятниками древнерусского искусства, в том числе и с памятниками русской провинции, вновь пробудила интерес к Покровскому собору. У исследователей того времени, относительно благополучного, были значительные возможности. Выдающиеся московские ученые Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов, работавшие в непростом жанре научно-популярной литературы, получили возможность ознакомить с памятником широкую публику. Благодаря обильному фотоиллюстрированию, прекрасным и благожелательным по тону текстам состоялось окрашенное симпатией, хотя и несколько поверхностное знакомство.
Бочаров и Выголов (необходимо поставить рядом и профессора М.А.Ильина) вновь пишут о Покровском соборе как о памятнике значительном. Это уже почти адекватное восприятие. В альбомной литературе появилась возможность не касаться главного, точнее, не углубляться в кажущиеся пороки этого памятника, но при этом воздавать ему должное. Это была хотя и восторженная, но внутренне скорректированная оценка.
Ильин для адекватной оценки памятника предлагает своим читателям выйти за ворота монастыря и отойти от него на известное расстояние (специально, чтобы оценить красоту его верхов). Это – квалифицированный совет. Так лучше чувствуется масштаб сооружения и его дух.
Но Бочаров и Выголов в своей книге в описании Покровского собора более десяти раз употребили слова «архаичный», «традиционный». Второсортностью это уже не назовешь, но указание на тайное несовершенство присутствует.
К сожалению, в книге Бочарова и Выголова по прискорбному недосмотру издательства единственный раз опубликованный план собора был грубо искажен так называемой «обтяжкой» (это издательский термин, означающий перечерчивание в графике выполненных иллюстраций специально для печати), и одна из характеристик памятника оказалась, таким образом, потеряна для целого поколения читателей.
Строительная история памятника оказалась для этих ученых полностью закрытой книгой. Они писали про «аркаду на низких столбах-постаментах» (с. 11), не обратив внимания, что изнутри папертей те же столбы стоят на полу, на плоских аттических базах. У них были «появившиеся позднее» приделы, «поздно появившаяся западная обстройка», они подчеркивали «грузность» пропорций, видели памятник «изначально открытым» и мечтали провести соответствующую «реконструкцию» (из недр Владимирской реставрационной мастерской в свое время вышел эскизный проект, «освобождающий собор от крытых папертей, поздних палат и приделов»).
Об архитектонике декора Бочаров и Выголов пишут, что она, «несмотря на традиционность, довольно-таки своеобразна», они считают, что «высота закомар всюду одинакова», и «благодаря этому интересному приему (выравненности) достигнут единый общий уровень высоты прясел и создано большое равновесие членений фасада», пишут про «равновеликие апсиды», считают, что «подобное стремление к гармоничной уравновешенности построения особенно характерно для архитектуры рубежа ХV–XVI вв», что на апсидах «лучше всего ощущаются мощные, пластически упругие формы древней архитектуры собора». Ученые ошибочно считают белокаменными и столбы собора, и своды, и даже стены (в действительности – только до половины высоты). Непонятно, что они подразумевают под «основными сводами здания». Перевод орнаментальных поясов Троицкого собора в близлежащей Лавре эти авторы называют традиционализмом. Причины копирования ими не вскрыты.
И все же Бочаров и Выголов сказали много существенного и верного, причем по-исследовательски серьезно и обоснованно. Они уже говорят о дворце, высоко, хотя и несколько риторически, оценивают памятник. У них много верных суждений, в частности: «В кладке преобладает камень. Это придает собору уникальность. Ни в одном из современных ему памятников мы не находим в этом смысле сколько-нибудь близких аналогий… Нельзя не отметить превосходное качество кирпичной кладки наружных стен собора с тщательно обработанными в виде узких полос слоями раствора… Вероятно, первоначально стены не были побелены и на их общем красно-кирпичном фоне резко выделялись белокаменные детали, как бы выявлявшие всю тектонику здания. Подобная двухцветность, может быть, была характерной и для фасада Архангельского собора Кремля вскоре после его сооружения».
Бочаров и Выголов прямо вводят Покровский собор в круг памятников начала XVI в., когда в Москве и вокруг Москвы работали итальянские мастера, но из-за понятной осторожности авторы некоторых слов и понятий не привносят. Время было подцензурное.
В памятнике, где, по их мнению, сталкиваются «традиционализм и новое», ученые вплотную приблизились к ответу на все основные вопросы. Они многое видят и многое понимают, но язык их связан. Ими был почти что пропет панегирик собору, они понимали всю правду об узорочье, итальянизмах и пр. С. 12: «Итальянизмы ясно чувствуются на фасадах собора». Бочаров и Выголов пишут про зубчики-дентикулы, гусек с листьями аканта, ренессансные овы (полувалы), про то, что все порталы белокаменные, с обильной резьбой фряжского типа, с т.н. гротесками, про витые, подобно аркатуре на фасадах Благовещенского собора, архивольты, про пышные фряжские гирлянды в филенках, про «рыбью чешую» центрального портала.
«Лишь у Архангельского и Благовещенского соборов... мы находим близкие по формам порталы. С первым из них – работы Алевиза Нового – непосредственно связаны и рассматриваемые детали Покровского собора. Об этом говорят и форма (особенно западный портал) и мотивы декора, перекликающиеся с орнаментикой соответствующих элементов алевизовской постройки. Однако меньшая «чистота» и легкость узора гротесков, их некоторая грубоватость, а также сочетание «фряжских» мотивов с исконно русской формой перспективной арки, дает основание считать эти порталы выполненными не итальянцами, а русскими мастерами-резчиками по камню» (с.13).
И если некоторую осторожность выражений в отношении итальянизмов собора понять как-то можно, то вывод о «русских мастерах – резчиках по камню» принадлежит авторам, это их собственное изобретение, которое мы подробно рассмотрим ниже.
В целом же Бочаров и Выголов дали памятнику весьма высокую, почти адекватную оценку, но, перефразируя их самих, скажем так: в косной и еще несвободной форме. Они сделали славу не совсем тому памятнику: они его не вполне верно описали.
С тех пор Покровский собор занял свое почетное место в посвященной Александровской Слободе исторической и краеведческой литературе в качестве немого свидетеля разыгравшейся в Слободе в 60–70-е гг. ХVI в. драмы – опричного террора. Высокий, «европейский» уровень этой литературы, привлечение к написанию этих трудов (популярных путеводителей и художественных альбомов, посвященных памятникам русского искусства) первоклассных столичных ученых вырвали Покровский собор из забвения, приблизили его к читающей публике, создали ему славу памятника сложного и даже незаурядного, но в чем-то второстепенного, «не дотянувшего» до высшей степени, – словом, местного значения. И если общий тон в этих публикациях по отношению к памятнику заметно потеплел, то уровень его понимания, постижения его строительной истории оставались прежними, на уровне XIX в.
Сдвиг в научной судьбе Покровского собора наметился в 80-е гг. Но проводимые Александровским музеем развернутые натурные исследования памятника в связи с социальными потрясениями последнего времени были в самом их начале оборваны. Музей передал памятник в т.н. «вечное пользование» вновь учрежденному девичьему монастырю. Собор выведен из нормального обращения, без устали белится. Отношения между музеем и монастырем ничем не регламентируются – обозначены на бумаге, но лишены конкретного содержания. К сожалению, эта ситуация установилась в России повсеместно.
Но по данным этих исследований были сделаны первые публикации, обозначившие новые контуры проблемы. Первые слова были, наконец, произнесены, и сегодня мы понимаем, какого уровня и качества памятник перед нами.
И все же тень неудачи висит над памятникам и по сей день. С Покровским собором, в связи с его передачей церковной общине в числе одного из первых, немногих памятников сразу после войны или еще в ходе войны (будем справедливы: может быть, это и спасло его от погрома и гибели), произошло то же, что со многими самыми известными памятниками русской средневековой культуры, такими, как церковь Покрова в Медведкове, Рождества Христова в Беседах и пр. – он выпал из научного обращения, пропал на несколько десятилетий, и уровень знаний о нем остался на уровне XIХ в. Такова печальная реальность, как бы к ней ни относиться. Памятник не привлек к себе внимания ученых – ни в качестве здания раннего ХVI в., построенного «при участии», – как любит выражаться осторожная часть наших ученых, – итальянских мастеров, ни в качестве дворцового храма «на Сенях» – третьего в церковной придворной иерархии после Благовещенского и Архангельского соборов, ни в качестве усадебной великокняжеской церкви «первого поколения» (т.е. построенной на укрепленном государевом дворе ранее церквей Вознесения в Коломенском, Преображения в Острове и Бориса и Глеба в Борисове городке), – ни в каком-либо ином, столь же уникальном качестве.
До сих пор сохраняется невидимая грань между некогда затерянным в глубине переславских лесов то ли «дворцовым», то ли «усадебным» великокняжеским храмом (спектр обозначений статуса памятника, как и данные о его «географическом» положении, достаточно широк – он «главный храм» то села, то усадьбы, то слободы с маленький буквы, то «резиденции», то двора) и судьбоносными для русской архитектуры памятниками столицы и ближайшего Подмосковья. Памятник находят любопытным, но противоречивым, неуловимо двойственным, косным и свежим, традиционным и новым, новаторским и архаичным, как в деталях, так и по существу. Покровский собор оказывается «маргинальным», затейливым, но несущественным, построенным, так сказать, чуть-чуть не по делу.
Не последнюю роль в этой неудаче сыграли закрепившиеся за памятником «снижающие» топонимы – «село», «слобода», незаметным образом переключающие исследовательское воображение с «магистрального» на «запасные» пути художественного развития.
С церковью Вознесения в Коломенском этого, однако, не произошло. И дело не в том, что церковь вошла в черту Москвы и перестала писаться «в селе Коломенском», а в том, что ее автор Петр Аннибал совершил революцию в усадебном дворцовом строительстве, вырвав усадебный храм из контекста, поставив его далеко от жилища, доведя до апофеоза, придав качество монумента.
А Покровский собор казался памятником-маргиналом, обозначающим боковую, второстепенную ветвь усадебного зодчества.
Сдержанный тон покидает исследователей, только когда они начинают говорить и писать о соборе как о «местном» памятнике, немом свидетеле жизни опричного двора, замысловатом, интересном, в чем-то невнятном, одновременно роскошным и ущербным, важным и второстепенном. Но происходит это, как правило, в литературе популярной, – литературе приподнятого, интригующего тона, где сам жанр к тому, что называется, обязывает.
Но если Покровский собор в академической науке оказался памятником-неудачником и до последнего времени не мог найти, как принято выражаться сегодня, свою теоретическую нишу, то его судьба как памятника архитектуры в собственном смысле слова не может не радовать: сегодня в России это один из немногих памятников русского зодчества, не изуродованный реставраторами, начисто лишенный ученых докомпоновок. Потомки еще не раз вспомнят об этом с благодарностью, поскольку такие изъятые из обращения памятники не были подвергнуты варварской реставрации в 60–70-х гг. ХХ века, в эпоху повального увлечения заново открываемой обществом русской архитектурой.
Вторжение в архитектуру Покровского собора жестокого к памятникам ХIХ в. тоже было достаточно локальным. Самыми большими утратами были крыльца с рундуками. Объем утрат был не чрезмерным, а докомпоновки, отчасти благополучно устраненные реставраторами, вполне терпимыми. То, что памятник приобрел, было счастливо отнято, за исключением западного портика. Четыре ложных «барочных» главы на углах четверика были сломаны П.Д.Барановским. Если почти все памятники древнерусской архитектуры дошли до нас в «обстройке», то Покровский собор – едва ли не единственный – в «отломах».
Итак, Покровский собор Александровой Слободы – крестовокупольный, четырехстолпный, трехапсидный, одноглавый храм на подклетах. Храм построен на лестницах, «на Сенях», в преддверии дворца, на белокаменных подклетах с тремя сходами-рундуками. Две лестницы являются парадными: первая – прямая, вторая – южным коленом, с далеко отставленным рундуком, с всходом с востока. Дальше на восток был обтекающий объем придельный проход, впервые отмеченный и описанный П.С.Полонским. Проход был узок, – мы предполагаем, что он вел не на дворец, а к государеву духовнику (по аналогии с Благовещенским собором).
Большая главная парадная лестница фланкируется двумя палатами на подклетах. Подклеты под палатками, собором и лестницами – едины.
Покровский собор окружали широкие дворцовые паперти, столь же просторные, как и паперти Благовещенского собора. Северная была затрапезной, ее архитектура беднее.
План четверика восходит к памятнику ХV в. – Троицкому собору Троице-Сергиева монастыря, увеличен во все стороны на сажень. К лаврскому собору также восходят орнаментальные пояса, три апсиды, барабан.
Ширина прясел Покровского собора с дугообразными выровненными закомарами и архивольтами превосходит все известные памятники своей эпохи. Центральное прясло в осях всего лишь на один метр уже, чем у Успенского собора Фиораванти. Вероятно, Покровский собор служил модулем остальным зданиям ансамбля.
Барабан Покровского собора, повторенный в соборе переславского Никитского монастыря, все еще не оценен учеными. Барабан немного сдвинут к востоку, хотя и не так сильно, как в Троицком соборе.
Стены выложены по отвесу, в отличие от того же Троицкого собора. Орнаментальный пояс против троицкого опущен.
Глава имела второй защитный сферический свод, обитый чернолощеной черепицей.
Судя по чертежу ХIХ в., окна барабана имели круглые перемычки. Мы, обнаружив ниши под кровлей (окна растесаны), сделали их в нашей реконструкции такими же, как на церкви Алексея митрополита. Это наше допущение, не более того. Карнизы – классические, в стиле итальянского Ренессанса, под ними московские орнаментальные пояса из пальметт. Кресты во втором поясе – латинские (в Троице – процветшие). Прясла обработаны кирпичными филенками.
Собор и приделы были красными, кирпичными, с белокаменными лопатками, архивольтами и оторочками. Паперти, подклет и все пять апсид – белокаменные. Во второй строительный период существующего собора – 70-е гг. ХVI в. – кирпичная кладка повторно расписывалась под кирпич. Белокаменные блоки очень крупны, главным образом, постелисты, хотя присутствуют и квадры. Белокаменные плиты при средней толщине до 30 см обычно достигают длины свыше метра. Из метровых камней сложены порталы всех четырех зданий Слободы. Иногда порталы режутся из горизонтальных плит, чаще – из вертикальных, иногда собираются из квадров. Ощущается «индустриализация» строительных приемов: все базы и все капители боковых порталов собора вырезаны в одном блоке, очень геометрично, очень четко, очень индустриально (видно, что строило одно ведомство).
Покровский собор сохранил следы крепления деревянных кровель паперти (не первоначальных, но возобновленных на месте первоначальных в какой-то период существования собора). Ни церковь Вознесения в Коломенском, ни церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, ни церковь Преображения в Вяземах таких внятных следов не сохранили. Это – замечательная деталь, поскольку вопрос, как и каким образом крепились кровли, имеет для русской церковной археологии выдающийся интерес. Обследование чердаков папертей показало, что кровли опирались в месте примыкания к стенам на жерди, а жерди врубались в лопатки, и что ниже орнаментальных поясов была обрешетка.
С наружной стороны тесовые кровли папертей опирались на круглые белокаменные колонны с базами и капителями, вырастающими из парапетов. Эти колонны были описаны Г.Н.Бочаровым и В.П.Выголовым неправильно: капители колонн и карниз палаток находятся на одном уровне. Колонны стоят на стенах обеих восточных палат. Пазухи между колоннами заложены кирпичом. Верхи капителей срезаны, – вероятно, на них стояли закомары. По крайней мере, такова логика этого мотива.
Две, как минимум, закомары второго яруса – по столбам папертей и палаткам –сохранялись до ремонта ХIХ в. Остальные или были разобраны ранее, или вообще не выкладывались никогда – этот вопрос остается открытым до исследований чердаков. Такие закомары, несколько иной модификации, известны – они были восстановлены реставраторами в соборе Покровского монастыря 1516 г. в Суздале, известны у снесенного собора Павло-Обнорского монастыря, одна (недатированная) закомара под фреской сохранилась у собора Новодевичьего монастыря: она была поставлена над вновь устроенным входом после реконструкции собора Борисом Годуновым. Значит, вероятность существования этого яруса у Покровского собора чрезвычайно велика.
Между колоннами ограждения папертей стояли тонкие пилоны с филенками, имевшие вид каменной решетки. Они несли каменные архитравы, на которых стояли каменные же закомары. Выравненность закомар создавала над углами чердаки. К трем закомарам (на западе – и к арке) Покровского собора с трех сторон вели крутые коробовые тесовые кровли типа деревянных сводов, известных во всем мире и в Европе. Водометы могли быть дубовыми. Колонны папертей были скреплены брусом между собой и, по-видимому, с приделами.
Южный придел в дьяконнике, впервые описанный в рукописи П.С.Полонского, феноменален (об этом ниже). Оба придела по своей поэтике являются протогодуновскими. Это первая «пара» еще не симметричных, но уже по-своему «парных» приделов. Создана уравновешенная композиция, предвосхитившая композицию годуновских приделов без ложного членения на прясла (типа храмов на Северке).
Покровский собор – один из немногих храмов, сохранивших свои антаблементы и карнизы ин ситу. Филенки, повторенные на других памятниках Слободы, – глубокие, мощно оттиснутые.
То, что Покровский собор был во многом скопирован с Троицкого в близлежащей Лавре – факт общеизвестный. Меры Троицкого и Покровского соборов:
– длина Троицкого собора от горнего места – 17 м, Покровского – 19 м;
– ширина Покровского собора – на сажень больше;
– длина интерьера от западной стены до вимы одинакова у обоих соборов – 13 м.;
– между столбами Покровский собор на 1 м шире;
– высота барабана – 9 м в Троицком, 9,3 м в Покровском;
– высота от пола до замка подпружной арки – соответственно 12 и 12,4 м;
– столбы до верха капителей в Троице – 9 м, в Слободе – 9 с небольшим;
– от цоколя до пояса: Троицкий – 5,3 м, Покровский – то же самое. Сами пояса: 35 см х 3 = 105 см;
– схожа высота повышенных подпружных арок – около 8 м;
– высота лопаток в Покровском – 10 м от цоколя, в Троицком – 9 м;
– верхняя половина лопаток с капителью в Троице – 3 м, у Покровского – 3,5 м;
– даже с поднятым карнизом барабана Покровский только на 1 м выше Троицкого (22 м, а Троицкий – 21 м, с подиумом – те же 22 м).
Нет сомнения, что копирование древнего памятника было вынужденным, сознательным и рациональным, так как обратная связь не восстанавливается. Это – стиль «ретро», более того – здание изначально строилось как Троицкий собор.
На том, что соборный храм Слободы строился как Троицкий, категорически настаивает М.А.Ильин в книге «Путь на Ростов Великий», причем вопреки многочисленным и, казалось бы, бесспорным фактам – сюжетам фресок (в т.ч. в надпортальном киоте). С точки зрения научной корректности, это было почти безобразием, что же касается интуитивной прозорливости покойного ученого, то тут ему нет равных: по самой сути, он, конечно, прав. Ему просто следовало объяснить, как это случилось, и связать факты между собой, как это делаем мы.
Покровскому собору нет большого смысла копировать Троицкий в Лавре, а Троицкому собору – прямой смысл. Загородная резиденция была посвящена Троице. Василий III – троицкий крестник – одновременно строит Сергиев надвратный храм сразу в двух местах. Государев двор строится для троицкого времяпрепровождения. А главное – постройка большого Троицкого собора была старым долгом московских государей. Иначе говоря, последние были в долгу у «Святой Троицы».
В Москве Троицких церквей, как известно, поначалу вообще не было. В Кремле – кажется, ни одной. На Посаде, когда – мы не знаем, – появляется Троица на Рву. Троица в Полях – по дороге в Троицу. Напрашивается вопрос: почему московские государи не имели у себя посвященных Святой Троице церквей? Ведь все они были прямыми или косвенными крестниками, «детьми» Сергия Радонежского.
Во всей Руси только Псков и удельный Серпухов, участие в жизни которого Сергия Радонежского доказано источниками, держали у себя кафедральный Троицкий собор. Несомненно, все это были опыты по насаждению культа Троицы. Троица в Пскове, как и София в Новгороде, говорят об учености, глубокомысленности клира этих старинных и «культурных» северных городов, об их особой ориентации. В прочих русских городах архиерейские церкви посвящались или Господским праздникам (Воскресению Христову, Успению, Благовещению и Рождеству Богородицы) или Преображению Спаса, или чудотворным образам (история архиерейских церквей в городах Руси говорит, однако, что храмы эти могли быть и не первыми).
Святая Троица в Пскове, как и Святая София в Новгороде, – два древнейших памятника на северо-западе Руси с богословскими посвящениями. Это кафедральные архиерейские соборы. «Маленьких» Троиц или «маленьких» Софий не было.
Выбор праздника для соборной церкви – в ведении архиепископа и соборного клира. Епархиальные центры не имели себе подобий, и единичность удесятеряла их значение. Большая значимая архиерейская церковь не должна была знать конкуренции. Согласно Семисоборной росписи Новгорода, в нем была только одна Троицкая церковь и несколько Троицких приделов, как в Спасе на Ильине улице. И никаких Софий, кроме главной.
Во Владимирской Руси эту роль играло Успение Богородицы (поскольку кафедральный собор был Успенским, других церквей с этим посвящением было очень мало, так как не должно было быть двух «центров», двух спорящих реликвий, и на такие посвящения не давали благословенных грамот). На второстепенное значение Троицкого праздника во Владимирской земле указывает едва ли не единственное посвящение престола Троице – придел Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. И никаких, разумеется, Троицких монастырей – до Сергия.
«Начальником» Троицкого культа был, вне сомнения, Сергий Радонежский и его монастырский клир. Поначалу Троица не была московским культом. Преподобный Сергий основал свой монастырь в Радонежском уделе, на территории другого государства – на земле князя Андрея Радонежского. В сознании народа корень Троицы был здесь, и история строительства Троицкого монастыря показывает, что со стороны государства не было даже попыток перенести святыню поближе к столице. Огромный Троицкий собор был построен там же, в Троице, а не в Москве. Троицкий праздник вырос в глазах общества, но перейти границы Маковца не смог.
Славу Троице создала феодальная фронда. Вероятно, Сергий потому и не шел на митрополию, что был фактическим митрополитом у себя в уделах и не хотел служить Москве. Это был противовес московскому митрополиту. Только татарское нашествие всех временно объединило, и состоялся альянс Дмитрия Донского и Сергия Радонежского.
Напряженные отношения между Троицкой лаврой и московской княжеской ветвью достигли своей высшей точки в середине ХV в., но с победой централизованной власти и с концом фронды, несмотря на совершенное предательство, монастырь целиком переходит на московскую сторону. Следуют новые постройки, великие князья сюда возят крестить детей. Вблизи Василия III с самого начала царствования были исключительно троицкие постриженики – митрополит Симон, митрополит Варлаам, епископ Коломенский Митрофан.
С окончанием феодальной войны московские власти начинают строить и укреплять Троицкий монастырь именно в качестве центра Троицкого культа, и строительство Новой Слободы в 40 км от Троицы – одно из таких мероприятий. В 1476 г. в самой Троице перестраивается старая деревянная Троицкая церковь в новый подколоколенный храм. Затем строится трапезная палата без церкви. Затем, в 1510-е гг., загородный дворец и Святые ворота. Далее – Подольный монастырь, стены и т.д.
Василий III ухаживает за Троицей с 1510 г.: «Того же лета полили верх железом у Троицы в Сергиеве монастыре месяца маия 19», «...а пришед на Москву был в Сергиеве монастыре месяца июня 16, да поставил свещу негасимую у Сергиев гроба». В этом же году или немного раньше он закладывает и Новую Слободу с большой соборной церковью (возможно, закладку Новой Слободы следует связывать с Новгородским походом и взятием Пскова в 1510 г.). В 1512 г. князь закладывает в Троице Святые ворота со своей патрональной церковью.
Обретение мощей преподобного Сергия происходило синхронно с закладкой каменного Троицкого собора игуменом Никоном в 1422 г. За обретением последовало открытое положение на поклон в новой раке. Старая послеедигеевская деревянная Троицкая церковь была перенесена на монастырское кладбище за алтарями Троицкого собора, в ней на поклонение был поставлен старый гроб чудотворца, в котором он истлевал в течение 30 лет. В Лавре появились две реликвии. Через 50 лет деревянная обветшавшая церковь была отдана в села, а на ее месте построена заменившая ее каменная, называемая Средней, также посвященная Троице. Через несколько десятков лет Средняя церковь была переосвящена в Духовскую. Гроб Сергия стоял в ней, как малая монастырская реликвия.
Попытки перенести из Лавры мощи преподобного Сергия не прекращались никогда. В ХVIII в. их даже думали переместить в Петербург и построить для них более «достойный» мартирий.
Нечто подобное в отношении старого гроба мог обдумывать и Василий III. То, что Сергиевский придел в дьяконнике Покровского собора в Новой Слободе был предназначен под помещение в него чудотворной церковной реликвии, – сомнений почти что нет, ибо в 1560-е гг. при копировании Покровского собора в Никитском монастыре Переславля-Залесского была повторена плановая схема Покровского собора с обоими приделами. Придел в дьяконнике (при внесении в него неких плановых изменений) был посвящен Никите Переяславскому и его раке. Больше этот ход нигде и никем не повторялся. Видимо, Василий III думал взять из Лавры старый гроб святого.
Следующая после Василия III попытка принадлежит уже Ивану Грозному, и она до известной степени удалась: гроб из Духовской церкви был перенесен в большой собор.
На первоначальное Троицкое посвящение Покровского собора в Слободе указывают, с нашей точки зрения, и западные, т.н. «Тверские», врата с гравированным изображением Троицы в одной из филенок. Единственное изображение Троицы (к сожалению, остается тайной, были ли еще такие же гравированные иконные изображения, были ли они перевернуты при новом монтаже дверей в Слободе, – есть и такие предположения), не может быть разумно объяснено иначе, как:
– во-первых, тем, что храм, на котором монтировались двери, т.е. соборная церковь Слободы, намеревались посвятить Троице;
– во-вторых, храм, с которого двери были сняты, также был посвящен Троице.
Л.И.Лифшиц считает, что т.н. «Тверские» врата александровского Покровского собора были повешены в петли Иваном Грозным после Новгородского похода. Но исследователь не объяснил при этом, почему на единственной пластине врат (в нарушение симметрии) изображена Троица Ветхозаветная – только она, а на других изображений нет. Вернее, он воспользовался объяснениями первого исследователя врат Т.В.Николаевой, что пластины-де, по-видимому, были перевернуты при новой монтировке дверей уже в Слободе. При этом Николаева сослалась на количество гвоздей с «цветочными» литыми шляпками, которые оказались лишними при перемонтировке врат, и которыми стали красоты ради пригвождать пластины. Однако, чертеж реконструкции самой Николаевой показывает, что при устройстве на дверях скругленного верха лишними оказались якобы только 6 литых гвоздей с бронзовыми шляпками. Это остроумно, но, строго говоря, лишними оказались все-таки 8 гвоздей. Значит, служить бесспорным доказательством это не может. И второе: почему, если на каждой «перевернутой» пластине было по изображению (как полагает Николаева), пригодной оказалась только Троица? Это можно было бы считать случайностью, только если бы все без исключения гвозди были в момент привоза врат в Слободу на местах.
Вывоз из Новгорода Васильевских врат отмечен Г. фон Штаденом, время привоза т.н. «Тверских врат» – неизвестно. Во всяком случае, Штаден не говорит, что было вывезено двое врат.
А очевидное копирование в Слободе Троицкого собора подсказывает другую версию. Происхождение «Тверских врат» из Новгорода сегодня сомнений не вызывает, как и то, что это военный трофей. Но вот где они стояли в Новгороде, и в Новгороде ли, на момент взятия их в качестве трофея – это вопрос. Пока за неимением других данных правильнее думать, что они стояли в храме, посвященном Троице, и не в Новгороде непосредственно, а в его «пригороде» Пскове (соответственно, в псковском Троицком соборе), и что вывез их оттуда не Иван Грозный (источник молчит о вывозе двух врат), а его отец, великий князь Василий III, взявший Псков на щит, снявший вечевой колокол и увезший его в Москву. Т.е. это трофей 1510 г., когда Покровский собор еще только закладывался либо строился – как Троицкий.
Поэтому мы думаем, что врата были взяты Василием III в 1510 г. в Пскове для строящегося собора в Слободе, перемонтированы и поставлены как главные. А сын Василия III, также взявший Новгород на щит, «довез» остальные врата – боковые Васильевские (о вратах Покровского собора подробнее см. в двух статьях, вошедших в настоящий сборник – прим. ред.).
Почему собор в Слободе, строившийся как Троицкий, был освящен как Покровский, – мы не знаем. Возможно, новый Троицкий храм, поставленный в той же местности, дублирующий праздник, все же оказался не нужен: такое дублирование посвящений делало невозможным одновременное посещение двух Троицких церквей на Троицын день. Но в любом случае Покровский собор может быть сочтен до известной степени «деформированным» в угоду Троицкой идее.
А поскольку Покровский собор строился в качестве «обитальяненного» дубликата Троицкого, совершенно ясно, что увеличение собора на сажень было заданием, сохранение высот лаврского собора – тоже заданием. Эти параметры не принадлежали автору, они были воспроизведены им в приказном порядке. Оставаясь зодчим этого собора, он был в огромной степени исполнителем. Ему принадлежат прежде всего архитектоника и декоративное убранство.
Пример Покровского собора очень важен, поскольку демонстрирует нам «лабораторию», и мы можем понять, как и в каких условиях творились новые формы. Это уникальный случай: мы имеем образец и копию с него. Это на уровне билингвы, перевода с языка на язык.
Самим понятным примером такой «билингвы» раньше был Успенский собор Фиораванти, где архитектор нашел в себе силы довольно далеко отойти от образца, прежде всего, в интерьере. Здесь же интерьер оказался наиболее консервативной частью задания. Мастер внес очень мало от того, что составляло новую поэтику: импосты, капители подкупольных столбов, базы столбов, причем последние были и в Троицком соборе Лавры. Высота столбов в интерьере расходится на несколько сантиметров.
Копирование интерьера было сакральным, поскольку под сводами и куполом монастырской церкви в Троице лежал Сергий Радонежский. При желании в слободском соборе можно было даже поставить пустую раку преподобного Сергия.
Крупнейшие изменения были внесены в конструкцию барабана – он был поставлен на подпружные арки (в Троицком соборе он вывешен напуском парусов и имеет жерлообразную переходную конструкцию). Диаметр барабана в результате значительно увеличился. Очень точно сведены алтари. А пилоны расширены, конструкция усилена. В высоту зодчий Покровского собора пропорционально нарастил собор только за счет подклетного яруса. На той же высоте от земли поместил орнаментальный пояс. За исключением длины и ширины, все наращения отдельных элементов – в пределах метра. Высота подклета – та же сажень.
Сохранение священных размеров, точнее, высоты лаврского храма оказалось губительным для эстетического восприятия Покровского собора: габариты его плана требовали высоты, по крайней мере, Успенского собора во Владимире. В этом-то и оказалась заключена трагедия памятника.
Изменить в угоду тому или иному монументу своих представлений о гармонии мы не можем и не обязаны. С ними мы и умрем. Но видеть более точно, находясь во всеоружии обширных современных историко-архитектурных знаний, мы можем.
Итак, чем Покровский собор мог так не угодить ученым ХХ в.? Так не угодить! Никакие риторические ухищрения ни со стороны его популяризаторов и пропагандистов, ни с нашей стороны, – со стороны сторонников его беспристрастной науковыдержанной оценки (по возможности, конечно), – не могут скрыть того факта, что к архитектуре пятисотлетней давности (пусть это не покажется смешным) имеются претензии. В чем они заключаются?
Мы уже понимаем, что речь тут не может идти ни о чем ином, как о нарушении гармонии, во-первых, и вкуса, во-вторых. Под нарушением гармонии в указанном смысле мы понимаем несоответствие той самой «вневременной гармонии», законы которой сформировала еще античность и в поле тяготения которой пребывает весь европейский, средиземноморский, североафриканский и переднеазиатский мир. А под нарушением законов вкуса мы понимаем перегруженность форм, неудачные цитаты из другой архитектуры другого времени.
Все это в здании Покровского собора имеется. Даже с учетом всех тех объяснений, которые мы предложили выше, ученые во многом правы: Покровский собор – здание неблагополучных пропорций, оно широко и коротко одновременно, и оно несет на себе неудачно выбранную декорацию, принадлежащую зданию иного времени и иной культуры. Иначе говоря, налицо стилистический эклектизм, возникающий от смешения архитектурной формы, скажем, ХV в. – с элементами ренессансных и позднеготических построек. Колоннада – североготическая, бюргерская, явление общеевропейской готики, когда лишенные энтазиса колонны потеряли античную грацию. Неудачно выбрана декорация не только основного церковного объема, но и обстройки. Русский собор, окруженный европейской (причем достаточно бесстильной) колоннадой, забранной парапетом, может вызывать удивление и нарекания.
Поразительной чертой Покровского собора, безусловно обращающей на себя внимание, является его одноглавие. Большой собор, но почему-то одноглавый. Исследователи русской архитектуры часто пишут о многоглавии и одноглавии. Высказывается много противоречивых суждений, ученые часто погружаются в символику. Однако, т.н. глава – прежде всего фонарь. Главы нужны для освещения подсводного пространства, хотя люди средневековья (а тем более медиевисты), безусловно, творили из этих технических элементов мифологию.
Не побоимся сказать, что Покровский собор – самый большой одноглавый храм на Руси. В XVI в. здания таких объемов строят уже пятиглавыми, трехглавыми и т.д. Подчеркиваем, – по необходимости. Никакого сакрального смысла в этом нет.
«Стилистически сильными» зданиями начала ХVI в. являлись Кремлевский дворец, Архангельский собор, Успенский в Дмитрове. Покровский же собор в условиях Москвы не может быть сочтен однозначным проявлением фряжского стиля – лишь фряжского пошиба.
Однако здание Покровского собора на свой лад прекрасно. Архитектура – искусство изначально эклектичное в большей степени, чем другие искусства. Эстетически неблагополучное здание требует понимания, и такое понимание может восполнить эстетические потери – конечно, до известной степени.
Претензии к пропорциональному сложению Покровского собора связаны с глобальным непониманием сути памятника, его назначения, а отсюда уже его эстетики и поэтики. И дело тут не только и не столько в сакральном копировании Троицкого собора Лавры.
Маниакальная идея «освобождения» архитектурных шедевров от «поздней» застройки, охватившая нашу реставрационную науку и общественность и приведшая в ряде случаев к трагическим последствиям, связана с непониманием ряда вещей:
– во-первых, древней технологии, последовательности возведения сооружений (того, что вначале ставился основной объем, а потом к нему прикладывались паперти и крыльца по истечении времени, часто длительного);
– во-вторых, древнерусской архитектурной эстетики, того, что казалось целесообразным, а что прекрасным.
Эта история имеет давние корни. Это одна из трагических страниц отечественной архитектурной реставрации. Еще в середине ХIХ в. эшафотом русской архитектуры стал Владимир.
Дело в том, что древнее проектирование и строительство (которые, возможно, совпадали по фазам) проходили несколько совершенно отдельных стадий. Сначала создавался сакральный объем здания, потом к нему пристраивались второстепенные объемы – лестницы и паперти. Средневековое мышление воспринимало каждый объем в законченном и отделанном виде. Здание составлялось как слово по слогам.
В теории это всем давно известно, но не все умеют пользоваться этими знаниями на практике. Эта полная отделка, с резьбой, в том числе скульптурной, уже на следующий год идущая под обкладку, свела с ума ученых ХIХ в., в том числе епархиальных архитекторов древнего Владимира. Освобождение древнего ядра здания от обстройки стало маниакальной идеей. Камнем преткновения было совершенство пропорций Покрова на Нерли. Это «очищение» памятников во времена активной реставрации принимало эпидемический характер. Причины – поиск ослепительного совершенства, гармонии основного объема, совершенства пропорций, как бы не требующих обкладок.
Уже в конце XIX в. ученые ужаснулись тому, что сделали, однако, в зависимости от квалификации исследователей, спор о том, как датировать уничтоженные и вновь археологически открываемые пристройки, нет-нет, но вспыхивает вновь. Если в отношении домонгольских памятников это трагическое заблуждение оказалось, в конце концов, преодоленным, то заблуждение, касающееся папертей храмов, построенных итальянцами, а позднее и мастерами кирпичной готики, было преодолено только в наши дни. Еще в монографиях и учебниках середины нашего века можно было встретить реконструкции шедевров русского зодчества – церкви Вознесения в Коломенском, Благовещенского собора Московского Кремля и даже Успенского собора в Дмитрове – без верхнего яруса папертей, без кровли.
И здесь тоже не обошлось без жертв. На наших глазах был разобран второй ярус папертей шедевра годуновских времен – церкви Преображения в Вяземах. Гибель угрожала папертям и церкви Петра митрополита в Переславле-Залесском (со слов автора проекта реставрации), и нашего Покровского собора. В Александровском музее помнят разговоры со специалистами о сломе папертей, к счастью, оставшиеся нереализованными.
Как известно, средневековое сознание отделяло сущность от явления. Древние эстетически разделяли сам храм (если говорить о церквях) и его обстройку, видели его и в воображении, и на практике отдельно от обстройки, сообщали ему гармонию внутреннюю, независимую, т.е. в полном соответствии с законами средневекового мышления сначала формулировали суть, а потом одевали ее во внешнее (часто, по их убеждению, временное) платье.
Здание церкви, безусловно, мыслилось эстетически независимым. Оно было просто прекрасным, а обстройка – целесообразно прекрасной. Привычка сдавать работу законченными, завершенными циклами и получать за это договорную плату, отсутствие сегодняшнего мелочного экономизма заставляло и побуждало придавать совершенную отделку, законченный эстетический вид и объекту первой сдачи. Не было принято оставлять незаделанными места примыкания будущих папертей, лестничных башен и пр.
Сказанное относится преимущественно к домонгольской архитектуре. С началом Нового времени этот принцип дрогнул: пристройки стали вязать с основной кладкой. Впрочем, не паперти и не крыльца – из-за неравномерности осадки их и основного объема.
И при этом, в отличие от всех без исключения зданий монастырского обихода, где речь может идти разве что о папертях и крыльцах, два собора «царской» руки – Благовещения (возможно, и Архангельский) в Кремле и Покровский в Слободе – имели, кроме второго яруса папертей с крыльцами, с невиданными круглыми колоннами, еще и палаты.
Этого допустить ученые уже не могли. В новейших публикациях не получили никакого отзвука такие недавно ставшие известными факты, как ведущие в Покровский собор огромные лестницы и обходные дворцовые паперти с выходящими на них палатами с тесовыми фигурными кровлями на круглых колоннах и вторым ярусом закомар над ними (последние элементы не сохранились, но легко дедуцируются на основании достоверных следов на стенах собора). Существующая потрясающая обстройка собора ранее датировалась XVII в. и при анализе архитектуры храма не рассматривалась.
Примерно в то же время, когда строился Покровский собор, появляются храмы с каменными сводчатыми папертями, возводимыми, в отличие от папертей предыдущей эпохи, в процессе строительства основного объема, поэтому непосредственно над кровлями папертей появляется мертвая, необработанная «чердачная» зона. Так была построена тут же в Слободе Успенская церковь с ее изначально возводимыми вместе с основным храмом придельными объемами. Тут же, в Слободе, вплотную к алтарям строится сакристия Троицкой церкви. И только при проектировании папертей, крытых тесом в прижим, как у того же Покровского собора, объем продолжал отделываться как бы без учета будущих легких кровель, без каких-либо заранее запроектированных пристроек.
Первым исследователем, догадавшимся о том, что круглые столбы паперти принадлежат Покровскому собору, был П.Д.Барановский. Однако он не допускал мысли, что они были поставлены «под кровлю», и думал о навершиях в форме «шара» (сообщено Н.Н.Свешниковым, с которым П.Д.Барановский делился своими идеями относительно здания собора). Таким образом, к обычным «минусам» собора – «тяжелым» пропорциям, «заемным» поясам и пр. – добавились круглые столбы-колонны несколько иной стилистики, как бы от другого здания.
В итоге Покровский собор стал жертвой непонимания того, что он, в отличие от церкви Покрова на Нерли, церкви Вознесения в Коломенском, Дмитриевского собора во Владимире и пр., проектировался уже в расчете на обстройку, причем «расползшуюся», достаточно аморфную, замышлялся вместе с нею, без нее не мыслился (а те храмы «мыслились» отдельно). Отсюда – необычная массивность его верха, плавная мощь закомар, грузность барабана. Это и не хорошо, и не плохо, – это просто факт. Это был храм, возвышавшийся над крышами дворца, венчавший собой целый город. Ведь, к примеру, Благовещенский собор «у Государя на Сенях» никогда ниоткуда не был виден из-за высокой крыши Казенной палаты перед его восточным фасадом, и поэтому, когда в ХVIII в. палата была сломана, работавшим над ремонтом Большого Кремлевского дворца дворцовым архитекторам ничего не оставалось, как протесать апсиды коротковатого древнего Благовещенского собора топорами до земли, дабы «подкрепить» здание, сразу потерявшее эстетику. Это ввело в заблуждение целое поколение советских реставраторов, принимавших эти протески за подлинные (например, В.И.Федорова).
Покровский собор дошел до нас с частью дворца. Такой счастливой судьбы не выпало ни одному из других сохранившихся княжеских или боярских подмосковных храмов. С Покровским собором выдерживает сравнение только еще один домовый великокняжеский храм – Благовещенский собор, к которому примыкают два дворцовых крыльца, паперть и стена палаты. Однако все перечисленные объемы, стянутые в единый узел на папертях Благовещенского собора, разновременны. В Александрове – одновременны.
Паперти Покровского собора представляют собой выдающуюся историко-архитектурную ценность. Это не церковные паперти в обычном смысле слова, в обычном понимании. Это паперти огромного дворца с многочисленными входами и спусками. На них, кроме собора, стоят палаты, на них выходят крыльца. У них необыкновенные парапеты, их круглые столбы-колонны происходят из европейских дворцов. Это как бы элемент немецкого Ренессанса: круглые колонны (в том числе без энтазиса) украшают многочисленные дворцы, патрицианские дома и замки Германии.
Столбы-колонны Покровского собора имеют капители из крепованного антаблемента. 2/3 колонны стоит на полу паперти, 1/3 – на парапете с ширинками. В ширинках на главном южном фасаде – бриллиантовый руст. Отметим, что бриллиантовым рустом украшен шатер церкви Вознесения, мелкими гранеными бриллиантами обсыпаны порталы и бусы Новоспасского собора.
С улицы колонна Покровского собора – короткий столб, с паперти – вылитая западноевропейская колонна. Западный ряд колонн как бы карабкается на стену, на своды дворцовых комнат.
Не имея возможности изучать сам дворец, мы в лице папертей Покровского собора видим нечто, что относится больше к дворцу, чем к церкви.
На масштаб и пропорции дворца в Слободе указывает его единственный сохранившийся корпус из двух звеньев, выходящий на западную паперть собора, перед его западным фасадом. Он – бесконечен. Вплотную к нему почти примыкала крепостная стена, а анфилада палат вытягивалась от апсид на восток до церкви Троицы.
Историки архитектуры, совершая обычную для них умственную манипуляцию с «освобождением» центрального ядра здания от «уродующей» его обстройки, получили «уродливое» ядро Покровского собора: нескладное коротковатое «тело», непропорционально большая «голова» и пр. Все это ничем не напоминало ни домонгольские шедевры Владимира, ни шедевры усадебного зодчества федоровско-годуновской эпохи – такие, как церкви Преображения в Острове, Бориса и Глеба в Борисове городке, Преображения в Вяземах, Троицы в Хорошеве и пр. Но дело здесь в том, что в Покровском соборе конструктивно и пропорционально воплотился домовый храм «старого» усадебного типа. Переворот в строительстве усадебных храмов произошел позже, хотя и в царствование того же Василия III: начиная с церкви Вознесения в Коломенском, главная усадебная церковь стала ставиться отдельно от хором, возможно, даже за пределами ограды, причем выбор пал на храм шатрового типа, на пленере, над речной долиной. Это уже были черты светской ренессансной усадьбы. Только тогда храм, действительно, освободился от построек, от клетушек.
Сумел ли, тем не менее, гармонизировать ситуацию зодчий Покровского собора? Преодолел ли его гений условия заказа? Думаем, преодолел. Вот его идея: собор был встроен им в анфиладу зданий, полностью растворен в ней, а купол и закомары храма венчали всю громаду дворца.
Отсюда масштаб памятника, сопоставимый с масштабом московского Успенского собора. Через 50 лет при постройке в Троицком монастыре копии московского Успенского собора (в качестве предполагаемого нового мартирия преп. Сергия), масштаб подлинного Успенского собора был, наоборот, снижен ровно на одну сажень, дабы вписать лаврское здание в другую ситуацию (что, тем не менее, не очень хорошо удалось).
При оценке Покровского собора следует проявлять больше здравого прагматизма. Масштаб этого здания не давал ни малейшего шанса пойти по пути, избранному в другом усадебном храме другого времени, построенном гениальным зодчим Бориса Годунова в селе Вяземах, – двухпридельном здании вытянутых вверх пропорций. Недаром три выдающихся усадебных храма царской руки, построенных в ХVI в. после Покровского собора в Слободе, оказались в конце концов вынесенными за пределы непосредственно усадьбы на холмы над речной долиной: церковь Вознесения в Коломенском, церковь Преображения в Острове и церковь Бориса и Глеба в Борисове городке. На гребни холмов были поставлены и Покровский собор на Рву, и церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, и Борисоглебский собор в Старице.
В результате нового знакомства с Покровским собором историки архитектуры углубили свое понимание такого трудного для них предмета, как русская дворцовая усадьба начала ХVI в., и впервые приподняли завесу над таким понятием, как находящаяся на дворе русская дворцовая церковь. Однако во всем, что с тех пор об этом написано, все еще чувствуется робость перед острой новизной материала.
Драма наших предшественников заключается в том, что они «раздевали» Покровский собор, по неведению поднимая руку на эстетику целого, чего делать, разумеется, не следовало. Более того, мы обязаны рассматривать собор не только внутри громадного и растянутого двора, но и вместе со стоящей на одной с ним оси подколоколенной церковью с ее огромным куполом и вытянутой вдоль собора звонницей (о подколоколенной церкви Слободы см. статью в настоящем сборнике – прим. ред.). Сильно выдвинутый северный придел собора уравновешен колокольней. Это – конгломерат объемов.
Приспособление к окружающей застройке – особая эстетическая задача. И эта задача была решена мастером Покровского собора превосходно. Два яруса полуциркульных закомар над расползшимся по земле зданием – вот истинная изюминка этого памятника. Даже если закомары по периметру поставлены не были, то задуманы они, вне сомнения, были, – крестообразно по осям против порталов. Мы имеем систему, предшествующую высоким крестообразным папертям гениальной церкви Вознесения в Коломенском с ее ризалитами, крытыми высокими горбообразными кровлями, и повернутыми лестницами-всходами.
Рука мастера чувствуется и в том, что Покровский собор был первоначально двухцветным. На фоне красно-кирпичных стен хорошо выделялись его резные белокаменные детали, и белокаменный подклет как бы возносил здание храма вверх. Это было тем более необходимо, поскольку общие формы собора тяжелы, мощны, торжественно величавы и свидетельствуют о могуществе его заказчика – московского великого князя. Если присмотреться к профилировке архивольтов закомар, к резным трехчастным лентам, украшающим апсиды, к капителям пилястр, членящим стены, и великолепному резному киоту над западным порталом входа, то мы сразу же поймем, что хотя основным вдохновляющим источником резьбы и был собор Троице-Сергиева монастыря, но характер профилировок закомар и мотивы резьбы (с преобладанием стилизованного акантового листа) сразу же подскажут нам прототип – итальянскую резьбу по камню в сооружениях Московского Кремля, построенных итальянцами. Эти «итальянизмы» собора Александровой Слободы, как и двухцветная окраска, являются дополнительным подтверждением датировки собора 10-ми годами ХVI столетия.
Нельзя не обратить внимание и на три богато орнаментированных портала Покровского собора (четвертый не сохранился). Они покрыты изощренной итальянской резьбой прекрасной, уникальной сохранности (Александровский дворец никогда не горел).
Фряжские порталы дошли до нас во множестве. Но не все памятники, предположительно построенные фряжскими мастерами, имеют соответствующие, фряжского рисунка и архитектоники порталы.
Антиподами фряжских порталов в указанные годы были русские перспективные порталы. Очень часто заказчики требовали от зодчего именно порталов традиционной перспективной формы. Так, перспективными русскими порталами или их модификациями были украшены входы Успенского собора Фиораванти и Успенского собора в Дмитрове. Очень часто на одном здании устраивались (возможно, в виде компромисса) и фряжские, и русские порталы. Так было, по-видимому, даже на церкви Вознесения в Коломенском, где несохранившийся западный портал был устроен с полуциркульным верхом. А в Благовещенском соборе по желанию великого князя два русских портала были заменены на совершенно роскошные, изощренной резьбы «фряжские».
Порталы фряжской архитектоники (русские порталы фряжской модификации мы не рассматриваем, это отдельный сюжет) можно отнести к двум типам – палатным и церковным. В палатных преобладали прямоугольные очертания. Церковные, видимо, обязательно требовали «верха» или полуциркульной, или щипцовой формы. Покровский собор украшен западным фряжским порталом совершенно особого типа.
Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов дали порталам Покровского собора, должно быть, наивысшую оценку как искусствоведы, однако в качестве историков архитектуры они оказались неподготовленными к неожиданным, ошеломляющим выводам. Они писали, что «грубость» орнаментов, а также «сочетание фряжских мотивов с исконно русской формой перспективной арки дает основание считать эти порталы выполненными не итальянцами, а русскими мастерами-резчиками по камню».
Несомненно, Бочаров и Выголов испытывали известное давление со стороны идеологических институтов и чувствовали себя обязанными поддерживать официальную точку зрения.
Но спрашивается, что есть русская резьба по камню в указанные годы? Если исследователи хотели сказать, что русские резчики воплощали художественную волю мастера-итальянца, – это мы еще поймем, но тогда вопрос: где они научились так резать? Разве что «навыкли у немцев каменосечной хитрости»…
Русские резчики резали на рубеже двух веков сноповидные капители порталов, цоколи и листовидный декор (Духовская церковь Троице-Сергиева монастыря), но от последнего остались жалкие фрагменты. Самое большое собрание резных обломов мы находим на Духовской, и это – все. В результате находок в Новоспасском монастыре, широкомасштабных исследований в Кремле некоторые ученые в настоящее время берутся выделить руку русских мастеров, но все эти попытки крайне спорны и производятся лишь на образцах ренессансной резьбы.
Русские орнаменталисты выступали и в эти, и в предыдущие годы только как керамисты. Уже много десятилетий орнаментальные пояса делались исключительно из терракоты (Г.Н.Бочаров и В.П.Выголов обратили внимание и на определенную странность: выполнение орнаментальных поясов, скопированных с собора Троице-Сергиева монастыря, – из белого камня, вопреки живой традиции, требовавшей замены камня терракотой).
«Такое тесное переплетение нового, нарушающего все привычные рамки, со старым, исконно традиционным, и составляет основу его художественного образа» (Бочаров и Выголов, с. 13). И дальше: «Для развития зодчества того времени это очень характерно. Оно свидетельствует о широком диапазоне творческих исканий древнерусских мастеров начала XVI в., которые, исходя из новых веяний времени и одновременно опираясь на богатый опыт прошлого, создают интереснейшие и удивительно разнообразные сооружения. Одним из них и является Покровский собор села Александровского, новой великокняжеской резиденции». Под этими словами можно было бы и сегодня подписаться, если бы не акценты, не фразеология «села». Даже слово «резиденция» было озвучено несколько иначе, чем это делаем мы.
Сдвиг акцентов создает колоссальный эффект. Мы говорим не «село», а «замок». Любой двор феодальной эпохи имел ограду разной крепости (см. писцовые книги). Все затворялось, запиралось, огораживалось, всюду были сторожа и собаки. Крепкие ограды подражали крепостям. Монастыри – и те подражали крепостям.
То, что Бочаров и Выголов считали архаикой, их огорчающей, является, в действительности, – заданием. С точки зрения романтического понимания творчества, в том числе архитектурного, такое задание гирей на ногах мешало авторскому самовоплощению. Но одновременно и осложняло задачу, – скажем мы. Бросало вызов, требовало изобретательности и гибкости.
В последние годы было открыто еще одно замечательное качество Покровского собора. Оказалось, что при его сооружении в московском зодчестве совершился переворот в практике строительства придельных церквей: из пристраиваемых снаружи по прошествии времени т.н. «приделов-застенков» (как клеть за стеной основного сруба) родилась та самая принципиальная многопридельность и многообъемность, на века ставшая одной из парадигм русского христианского храма, – приделы стали выкладываться по единому с основной церковью плану, на правах дочерних объемов.
Для своего времени храм с двумя изначальными внешними приделами – новшество. Нигде в Московском государстве другого такого современного ему храма нет. Ни монастырские соборы, ни приходские церкви (о которых мы, впрочем, ничего не знаем), ни, тем более, архиерейские церкви не получали нарочитых внешних приделов до конца ХVI столетия. Единственное, пожалуй, исключение, – перестроенный тем же Василием III Спас на Бору на великокняжеским дворе (в качестве приходской церкви для дворцовых слуг), но мы не знаем достоверно, сколько у него в тот год было приделов. Единственный внешний придел над усыпальницей, почитаемой могилой, – вот норма, но и те можно перечислить по пальцам.
В Древней Руси при постройке церкви право выбора престольного праздника для придельного храма принадлежало ктитору. В качестве главного жертвователя он получал возможность посвящать придельный храм или своему патрональному святому, или патрональным святым своих сыновей. Как дело сугубо частное, последнее не получало сколь-нибудь значительного общественного резонанса, сведения о приделах не попадали на страницы летописей. Не случайно в летописных сообщениях о постройках самых замечательных московских соборов, начиная с кафедрального Успенского, о приделах нет ни слова. Скромно выглядели и сами патрональные приделы. Спрятанные в стенах больших крестовокупольных храмов, приделы данного типа ничем себя, как правило, архитектурно не обнаруживали.
Второй тип церквей, построенных «от частного лица», – придельные или отдельностоящие малые обетные церкви. Строительство обетных церквей также оставалось делом сугубо личным, однако само событие проходило по разряду общественно значимых, «обещание» обычно давалось публично и «держалось» публично. Давший обет сам участвовал в закладке храма, сам клал первое бревно или первый камень в его основание, при стечении народа. Это было зрелищно, торжественно и непременно попадало на страницы хроник.
В отличие от церквей первой группы, такие обетные приделы ставились снаружи и были у всех на виду.
Настоящим толчком к созданию внешних придельных церквей послужила возникшая в середине XIV века традиция погребения русских чудотворцев, строительство для них или знатных вкладчиков церквей-усыпальниц. Это новшество было громадным и не могло не поражать воображение. Восходящие к XIV в. (истокам собственно московской архитектуры) храмы с приделами известны все наперечет: это Успенский собор Ивана Калиты, это его же Архангельский собор, это Спасский в Твери и пр. Но все приделы к этим храмам пристраивались позднее, после чего им уже подражали. Приделотворчество на этапе строительства основного храма прививалось медленно.
В отношении приделов Покровского собора важно уточнить, что внешних приделов в новом духе у собора было не совсем два, а скорее «полтора» (просим прощения у читателя за невольный каламбур), так как южный Никольский придел в действительности представлял собой выступающий из дьяконника крестовокупольного храма глухой (без наружных дверей) ризалит. Сам придел традиционно размещен в дьяконнике крестовокупольной части объема храма. Этот уникальный прием был скопирован при постройке обетного Никитского собора в Переславле-Залесском.
В связи с этим отметим еще одну важнейшую особенность Покровского собора – влитый в стену барабан придела с главой в чужой закомаре, как в раковине. Это предвосхищает влитые в стену барабаны Покровского собора на Рву и карнизы ярусных ступенчато повышавшихся построек. Данное качество для начала XVI века – из ряду вон выходящее.
Покровский собор с замысловатым южным приделом показывает, что архитектурное приделотворчество тогда еще было новым для Руси делом.
Помимо боковых приделов, при Покровском соборе изначально существовала особая столпообразная купольная церковь Алексея митрополита с соборной звонницей, поставленные на поперечной оси собора, против его южных дверей с крыльцом-ризалитом, в едином ансамбле с собором, и собор проектировался вкупе с этими зданиями, по единому с ними плану.
После возведения Покровского собора традиция крестовокупольных усадебных храмов пресеклась на многие десятилетия. Следующие, начиная с церкви Вознесения в Коломенском, были возведены уже шатровыми. И только Годунов-правитель возводил у себя в имениях оба типа.
Таким образом, родоначальником линии крестовокупольных усадебных храмов годуновского круга был собор в Слободе – самый ранний московский храм с двумя изначальными внешними приделами по сторонам. Нетрудно заметить, что изящный и богатый усадебный храм Преображения в Вяземах и другие годуновские усадебные церкви, начиная с Хорошева, восходят к нему. Вотчинные боярские храмы начала ХVI в. приделов не имеют, а эти все с приделами. Возможно, двухпридельность была какой-то особой привилегией, так как монастыри предпочитали строить с одним приделом.
Покровский собор – памятник московской дворцовой архитектуры, построенный сразу же после Архангельского собора, на той же архитектурной волне, тем же заказчиком, возможно, теми же зодчими, с теми же профессиональными издержками, под диктовку заказчика, поставившего иноземного архитектора в трудные условия. Архангельский и Покровский соборы – здания сопоставимые и соразмерные, сформированные одними и теми же обстоятельствами и запросами. И если мы вспомним критику Архангельского собора нашей наукой – тяжелое, сдвинутое на край пятиглавие, грузность, ложная двухъярусность, дурные пропорции нефов, перегруженность фасадов декором, «спрятанность» апсид и т.п., – и выставим ряд «дежурных» претензий к Покровскому собору, то без труда найдем весьма близкие точки соприкосновения: несамостоятельность, эклектичность и пр. При этом только плохое знание архитектуры Архангельского собора и мифы, с ним связанные, защищают этот памятник от более придирчивых суждений.
На самом же деле оба зодчих решали специфические задачи: переводили с языка одной архитектуры на язык другой, только в одном случае это было здание раннего XIV в. (1333 г.), в другом – раннего ХV в.
Разумеется, Алевиз Новый был смелее и решительнее, но здание, им снесенное, было архаичным, дурным, грубым, «готическим», как сказали бы в XVIII в., тогда как воспроизведенный в Слободе собор Троице-Сергиева монастыря уже изящно моделирован, обладает тонкостью, воздушностью, гладкостью работы.
И главное – в Слободе имел место, как мы показали выше, акт сакрального копирования. Зодчий, что отмечается буквально всеми, был связан в выборе декора: орнаментальные пояса, карнизы барабана и апсид, русские перспективные порталы, наружный киот над западным порталом (необходимость «опустить» киот почти на портал была вызвана не устройством над ним окна, как можно подумать, а необходимостью накрыть его общей с папертью деревянной тесовой кровлей). Узел этот «решен» (в высшем смысле) не был, правильного и грамотного сопряжения не получилось. Дело, видимо, в том, что кровли не проектировались заранее и выполнялись другими артелями (аналогичный пример – Успенский собор Фиораванти).
Ни то, ни другое здание не было, таким образом, вполне самостоятельным. В Архангельском соборе вовсе не произошло полного преодоления заданных параметров, преодоления в высшем смысле слова. Просто Алевиз каким-то образом получил право на полную замену декора, на новые одежды Возрождения. Зодчий Покровского собора такого права не получил, как и Аристотель Фиораванти. Отсюда «робость» и «половинчатость».
И Архангельский, и Покровский соборы имели открытую кирпичную фактуру, оба были «красными», оба повторяли здания, существовавшие до них или существующие рядом. Мастера Возрождения были не столь уж свободны, как это нам иногда представляется. Их принуждали к компромиссам, мешали самовыражению. Успех Алевиза или Петрока Малого у современников был не столь велик, как у наших современных искусствоведов.
На ученых начала XX в. непривычная строительная техника, в которой был выстроен Покровский собор, также производила негативное впечатление. Мы подобных «претензий» к памятнику не имеем. У Покровского собора – белокаменная несущая субструкция с несомыми кирпичными элементами. Выражение, применяемое сегодня, – «смешанная кладка», – недостаточно ее характеризует. Белокаменные субструкции – и кирпичное убранство, кирпичное завершение.
Среди немногочисленных древнерусских памятников, выстроенных в смешанной технике, в точности такого расклада материала нет нигде, кроме, может быть, московского Успенского собора. Но после сооружения Успенского собора, ставшего, по выражению С.В.Заграевского, «лебединой песней» старой технологии, строительство из белого камня (как материала несовершенного и нестойкого к огню) прекращается. И столп Бона Фрязина, и Архангельский собор, и церковь Вознесения в Коломенском, и Покровский собор на Рву имеют кирпичные субструкции. Двойная технология возвращается только во второй половине ХVI в., в эпоху всеобщего огрубления и оскудения, и переживает расцвет при Годунове. Чисто белокаменные постройки возникают, как показывает опыт, только вблизи каменоломен (Старица, Остров). Открытый кирпич как декорация применен впервые в Слободе. Во всех других случаях, от Волоколамска до Серпухова, кирпич скрывается, дезавуируется. В Архангельском соборе кирпич не декорация, он – основа. И в церкви Вознесения – основа. А в Слободе – основа белокаменная.
Покровский собор должен привлекать внимание ученых и в качестве памятника раннего ХVI в., построенного итальянскими мастерами, и в качестве одной из самых больших соборных крестовокупольных церквей своего времени, и в качестве замечательно сохранившейся дворцовой церкви «на Сенях», и в качестве образца усадебной великокняжеской церкви «первого поколения», и в качестве третьей по рангу церкви Государева двора, построенной тотчас за Архангельским собором и тем же ктитором. Наконец, памятник представляет собой редкостный компендиум разностильных черт и приемов, в нем намеренно нарушены каноны стилистического единообразия, и это едва ли не первый случай в истории древнерусской архитектуры. После него такое нарушение имело место только в церкви Преображения в Острове.
С нашей точки зрения, все это должно было бы, вне зависимости от эстетических оценок, вызывать неподдельный исследовательский интерес. Однако вот уже сто лет изучения памятника показывают, что ничего подобного так и не произошло. Напротив, большинство фактов литературного порядка говорят о невостребованности памятника. Несмотря на «прорыв» в изучении Покровского собора, совершенный в последние годы, и на появление множества ранее неизвестных сведений, над памятником будто бы тяготеет произнесенное Ф.Ф.Горностаевым «заклятие» – отзыв о соборе как «о последнем вздохе угасшего московского областного зодчества».
Теперь мы видим, что в этом неудачном выражении Горностаева неверно буквально каждое слово: памятник не является продуктом ХV в., и никакого «московского областного зодчества» вообще не было. Покровский собор динамичен и обращен в будущее.
Собор является носителем и хранителем максимального объема бесценной информации по архитектуре и строительству, не идущего ни в какое сравнение с монастырскими, приходскими, архиерейскими церквями ХVI в., ни с одним зданием, кроме двух дворцовых церквей Большого Кремлевского дворца в Москве – Благовещенского и Архангельского соборов (особенно Благовещенского). Покровский собор, как и предшествовавший ему в этой функции Благовещенский, был построен «на Сенях», в преддверии огромного великокняжеского дворца, с которым был накрепко связан структурно и стилистически. Огромные архитектурные массы храма доминировали в ансамбле.
При ближайшем рассмотрении архитектуры Покровского собора приходит на память и Успенский собор в Москве. Зодчий храма в Слободе в точности повторил главный зрительный и эстетический прием Аристотеля Фиораванти: возвел огромные пустые закомары и увенчал здание огромным барабаном. В Покровском соборе есть что-то венецианское. Огромный барабан и могучие прясла – не мелочь, не пустяк, как может показаться. По духу, размаху, мягкости, изяществу, огромности размеров (физические объемы вне конкуренции), – это один из самых «итальянских» памятников Московской Руси.
Центральное прясло Покровского собора в осях лишь на метр меньше прясла кафедрального собора Фиораванти в Москве. А ведь это одноглавый крестовокупольный храм с повышенными подпружными арками!
Историки архитектуры много и не всегда убедительно пишут о многочисленных архиерейских и монастырских соборах на Руси, построенных на протяжении ХVI–ХVII столетий по типу московского Успенского собора. В этой настойчивости есть свой резон: позднейшие архиерейские церкви, действительно, структурно повторяют кафедральную церковь Москвы. Однако помимо прямых «засушенных» реплик Успенского собора (вплоть до прямого копирования деталей и размеров в Троице-Сергиеве) есть только один памятник, в огромных и пышных закомарах и колоссальном барабане которого можно услышать душу Успенского собора. Это – Покровский собор Александровой Слободы, заложенный, о чем мы писали выше, в качестве Троицкого.
Покровский собор можно обвинять в чем угодно, кроме одного: он не мертвый, а живой, не плод дурного копиизма, а вещь необыкновенно привлекательная, итальянская и русская одновременно. Переходя на сухой и формальный язык науки, скажем, что у соборной церкви великокняжеского загородного дворца – самые широкие (пропорционально широкие, могучие) прясла и самый большой барабан после собора Фиораванти. Недаром в середине ХVII в. у властей была идея предложить Покровский собор в качестве образца при перестройке Успенского собора Владимира Мономаха в Смоленске. Очевидно, древние лучше, чем мы ощущали масштаб и дух этого замечательного сооружения.
С Покровского собора тоже снимались копии. Самая значительная из них – собор Никитского монастыря в Переславле-Залесском 1560-х гг. Копировались и детали. Думаем, что второй ярус закомар Покровского собора в Суздале и собора Павло-Обнорского монастыря – от Слободы. Приделы, безусловно, протогодуновские. Копировались и итальянизмы, и столбы на папертях.
Покровский собор выделяется среди шедевров русской архитектуры еще и тем, что это единственный среди дошедших до нас памятников древнерусского зодчества, кроме московского Успенского собора, к которому ничего не пристроено, но только «оторвано». Однако Успенский собор изначально не имел современных ему внешних пристроек (кроме крыльца), а Покровский собор был изначально «встроенным» в огромное количество дополнительных помещений, которыми он был вместе с папертями обложен с трех сторон. Застроенной была, судя по всему, и четвертая алтарная сторона, но уже деревянными зданиями.
Итак, Покровский собор Александровой Слободы:
– единственное дворцовое церковное здание в Московской Руси, сохранившее свою изначальную каменную обстройку процентов на восемьдесят. Ни Благовещенский, ни Архангельский ее почти не сохранили;
– первый московский храм с вынесенными наружу внешними приделами (хотя рассматривать его с двумя симметричными приделами, строго говоря, не вполне корректно – северный придел вынесен наружу, южный оформлен как ризалит дьяконника);
– первый храм с закомарами по периметру папертей (следом были построены Покровский собор в Суздале и Павло-Обнорский монастырский храм);
– один из четырех–пяти памятников рубежа ХV–ХVI вв., выстроенный «по-европейски» – с белокаменной и кирпичной открытой фактурой. Помимо архитектонических белокаменных элементов, собор, по-видимому, имел обработанные белым левкасом детали;
– здание, считавшееся у древних сакральной копией Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Установить объект копирования с подобной точностью удается редко;
– один из немногих великолепных дворцовых каменных храмов, чьи паперти были перекрыты тесовыми, в том числе дугообразными, кровлями. Тесовые кровли Покровского собора могут служить косвенным указанием на аналогичные кровли собора Троице-Сергиева монастыря;
– третье пятиапсидное церковное здание после Успенского и Архангельского соборов;
– третье здание с резными фряжскими белокаменными порталами ин ситу, над украшением которых работали итальянские резчики;
– одно из ранних зданий с ковчегами (филенками) прямоугольной формы, получившими распространение в архитектуре ХVI в.;
– здание, круглые колонны ограждения которого позволяют соблюсти ритм, отвечающий его архитектуре;
– здание с деревянными кровлями и каменными чердаками у апсид и барабана;
– единственное здание, сохранившее свои древние карнизы со всем набором обломов (обычно карнизы перебираются с заменой материала);
– здание, копиизм и заданность которого продиктовали итальянскому мастеру столь редкую форму, как средневековый надпортальный киот, которую фрязи избегали, где это было возможно. Надпортальный киот – знак иконопочитания. Таких киотов нет ни в одном другом здании, построенном итальянцами, кроме собора Симонова монастыря;
– здание, где два боковых портала были сделаны по-русски перспективными в знак уважения к прототипу;
– здание, где барабан одного из церковных объемов впервые не возвышается над кровлей здания, а прижат к другой архитектурной форме (позднее мы это встречаем в Покровском соборе на Рву);
– первый храм, построенный одновременно со звонницей и подколоколенной церковью, фактически являвшейся его третьим приделом;
– третий по значению (и третий в иерархии придворных храмов) памятник нового придворного строительства. После архиерейского Успенского собора первым в Москве был Благовещенский «на Сенях», потом Архангельский «на Дворце», потом Покровский в Слободе – центральный храм загородной резиденции. От него, как мы доказываем, брал начало Государев двор. Следующей с перерывом в 20 лет была построена церковь Вознесения в Коломенском, затем строительство каменных храмов в усадьбах прекратилось вплоть до годуновского времени. Иван Грозный продолжал считать резиденцию в Слободе главной и в строительстве дворцовых церквей со своим отцом не соревновался.
Покровский собор имеет душу, сквозь его нарочито русский облик проступают итальянизмы. Его архитектура была значащей и многое говорила современникам. Это здание не есть порождение провинциализма, отсталости, неумения, традиционализма мышления. Это – не ископаемое. Это – здание, выстроенное в новых технических приемах, согласно новым возможностям и пониманию. Перед нами блестящий столичный храм.
И, наконец, – о мастере этого храма. Часть исследователей считает, что Покровский собор (а значит, и другие памятники Слободы) был построен русским мастером, часть (в том числе и мы) – фряжским.
В начале ХХ века возникло ложное предположение, что храм (тогда вообще говорилось только о храме, о церковном ядре памятника) выстроен архаистом. И это ложное представление о мастере-архаисте (разумеется, русском) оказалось на удивление живучим.
Мы уже показывали, что план внутреннего ядра Покровского собора без второстепенных объемов (приделов и палат) был механически, с очень незначительными коррективами, переведен с собора Троице-Сергиева монастыря. Стены были разнесены по сторонам света в общей сложности на сажень, по метру с небольшим от основных осей храма. Этим-то сакральным копированием, как мы видели выше, и объясняется воспроизведение в натуральную величину орнаментальных поясов собора по стенам, алтарю и барабану, а вовсе не убогим традиционализмом не поспевающего за веком автора, как полагали в свое время Бочаров и Выголов. Эти историки архитектуры ошиблись в классе памятника. Это не инерция, не неумение, не традиционализм, а смелое вольное и дерзкое пародирование (в старинном смысле слова «пара» – повторение) архитектуры совершенно конкретного здания. Это – задание, это, как мы сегодня сказали бы, – идеология. Это – «Заказ» с большой буквы.
Покровский собор традиционным не был. Традиционной усадьбой был Государев двор в Слободе, с собором, включенным в комнаты, в тело дворца.
Мы уже вспоминали, какую трагическую роль в судьбе домонгольских памятников Владимира сыграл недостаток профессионализма у епархиальных архитекторов XIX в.: все башни и паперти, кроме одной, сакральной (в Боголюбове), были снесены при «реставрации». И Покровский собор все наши предшественники мысленно освобождали от его обстройки, которую они считали поздней, и, естественно, приходили в ужас от его «пропорционального несовершенства». Однако делать этого не следовало. При проектировании храм соизмерялся со всем расползшимся по огромной территории дворцом, целым «городом» каменных и деревянных палат. Плюс крепость или, как минимум, мощная стена, остатки которой мы находим за монастырской оградой.
С легкой руки следующего поколения итальянских зодчих русская господская усадьба получила принципиально новый облик: церковь ставится на просторе, как мы сказали бы сегодня, – на природе. Итальянцы преобразовали усадьбу, впервые внеся в нее черты итальянской виллы и вынеся усадебную церковь наружу. С времен Годунова – с Вязем – произошел возврат к крестовокупольному или бесстолпному храму аналогичных габаритов, но уже стоящему в усадьбе «особо», во всем своем великолепии.
Поэтому неизвестный зодчий Покровского собора вовсе не «подражал» более чем известному троицкому памятнику и даже, наверное, не считал его заслуживающим внимания: он просто холодно копировал то, что было ему предписано. Чтобы «позолотить пилюлю», он в двух случаях увенчал московско-татарские орнаменты – на алтарях и барабане – элементами итальянского антаблемента с резьбой из овов и акантового стилизованного листа (и, возможно, даже встретил возражения).
Перед нами не традиционалист, а поставленный в жесткие рамки исполнитель великокняжеского заказа. Это не утрата гармонии, а лишь другое ее неожиданное выражение. Но, к сожалению, ученые не поняли приемы, к которым прибег зодчий, пытаясь преодолеть антихудожественные, антиэстетические условия заказа.
Единственный монастырский источник, сообщающий нам под 1513 г. о постройке неподалеку от Троице-Сергиева монастыря великокняжеской резиденции с Покровским собором, зодчего, как было принято в подобных документах, не называет. Но все факты, основанные на оценке почерка и приемов, в которых выстроены собор и резиденция, говорят, что это был один из итальянских мастеров, ранее занятых на строительстве Московского Кремля.
В Покровском соборе обильно применена фряжская орнаментальная резьба. И в археологии, и в искусствоведении, и у историков архитектуры орнаментика играет роль немого языка, каким, например, является язык танца. Орнаменты национальны в меньшей степени, чем речь, на которой говорят, но в большей, чем т.н. язык архитектуры. Орнаменты, в отличие от архитектурных и тем более конструктивных узлов и деталей, нельзя ни подделать, ни скопировать механически. Для выполнения орнаментов нужен живой резчик, они обладают собственной художественной жизнью. Как и живой язык, культура орнаментов (а это культура) впитывается с молоком матери. Таковы орнаменты Слободы, Архангельского собора, южной паперти Благовещенского собора, Грановитой палаты, фрагментарно дошедшие до нас орнаменты Большого Кремлевского дворца, Крутицкого подворья, порталов Новоспасского монастыря. Все они индивидуальные, все разные.
Мы не знаем ни одного случая, когда достоверно итальянская, высокого класса резьба была бы встречена на памятнике, не построенном фряжским мастером. По источникам: Архангельский собор, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, церковь Вознесения в Коломенском, Казенная палата, паперти Благовещенского собора и пр.
Решая вопрос о мастере, нельзя сбрасывать со счетов и остальные памятники Слободы, например, ту же церковь Алексея митрополита с ее декоративной воздушной аркадой, скованной по-европейски поясами открытых железных связей.
Можно бесконечно перечислять приемы фряжского строительства, не делая окончательных выводов, и называть это научной корректностью. Дескать, авторство итальянского мастера, не подтвержденное документом, – не факт, но лишь гипотеза и требует для ее осторожного «озвучивания» специальных выражений. В принципе, это справедливо. Однако набор косвенных фактов, подтверждающих авторство в отношении Покровского собора именно итальянского мастера, слишком обширен.
Ввиду того, что гипотеза о фряжским мастере не может быть подкреплена источниками, некоторые авторы находят более разумным примирить обе точки зрения посредством известной «филологической диверсии» (а «диверсия» – по своему первоначальному значению отвлекающий маневр), употребляя относительно фряжского мастера выражения типа «участвовал», «привлекался», как бы давая понять, что строили дворец и его церкви русские мастера, а многочисленные итальянизмы ансамбля инспирировал приглашенный (для чего?) «консультант» (еще хуже – «ученый референт») из числа придворных зодчих Василия III.
К сожалению, некоторые современные ученые тоже прибегают к подобной фразеологии. Бочаров и Выголов работали в другое время, и их осторожность в обращении с некоторыми понятиями была оправдана. Сегодня же прибегать к двусмысленностям такого рода нет необходимости. Подобные подмены – не в интересах науки и ничего ровным счетом не объясняют.
Порталы Покровского собора выполнены первоклассными итальянскими резчиками, не учениками, не ремесленниками, не подчиненными главному итальянскому мастеру русскими мастерами (сегодня, когда в Большом Кремлевском дворце выявлены датируемые рубежом ХV–ХVI вв. грубые подделки под итальянскую резьбу, мы знаем, наконец, как работали русские ученики). Работы велись по указанию архитектора и его эскизам (рисункам, проектам, чертежам, – будем называть вещи своими именами: без чертежа или модели построить здание нельзя, как нельзя плыть без компаса или карты).
Порталы, киот, элементы фасадной архитектоники, покрытые орнаментами итальянского Возрождения, другие т.н. малые формы (прямые итальянизмы памятника можно перечислять до бесконечности, ведь их оказалось значительно больше, чем полагали раньше) не могли быть введены в архитектуру здания, минуя то, что теперь называется стадией проектирования. Их надо было проектировать и вместе со всем зданием, и порознь, но прежде всего вместе, искать им пропорции, соизмерять с целым, вначале прорисовывать по-архитекторски, а уж потом распоряжаться об их вырубке в камне. Обычно украшение данного конкретного здания велось синхронно с его сооружением.
Памятники всех времен и всех цивилизаций, у всех народов говорят о единоначалии на стройках, таком же жестком, как на корабле или в бою (разумеется, после того, как заказ одобрен ктитором и принят к исполнению). Без единого руководства невозможна ситуация, когда один мастер (гипотетический русский) возводит стены, а другой, итальянский, – следом за ним украшает. Нельзя прийти от частного к целому, не представляя общей идеи.
Итальянские зодчие были не «референтами» (готовящими информацию), не советниками, а начальниками строительства, основанного на Руси, как и во всем мире, на основах единоначалия. Русское строительство велось в соответствии с общемировыми принципами как в доитальянскую эпоху, так и при итальянцах, и позже. Обтекаемые выражения – «принимал участие», «привлекался» – по отношению к фактам участия итальянского зодчего в строительстве того или иного храма звучат двусмысленно и недостойны научной литературы большого и культурного народа. Это нонсенс, дань недавнему постыдному прошлому, когда в любом деле лидерство иностранцев считалось национальным позором.
Итак, итальянский мастер, «архитектон» (старший строитель). Традиционалистом, как мы поняли, он не был, это мнение – ошибка наших предшественников. Но достаточно ли всех рассуждений, приведенных в нашем исследовании, чтобы снять «некоторую вину» с него и его детища за «неудачу» с пропорциями собора?
Оценить ситуацию нам должны помочь две вещи. Во-первых, никто не обязывает нас рассматривать собор отдельно от дворца и подколоколенной церкви со звонницей. Это «ансамбль в ансамбле» – они одновременны и по замыслу, и по поэтике. Во-вторых, никто не заставляет нас думать, что мастер был связан в мелочах, в праве обстраивать собор-копию по-своему, в меру своего понимания. В главном объеме он был связан, но в придумывании приделов, палат, папертей, столбов навеса, подколоколенной капеллы и звонницы – уже свободен. Он изукрасил свое детище, как мог, устроил великолепные лестницы, построил напротив роскошного южного крыльца столпообразную капеллу, устроил ниже четверика второй великолепный ярус закомар, пустил итальянскую резьбу, угнетая старорусские мотивы. Словом, он «загнал» свой архаичный четверик внутрь, перекроил и переоформил его, насколько было возможно. Как бы ни сетовали ученые, мы получили интересное и неповторимое здание, достойное стоять рядом с любыми архитектурными шедеврами.
Хотя, как мы отмечали выше, ученые и обращают внимание на «трудные моменты» в архитектуре Архангельского собора – на негармоничность его плана, сдвиг барабанов на восток, ложную двухъярусность, неуютные пропорции нефов, перегруженность фасадов декором, «лишнее» членение на западном фасаде и т.п., – Алевиза строго не судят. Действительно, это все было вызвано давлением заказа, как и в случае с мастером Покровского собора. Едва ли Алевиз был в этом смысле в лучшем положении. Связан был и Аристотель Фиораванти. Может быть, и Петрок Малый – при сооружении церкви Вознесения.
Покровский собор Александровой Слободы – выдающийся памятник раннемосковской архитектуры времен «сложения русского национального государства». Он занимал третье место в церковной иерархии и третье по рангу государственного храма: первое – кафедральный Успенский собор, второе – два дворцовых храма на Государевом дворе Московского Кремля. Колокольней трех московских соборов был столп Ивана Великого, колокольней дворцовых церквей Слободы – столп Алексея митрополита.
Сегодня мы, наконец, понимаем, какого уровня памятник перед нами. Красив или дурен Покровский собор – вопрос праздный: этот храм полон жизни, он такой же дворцовый, какими были до слома окружающей постройки и Благовещенский собор, и Архангельский, и все другие дворцовые церкви, кроме, видимо, Вознесения в Коломенском. Это памятник средневековой поэтики, и мы должны принимать его таким, какой он есть.
Покровский собор отличается невероятной, почти феноменальной для нашей архитектуры сохранностью. Он целиком уникален. Этот первоклассный, по-настоящему музейный памятник, носитель необыкновенных новшеств и кладезь нигде больше не сохранившихся приемов, исключительно важен для науки и заслуживает благодарного внимания.
Скомпоновано из черновых рукописей В.В. Кавельмахера 1998–2002 гг. С.В. Заграевским в 2007–2008 гг.
БРОНЗОВЫЕ ДВЕРИ ВИЗАНТИЙСКОЙ РАБОТЫ
ИЗ НОВГОРОДСКОГО СОФИЙСКОГО СОБОРА
В АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЕ.
ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТВЕРСКИХ ВРАТ
Подобно любому «беспаспортному» (неподписанному) произведению средневекового прикладного искусства, бронзовые церковные двери из западного портала Покровского собора Александровой Слободы порождают множество вопросов: кто, когда и где их построил? Для какого храма? Как и когда они попали в Александрову Слободу?
Великолепный обычай древних триумфаторов свозить в свою столицу церковные двери и колокола из завоеванных ими городов уходит корнями в античность. В ХIV–ХV вв. в процессе собирания русских земель военными трофеями московских великих князей становились, если верить летописям, исключительно церковные колокола. Последние свозились в Москву к церкви Ивана Лествичника под колоколы.1 О привозе в Москву трофейных церковных дверей в этот период ничего не известно. К концу XV–началу XVI в. взгляды на историческую топографию России начинают меняться. Наступает второй, завершающий этап национального собирательства. Московские государи теперь уже по-иному ощущают себя в европейском мире. Старые праотеческие вотчины воспринимаются ими отныне под новым углом зрения. Россия устремляется к Западу, к русской Прибалтике – Новгороду и Пскову. У московского великого князя появляются императорские замашки. В начале XVI в., 120-ю км севернее Москвы, в глубине переславских лесов, вдали от опасных окских рубежей, в месте традиционного московского богомолия – вблизи Троице-Сергиева монастыря, в Новом селе Александровском Василий III строит первую в истории России императорскую загородную резиденцию западного типа – в виде ренессансного дворца с церквами и палатами, и освобождает ее население от податей («слобода»).2 Отсюда, от Нового села начинались дороги на Тверь и Верхнюю Волгу, Владимир, Суздаль и Нижний, «прибалтийские» Новгород и Псков, Вологду и Русский Север. Наличие императорского дворца, по верной мысли Рихарда Краутхаймера3, означает «столицу»4. Новая богомольная и политическая столица получила название Александровой Слободы.
По понятиям своего времени, Василий III считался «крестником» преподобного Сергия Радонежского и ктитором его монастыря. При Покровском соборе (который первоначально предполагалось посвятить Троице), вблизи алтарей была заложена первая в истории русской архитектуры прямоугольная сакристия с престолом, ложным алтарным полукружием и церковной главой – для помещения в ней великой троицкой реликвии – пустого гроба Сергия Радонежского5. Однако религиозному собирательству при слободском дворце не суждено было осуществиться. Слобода, как показывают дальнейшие события, сделалась местом накопления исключительно военных трофеев. Именно здесь, на великолепных дворцовых папертях третьей по величине и импозантности соборной церкви великокняжеской Москвы (после Успенского и Архангельского соборов), в первый и единственный раз в новейшей истории была «прибита к дверям» (смысл данного выражения будет раскрыт ниже) уникальная пара трофейных церковных врат, с началом эпохи Просвещения сделавшаяся предметом всеобщего внимания.
Врат – двое: на южной паперти стоят Васильевские (название принадлежит архим. Леониду), на западной – Тверские. Трофейное происхождение тех и других, однако, не равноочевидно. Если на златописных Васильевских стоят дата (1335–1336...) и имя донатора и заказчика новгородского архиепископа Василия Калики6, и их судьба в контексте событий XVI в. легко, т.о., вычитывается: врата были построены в Новгороде для кафедрального Софийского собора и установлены в нем, а в дни новгородского похода Ивана Грозного перевезены в Александрову Слободу (эта рано появившаяся версия нашла себе блестящее подтверждение в изданных в советские годы «Записках» Генриха фон Штадена)7, то на бронзовых литых Тверских дверях исторических надписей нет8, и об их происхождении и перипетиях поступления в собор остается только догадываться. Оба шедевра прикладного искусства настолько разностильны и ощутимо разновременны, что мысль об их происхождении или поступлении из одного храма даже не приходит в голову. Единственное, что не может не бросаться в глаза любому внимательному археологу, – это их хорошо читаемая по отношению к Покровскому собору вторичность: следы старых и новых чинок, признаки изменения первоначальной конфигурации (в процессе приспособления к новым дверным проемам), по-разному сколоченная деревянная основа, и более всего – не имеющая разумного объяснения допущенная при переносе врат «импрессионистическая» небрежность: обе пары не имеют даже признаков внутренних запоров – ни старых, ни новых (на Тверских вратах внутренний замок есть, но он едва ли не XIX в.), обе – «не закрываются» – их притворенные створы не сходятся в центре: у Васильевских врат – на 3 см, у Тверских – на целых 7–8! В том, как врата приспособлены к новым условиях, нет ни ладу, ни единого со всем ансамблем замысла, ни твердого почерка. И это – при глубоком, почти «онтологическом» различии в технологии изготовления обоих изделий: в одном случае – литье, в другом – тянутая красная медь!
Вот почему в сознании ученых рано или поздно для объяснения факта появления в Слободе второй, западной пары врат должен был возникнуть «другой» город. Им стала Тверь. Не имея в истории с Тверскими вратами никаких зацепок, ученые были обречены рассуждать по аналогии и читать судьбу Тверских врат в контексте судьбы врат Васильевских. Если Васильевские врата – памятник новгородского похода 1570 г., то военной добычей этого знаменитого похода вполне могли быть и Тверские, т.к. Иван Грозный пленил и разорил в тот поход не только Новгород, но и Тверь, и Торжок (и, между прочим, вопреки распространенному мнению, также и Псков, только в Пскове не было устроено всеобщей резни). Однако здесь возникает существенная неувязка: Тверские врата – «беднее» новгородских, но именно они почему-то поставлены в главный западный портал великолепного Покровского собора. Возможно, Тверские врата поступили в собор первыми, раньше новгородских, но в связи с теми же событиями и пр. И если Васильевские появились в 1570 г. или около того, то Тверские – чуть раньше. Так возник встречающийся в литературе мифический 1569 г. – год «посещения» Иваном Грозным Твери.
Думаем все же, что в определенном смысле интуиция не подвела ученых: Тверские и Васильевские врата уж точно появились в соборе не синхронно (та и другая пара по-разному поставлена в четверти, по-разному приколочена) и – в указанной последовательности, хотя привести тому веские доказательства отнюдь не просто. Все вышеприведенные рассуждения шатки: в новгородский поход Иван Грозный не брал свою старую отчину «на щит» (т.е. у него не было оснований для триумфа с выламыванием церковных врат. Замечено Л.И.Лифшицем)9, но мог спокойно грабить город по собственному произволу, как в те же дни поступил он со Псковом. И даже, казалось бы, верное рассуждение о том, что лучшие врата должны стоять непременно в главном западном портале храма, – небезупречно: так, например, южные двери Московского Успенского собора служили, в отличие от главных западных, через которые ходили митрополиты, а позднее патриархи, – самому царю и его семье, т.е. были в этом смысле – «царскими», а значит, и более богатыми – в точности, как в Слободе: «медяными» и с золотой наводкой! Где и в чем здесь логика?
Таким образом, никаких оснований у тверской версии происхождения врат не существует, перед нами – не более чем гипотеза.
На беду «история» оставила на Тверских дверях свой несомненный и впечатляющий автограф. На верхней пластине правой створы рукою искусного гравера XIV в. награвирована икона Ветхозаветной Троицы и подписана по-гречески «Агиа Трнас». В свое время архим. Леонид отнесся к гравированной пластине спокойно, посчитав ее, как можно его понять, – «вставкой». Правда, «вставка» сделана на той же полированной пластине, что стоят и в других ширинках, просверленных в центре и украшенных восьмилепестковыми декоративными гвоздями. Ему было ясно, что гравированная Троица появилась позже самих врат. В отличие от него советские ученые горячо ухватились за возможность стилистически датировать эту «вставку» и посчитали, что гравированное изображение на пластине дает им дату изготовления пластины, а с нею – и самих дверей.
Оставалось только, начисто забыв о византийском пошибе дверей, обратиться к источникам. Доказать тверское происхождение врат по источникам, а значит, и новую датировку, – ведь Тверь – молодое государственное образование на территории послемонгольской Руси, и атрибутированные ей изделия не могут быть старше второй половины XIII века! – взялся такой превосходный исследователь, как Н.В.Малицкий10. Оказалось, что русские летописи XIV в. только в двух случаях фиксируют постройку медных церковных дверей местными архиереями: в Новгороде в 1336 г. архиепископом Василием Каликою и в Твери в 1344 и 1358 гг. епископом Федором Тверским11, то есть в общей сложности «медяные» двери зафиксированы в них всего в трех случаях. И больше нигде и ни разу. И вот двое из трижды упомянутых дверей оказались вместе, рядом, на одной паперти! Подобные совпадения воспринимаются, как правило, с энтузиазмом. Для Малицкого это был настоящий триумф, и памятник был сочтен исчерпывающе идентифицированным. Дело оставалось за малым: у Тверских врат была неподобающая стилистика и подозрительно «не та» технология!
Но об этом в тот момент никто не думал. Ученых, в том числе Малицкого, не смущало, что на паперти Покровского собора рядом с вратами из красной тянутой меди 1336 г. стоят якобы происходящие из Твери современные им врата из высококачественной бронзы, в то время как из тех же летописей известно, что даже у великого новгородского владыки Василия Калики (второе лицо во Владимирской митрополии и старейший над владыкою Тверским!) еще в 1341 г. не было своего литейщика, а значит, и литейного двора.12
Между тем обращение к тому, что принято называть «историческим контекстом», не оставляет сомнений, что дважды упоминаемые в Тверской летописи врата были те же врата из красной меди с золотой наводкой, что и стоящие на соседней паперти врата Василия Калики. И Васильевские врата, и врата тверского Святого Спаса строились практически одновременно. Оба заказчика дверей были не просто между собой знакомы, поскольку соседствовали территориально, являлись членами одной духовной корпорации, как свидетельствуют источники, находились между собой в интенсивном духовном общении, были конфидентами, участниками одних и тех же книжных богословских дискуссий и даже состояли в переписке, то есть были людьми одного времени, одних вкусов, одной культуры, одного стиля и, как следствие, – одного понимания красоты. Оба жили «в одной стране» (в нашем современном понимании), правда, на территориях с различным политическим устройством, – культурными центрами которой в те годы были Новгород с пригородами, Москва и Тверь. Оба признавали над собой права одного сюзерена (или не признавали: Василий Калика, как написано на его вратах, его признавал) – великого князя Ивана Даниловича Калиту. Оба были воспитателями одной и той же семьи тверских князей (новгородский архиепископ Василий Калика крестил и учил грамоте Михаила Александровича Тверского). Оба иерарха были покровителями искусств, оба оказались в положении донаторов своих изрядно обветшавших к середине XIV в. кафедральных церквей и оба с энтузиазмом занимались их возобновлением.
Великим стилем эпохи, в которой жили Иван Калита, Василий Калика и Федор Тверской, стилем, не знающим конфессиональных и государственных границ, была готика. В сопутствующих литургии пластических искусствах, в изготовлении богослужебных сосудов, предметов ризницы, в убранстве алтаря – во всем европейском и ближневосточном мире преобладают «звездчатые», «колючие» формы. Это время басменных окладов, златокузнечных «кованых» сосудов, изумительных напрестольных евангелий и крестов, покровов из восточных тканей, пышных иконостасов, замечательных храмовых росписей и входившего в моду «темперированного» колоколенного литья. Готические «крестообразные» формы проникли даже в такую консервативную, связанную с местными традициями обработки камня область средневекового художественного ремесла, как архитектура. Это время остролистых пальметт и килевидных завершений на фасадах, время первых, напоминающих своими формами литургические сосуды, октагональных подколоколенных церквей (Москва). В этом смысле «мягко мерцающие» златописные Васильевские врата – несомненный общеготический шедевр. Их «колючая» стилистика и исходящий от них золотой жар – даже на фоне всей этой роскоши – неповторимы и победоносны. Никаких возможностей для епископа Федора продемонстрировать иное – античное или византийское – понимание красоты вышеописанная ситуация просто не оставляет. Приписывание церковных дверей на западной паперти Покровского собора средневековой Твери было, конечно, вопиющим анахронизмом. Тверские, как и стоящие рядом Васильевские врата, – памятники не только разных стилей, но и разных «цивилизаций». Настоящие, упоминаемые в летописи, Тверские двери епископа Федора должны были быть исполнены в той же технике, что и Васильевские, и тем же мастером, взятым у новгородского архиепископа Василия Калики, как было принято, заимообразно.
Однажды высказанная точка зрения стала, тем не менее, для ученых аксиоматической. Ошибочной атрибуции Н.В.Малицкого до конца оставались верны даже такие признанные знатоки древнерусского прикладного искусства, как Т.В.Николаева и Г.Н.Бочаров13, лично, а не понаслышке удостоверившиеся в том, что сегодня знает весь ученый мир, – что Тверские врата (в узлах и деталях, по крайней мере) представляют собой точный сколок со знаменитых Корсунских врат Софии Новгородской. Чтобы спасти гибнущую на их глазах милую их сердцу тверскую атрибуцию, Николаева и Бочаров даже высказали предположение о якобы сделанных в свое время (т.е. в XIV в.!) с Корсунских дверей и отвезенных в Тверь «обмерных чертежах» для изготовления с них литой копии! Мысль совершенно напрасная: древние не знали «академических копий», даже в случае т.н. «сакрального» копирования. Это достаточно экстравагантное предположение также страдает антиисторизмом, и только Л.И.Лифшиц в работе 1995 г. положил конец мучениям ученых, дав понять почти в адекватной этой мысли форме, что Тверские врата никакая не «копия», а вторые, вышедшие из тех же «владычных мастерских» софийские церковные врата!
В 1976 г. Тверские врата были впервые исследованы в натуре (описаны и обмерены) Т.В.Николаевой14. Исследовательница первая обратила внимание на то, что существующий полуциркульный верх памятника представляет собой в действительности реконструкцию, что он собран из специально отлитых по форме данного дверного проема окладных и заполняющих элементов «темной патины», и высказала предположение, что первоначально двери, подобно абсолютному большинству византийских и средневековых дверей Западной Европы, были прямоверхими. Этот, на первый взгляд, безукоризненно верный вывод Николаевой был основан, однако, на ложной предпосылке. Исследовательница приняла существующую колоссальной высоты дубовую основу врат из двух створ с прямым верхом – за древнюю, привезенную якобы вместе с металлическими обкладками «из Твери» – в целостном и первозданном виде и положила ее в основу своей графической реконструкции.
Однако нынешняя дубовая основа Тверских врат не принадлежит памятнику. Она – «местная», срубленная александровскими плотниками специально для данного дверного проема, в эти каменные четверти, к этим намертво заделанным в кладку при возведении собора подставам. В дубовые створы врат однажды и раз навсегда врезаны кованые грубой кузнечной работы жиковины, которые, в свою очередь, никогда не менялись, не перебивались, а двери никогда не вынимались из петель и не перевешивались. Несмотря на покрывающую их вековую патину, двери – совершенно «свежие». Они, как говорят в подобных случаях мастеровые люди, – «родные» собору15.
Последнее означает, что, вопреки сложившемуся в литературе мнению, Тверские врата по прибытии в Слободу были оторваны от своей подлинной основы клещами и переколочены на новые, специально выструганные доски, а значит, судить о первоначальной форме, размерах, а главное, конструкции дверей следует не по доскам, как это пыталась делать Т.В.Николаева, а только по дошедшим до нас металлическим подлинникам.
В настоящее время бронзовый оклад Тверских дверей представляет собой руину со следами многочисленных утрат, чинок и заплат. Металлический средник и латаные места выполнены из желтоватой бронзы и легко угадываются, вновь же отлитые элементы, как верно заметила Николаева, имеют темную патину. Все изначальные «штуки», а также дополнения и вставки пропаены в швах оловом. Весь этот «доспех» прибит к дубовым створам посредством множества железных гвоздей со счищенными или расплющенными шляпками. Замечательные огромные, с литыми восьмилепестковыми шляпками гвозди играют в настоящем изделии откровенно декоративную роль. Многие из них утрачены или легко выдергиваются, но «доспех» не падает. Вопреки Николаевой, перед нами не сами двери, а собранный из подлинников «муляж», «декорация», распластанный на досках «боевой трофей», призванный всего лишь «отвечать» контуру дверного проема, «входить» в него. Этот муляж настолько меньше по площади огромных створ, что при открытых дверях визуально в них «плавает». В сплоченном виде створы на 50 см его выше и на 10 см с каждой стороны его шире. При навеске дверей в XVI в. открытые поля и борта створ были обернуты ослепительно золотой фольгой и обиты. Сейчас фольга стала дегтярно-черной от времени.
Но если перед нами – не сами двери, а их модернизированный макет, то какова же была их коренная древняя конструкция?
По нашему мнению, подлинные Тверские двери (как и их известный сегодня двойник – новгородские Корсунские врата) относятся, если судить по полым элементам и рисунку переплета, к античному, в нашем случае – византийскому типу храмовых дверей могучей «плотницкой» архитектуры, собранных из деревянных плах или штук «паркетом» и облатанных поштучно металлом. Все 20 паркетин обвязки, составляющие больше половины площади створ, были при сооружении дверей насажены на выдолбленную из цельного куска дерева рельефную поверхность створ, имитирующих форму частого плотницкого переплета, тогда как сработанные мастерами Василия Калики, не дошедшие до нас в подлиннике Васильевские врата (в Слободе, как мы поняли, тоже не сами двери, а их перебитый на новые доски муляж) изначально представляли собой разбитую на мелкие ширинки с помощью тонких медных трубок и бляшек-умбонов живописную имитацию сплоченной паркетной конструкции (в чем, разумеется, и состоит их особая прелесть).
Подлинные Тверские врата были в момент своего рождения полностью зашиты в бронзу. Это были с лица ложно-цельнометаллические с пропаянными заглаженными швами двери, обведенные по контуру жестким металлическим «кантом» (роль «канта» играл внешний угол или «уголок» обвязки). Деревянными были только изнанка дверей и продолжение бортов. На наличие у рамного обрамления твердого уголка указывает изящный (ок. 4,5 см ширины), узкий, слегка граненый бронзовый нащельник, прибитый сейчас косыми гвоздями в левую створку врат (точно такой же, как нащельник вторичного использования известных дверей VII в. из экзонартекса Софии Константинопольской). Васильевские же врата металлического канта, вообще обвязки никогда не имели. Ее роль играли скатанные, как и сейчас, с лица и с боков края деревянных полотен. Узкий, как ремешок, нащельник указывает, что до своей модернизации двери в притворенном виде сходились в щель. Нам достаточно сравнить этот пришедший к нам из Константинополя нащельник с живописным нащельником Васильевских врат (воистину «топорной работы»), на изготовление которого пошла половина расщепленного бревна!
Технология изготовления таких «цельнометаллических» дверей состояла в том, что двери сначала ваялись, наподобие колокола, в глине, потом резались на штуки, маркировались, потом поштучно отливались, полировались с лица и уже потом монтировались, причем каждая штука «возвращалась» в точности на свое место. Несмотря на внешнюю однотипность элементов Тверских врат, их нельзя безнаказанно менять местами. Без маркировки собрать оклад данного типа невозможно.
Иначе говоря, Тверские двери суть «металлические двери на деревянной основе»16, тогда как Васильевские – «деревянные двери в окладе». Металл древних Тверских дверей был надет на эту основу, как хорошо простроченная рубаха, оклад же Васильевских дверей может быть сравним с наживленными на манекен с помощью булавок лоскутами17.
На византийское происхождение врат указывает не только их уникальная конструкция, но и сама архитектура памятника. Крупная «плотницкая» вязка квадратов, огромные поля ширинок, специфически броский, архитектурного или растительного характера, исполненный рельефом орнамент заполнения (в Корсунских вратах – обронные «процветшие кресты в киотах», в Тверских – выпуклые гвозди-розетки) в точности соответствует разработанной учеными типологии византийских и европейских средневековых церковных дверей и указывает на т.н. 1-ю ранневизантийскую группу18. Памятники этой группы имеют не более восьми ширинок (в нашем случае, как увидим, шесть), они невелики, крайне малочисленны, их архитектура лаконична. Двери же раннего средневековья обычно разбиты на множество мелких, разделенных тонкими полосами ширинок (свыше 50-ти), со сложным изобразительного характера (вплоть до лицевых сюжетов) заполнением. Огромное количество подобных дверей, датируемых XI в., сохранилось в городах Италии. К этому второму типу в качестве врат поздней модификации могут быть причислены и наши златописные Васильевские врата, нигде, кроме территории нашей страны, не сохранившиеся.
Теперь, когда мы получили понятие о типе и конструкции дверей и убедились в их вероятном византийском происхождении, нам предстоит, отложив в сторону интересную, но спорную работу Т.В.Николаевой, заново описать металлический подлинник врат с целью более уверенной реконструкции их первоначального облика (включая проблему заполнения ширинок: Николаева предположила в них пустые поля). Нам предстоит установить их истинные размеры и убедиться, что мы правильно понимаем их конструкцию. Зная, что перед нами врата Софии Новгородской, мы, тем не менее, не можем обойти вопрос об их датировке: новгородские врата вполне могли быть, в свою очередь, чьей-то военной добычей (недаром ученые датируют их от VII до XII в.)! И наконец, нам необходимо проследить вероятные пути и сроки их миграции, вплоть до обстоятельств их привоза в Слободу. Как мы поняли из предыдущих рассуждений, Тверские врата появились в Покровском соборе не одновременно с Васильевскими, хотя у них, как теперь окончательно выясняется, одна «альма-матер» – Новгородская София.
Набитый на новые доски древний оклад Тверских дверей состоит из двух прямоверхих узких металлических створ шириной 75 см каждая. Материал оклада – желтая полированная бронза. Все, что не есть желтая бронза, суть современные дубовым полотнам XVI в. докомпоновки, визуально легко отделяемые от древней основы. Это в первую очередь полуциркульная надставка (состоявшая первоначально из восьми элементов, один – утрачен), а также лист заполнения левой верхней ширинки, треугольная заплатка в центре (левая створа) и, может быть, один из четырех хлыстов нащельника (в этом автор статьи до конца не уверен).
Составляющий главную интригу настоящего исследования прямой верх древних створ хорошо читается: в него на обеих сторонах врезаны (посредством выпилов) дуги полуциркульной надставки в четверть окружности каждая и подпирающие их вертикальные элементы. На левой створе, где фрагмент надставки из темной бронзы утрачен (в виде дополнительного профильного элемента филенки), прямой верх древнего наличника можно трогать руками. Нащупав этот верх, мы получаем возможность впервые измерить реальную высоту Тверских дверей, а с нею окончательно узнать и их композицию: вопреки Николаевой, четвертого яруса ширинок не было, врата заканчивались на третьем ярусе. Общее количество ширинок Тверских врат, таким образом, шесть. Главная проблема памятника, таким образом, решена, а с нею окончательно решается и проблема его происхождения: истинная высота изделия от верха до низа – 151 см. Это высота Корсунских врат Софии Новгородской (250x157 см). При ширине створ в 75 см, при той же благородной патине и той же фактуре полированного металла, при полном тождестве обивающих створы гвоздей, при тех же литых профилях филенок и бронзовых масок с кольцами (на Тверских вратах они еще в древности были утрачены, остались только их следы и отверстия от гвоздей) и т.п. мы получаем окончательный ответ на «великий» вопрос настоящего исследования: Тверские врата суть не что иное, как вторые двери построенного в 1045–1050 гг. греческими мастерами новгородского Софийского собора и представляют собой, как мы теперь убеждаемся, абсолютный сколок литой основы Корсунских врат. Пышно украшенные обронными процветшими крестами в киотах, с насеченным ковровым орнаментом окладом, Корсунские врата были главными, западными, а Тверские – боковыми, вероятно, южными. Логика подсказывает, что в природе должны были быть еще и третьи. К этому мы вернемся ниже. Как и в Корсунских дверях, композиция и устройство створ Тверских дверей одинаковы. Каждая состоит из трех заглубленных полей-филенок прямоугольной вытянутой формы (т.н. «ширинок»), расположенных одна над другой по вертикали. Ширинки обрамлены собранным из отдельных штук рамным наличником, образующим внешний край каждой створы и отделяющим посредством дополнительных «поперечин» ширинки друг от друга. Поля (или «дно») ширинок выстланы литыми бронзовыми листами 0,5 см толщиной. Звенья же наличника шириной 15,5–16 см и толщиной около 1,5 см отлиты полыми, с высокими бортами наружу и сбегающими филенчатыми профилями «внутрь» – к ширинкам. Звенья сплочены друг с другом посредством встречных врезок, наподобие паркета. Все элементы Тверских врат полированы с лица. Изнанка же листов и паркетин – шероховатая, покрытая белой патиной. Паркетины и поля ширинок обиты громадными гвоздями с литыми восьмилепестковыми шляпками, для чего все элементы дверей просверлены в центре и на стыках, в местах соединений. Однако одна из пластин (верхняя филенка на правой створе) с гравированным на ней изображением Ветхозаветной Троицы – пробоя не имеет. Известное предположение Т.В.Николаевой о перевернутых в ширинках пластинах и о якобы гравированных на их оборотах лицевых композициях (иначе говоря, иконах!) в связи с вышесказанным (шероховатые обороты) не имеет силы. Это, скорее всего, знак приспособления или реконструкции. Несмотря на устрашающие размеры гвоздей, их роль в настоящее время чисто декоративная. И пластины, и обвязка прибиты, как уже говорилось, к полотнам мелкими гвоздями и пропаены оловом.
Много перевидавшая на своем веку, разделенная на две самостоятельных створы рамная обвязка Тверских врат сохранилась, тем не менее, полностью. В сплоченном виде это огромный сомкнутый бронзовый щит из 20 паркетин (12 вертикальных и 8 «поперечин») размером 250x150 см. Однако вертикальные паркетины центра и паркетины краев имеют при полном сходстве профиля разную конструкцию. В центре врат, где створы должны сходиться, бортов нет. Это самое интересное место в конструкции памятника. Шесть лишенных бортов вертикальных паркетин (по три на створу) образуют как бы видимый в разрезе пустотелый бронзовый панцирь, забитый при монтаже дверей в XVI в. щепой. Эти лишенные бортов вертикальные субструкции должны, согласно идее данной конструкции, быть «заполнены деревом». Здесь, под защитой бронзового нащельника, смыкались «живые» деревянные створы. А это подтверждает ранее высказанную мысль, что все паркетины дверей при их изготовлении «насовывались» на вырезанную рельефом деревянную основу, что полотна Тверских дверей вначале резались вглубь, а затем «складывались», подобно доспехам, литыми досками. Данная технология свидетельствует о глубокой архаичности памятника и не идет ни в какое сравнение с примитивной технологией соседних Васильевских врат ХIV–ХVI вв. с их набитыми на струганные доски, напоминающими волдыри, тонкостенными трубками и умбонами. Между памятниками – пропасть.
Помимо гвоздей, Тверские двери были изначально украшены двумя литыми львиными масками с кольцами в пастях – точно такими же, как львиные маски на Корсунских дверях в Новгороде. Маски с дверными кольцами были утрачены задолго до привоза дверей в Слободу, на раннем этапе существования памятника. Длительное время для открывания Тверских дверей служили разного типа скобы. Предпоследними по времени были две огромные скобы, каждая в ширину створы. От них в бронзе остались пробои. Самый последний – амбарного типа скоба-рукоять.
Подобную непрезентабельность памятника можно трактовать по-разному (как и 7-сантиметровую щель между створами!), но значение символического трофея он при этом не теряет. Интересно отметить, что находящиеся в соборе ин ситу замечательной ковки дверные полотна северного портала рукоятей вообще не имеют.
И наконец, переходим к самому сенсационному: Тверские врата когда-то в древности уже реставрировались. Не реконструировались, не «доливались», как это было в момент их привоза в Слободу, а именно реставрировались. Способ реставрации был не совсем обычным: утраченные (или испорченные) детали заменялись их дубликатами. Как мы помним, все паркетины рамного наличника – и вертикальные, и горизонтальные (кроме четырех горизонтальных, разделяющих ширинки) – имеют сбегающий к ширинкам филенчатый профиль – «внутрь» и жесткий высокий борт – «наружу». Разделяющие же поперечины должны иметь, напротив, филенчатые профили на обе стороны, ибо бортов не имеют вообще. Однако одна из четырех поперечин – вторая снизу на левой створе – имеет вместо второго нижнего профиля борт. Эта паркетина вообще не есть «поперечина», это – звено внешней рамы, деталь наличника. Она поставлена взамен утраченной поперечины как бы в качестве «реставрационной заплатки». Она – не на своем месте. Оба ее остроугольных конца подпилены. Из трапециевидной четырехгранной паркетины она превращена в укороченную шестигранную и неуклюже, с косиной вправлена в обвязку рамы. Ее появление в окладе Тверских врат говорит об имевшей быть реставрации, причем эта реставрация производилась не здесь, в Александровой Слободе, поскольку в Слободе врата всего лишь «доливались», и не в Новгороде, откуда врата происходят, а где-то, по-видимому, еще. Но не это главное. Данный элемент наличника, во всем аналогичный, судя по металлу, рамным наличникам Тверских и Корсунских врат, вообще не от них, потому что оба названных рамных наличника целы. Он может быть только от третьих новгородских врат.
К тому же выводу мы приходим, осмысливая факт наличия среди элементов Тверских врат вышеупомянутой непросверленной пластины с иконой Ветхозаветной Троицы. Датировавшая врата XIV веком Т.В.Николаева сочла пластину с Троицей едва ли не единственным элементом ин ситу Тверских врат вообще. Исследовательница допускала, что древние врата до их перемонтировки (которую она ввиду руинированного состояния врат и наличия «надставки» признавала) имели аналогичные лицевые иконные изображения во всех клеймах (ширинках) и что последние в процессе перелицовки врат были перевернуты, обращены к нам изнанкой и затем каждая пробита гвоздем. Однако, во-первых, все элементы Тверских врат полированы, как сказано, только с лица. Стало быть, все их обороты шершавы. Во-вторых, совершенно невероятно, чтобы «ранневизантийские» церковные врата с ширинками любого типа вообще были украшены, наподобие царских врат, иконами в клеймах. Подобное немыслимо и типологически и по сути: нежно гравированное на огромном листе полированной бронзы изображение Троицы является «слепым». Это противоречит эстетике бронзовых врат вообще (бронзовые двери требуют грубых, броских обронных украшений, в отдельных местах проработанных рельефом, как в Корсунских дверях). Поэтому думаем, вслед за архим. Леонидом, что лист с Ветхозаветной Троицей является, в действительности, вставкой и вставкой XIV в., о чем, по общему мнению специалистов, свидетельствует его стилистика. Гравюра, по всей видимости, и является изображением храмовой иконы некоей церкви Троицы, западный портал которой двери в тот момент украшали. Гораздо труднее было еще недавно ответить на вопрос, отчего «родной» остальным сверленым бронзовым листам данный лист – не просверлен. Однако теперь, когда мы получили доказательство существования в природе третьих врат Софии Новгородской, вопрос снимается. Он, как и окладной элемент обвязки, – от них.
С проблемой непросверленной пластины напрямую связана третья проблема памятника – проблема гвоздей-розеток. Принадлежность гвоздей с литыми бронзовыми шляпками первоначальным дверям сомнений не вызывает. Несмотря на слегка разнящиеся размеры (есть гвозди с шляпками чуть побольше, есть – чуть поменьше), все они – одного «разлива», т.е. отливались в одно время, в одних и тех же формах, из одного металла. Они сопутствуют изделию, таким образом, изначально. Однако их общее количество абсолютно преизбыточно – 45 штук! В той редакции, которую защищаем мы, – с гвоздем в каждой детали, в том числе в каждой ширинке, – их должно быть 40! Таким образом, пять доподлинно «византийских» гвоздей – лишние. Это создает проблему. Как эти «лишние» гвозди попали через пять с половиной веков в Подмосковье? Как пришли сами двери, мы догадываемся. Но как гвозди?
И наконец, четвертая проблема: проблема нащельника. Существующий нащельник из четырех коротких хлыстов на 60 см длиннее древних створ. Он явно наращен, но за счет чего и каким образом? Все его четыре хлыста как будто одинаковы на вид. Отделить предполагаемый вновь отлитый хлыст от остальных трех визуально пока не удается. Это наводит на мысль, что все четыре хлыста, как и гвозди, одного разлива, но от разных дверей.
Все эти факты могут означать только одно: Тверские врата пришли в Слободу «не одни». Вместе с ними были привезены обломки или фрагменты еще одних таких же врат, третьих врат Софии Новгородской. От этих третьих, очевидно, северных врат, во всем подобных первым двум, остались пять гвоздей-розеток, одно – верхнее или нижнее – звено контурной обвязки, не пробитая гвоздем пластина, на которой позднее была выгравирована Троица, один из хлыстов нащельника и достаточно многочисленные лоскуты заплат, которыми сегодня испещрены тверские двери. Вероятно, Тверские двери задолго до их перевоза в Александрову Слободу стали при неизвестных обстоятельствах руиной, а третьи – северные – врата Софии Новгородской – вообще «ломом».
Таким образом, Корсунские и Тверские врата, к которым мы с полным правом можем присовокупить и гипотетические северные, вышли, как принято говорить сегодня, «из одной мастерской». Все трое врат суть врата-близнецы, изготовлялись для одного храма, из одного металла и отливались в одних и тех же формах. И храмом этим была, теперь уже вне сомнения, построенная в 1045–1050 гг. София Новгородская. Все трое дверей были ее коренные, начальные, первые двери, двери-«освящения», присланные в дар, как гласит легенда, Ярославом Мудрым в качестве вклада строителю новгородского собора Владимиру Ярославичу. Корсунские врата были главными, западными (на них в какой-то момент появилась богатейшая ковровая орнаментальная гравировка, в какой именно – вопрос до сего дня остается открытым), они были украшены в ширинках процветшими крестами. Тверские – боковыми, вероятно, южными; в их ширинках были гвозди. Третьи – северные, без заполнения в ширинках (что в свое время успешно прогнозировала Т.В.Николаева). В этой троице врат все идентично, все до сантиметра совпадает, а главное – совершенно идентична фактура отполированного металла, что, как показывает опыт, даже не требует дополнительного металлографического анализа19.
Поскольку церковные двери раннего Средневековья, вообще домонгольские церковные двери привозились на стройку загодя, готовыми и своими втулками намертво, раз и навсегда заделывались в процессе возведения стен в кладку, датировать все трое «корсунских» дверей Софии Новгородской следует временем начала выкладывания стен по готовым фундаментам, начиная с порогов и кончая притолками, то есть концом первого – началом второго строительных сезонов (около 1045–1046 гг.). Однако поскольку новгородские корсунские врата все же не похожи на двери европейского Средневековья XI в. (хотя бы своими карликовыми размерами), вероятность того, что они всего лишь военная добыча Ярослава Мудрого, взятая в один из походов из той же Корсуни или откуда угодно, тоже остается. Тогда они, естественно, древнее XI в. Эту точку зрения по отношению к Корсунским вратам Софии Новгородской уже однажды защищал С.А.Беляев.
Нам осталось ответить на вопрос: каким образом Тверские врата попали в Слободу и где, когда на них появилось изображение Троицы?
Единственная, с нашей точки зрения, приемлемая гипотеза, отвечающая на большинство могущих тут возникнуть вопросов, это предположение, что врата после появления в Софии новых Васильевских врат (то есть в ближайшие после 1336-го годы) покинули Софию Новгородскую и были, вероятно, вместе с третьими, «корсунскими» же вратами храма переданы новым новгородским архиепископом, преемником Василия Калики, в «пригород» Новгорода Псков для вновь строящегося там Троицкого собора, где на одной из створ заново перемонтированных дверей и появилось гравированное изображение храмового праздника – Ветхозаветной Троицы. Поскольку в византийских вратах этой группы размещение лицевых композиций внутри филенок не предусмотрено, изображение храмового праздника заняло правое верхнее поле (этого требует соборная субординация: правая сторона в церкви «святее»). Перестройка городской соборной церкви во Пскове происходила в 1365–1367 гг. Стало быть, этим временем и должна датироваться гравированная на дверях, вопреки замыслу изделия, икона. Мастером, награвировавшим икону, мог быть грек из числа митрополичьих мастеров.
Гравировать икону следовало на чистой, без пробоя, пластине. Дверями-донорами в этом случае могли стать третьи – северные – двери Святой Софии. Даже если бы у тогдашнего новгородского архиепископа был свой постоянно функционирующий литейный двор (во что мы не верим), попасть в тон старых пластин невозможно. С появлением в Святой Софии в 1336 г. Васильевских врат прямая необходимость в западных, а стало быть, и южных дверях (в какой именно портал делались Васильевские двери, еще не установлено, кроме того, Василий Калика мог сделать, как и Федор Тверской, еще одни двери – «в притвор», не отмеченные летописью) уже отпала. Так что передача дверей в самый большой и значительный после Софии собор епархии – Троицкий – дело само собой разумеющееся. Были ли при этом переданы также и северные «корсунские» двери, можно только предполагать, но тогда откуда во Пскове и Слободе 200 лет спустя избыточные гвозди?
В любом случае, после постройки Васильевских врат и вероятного перемещения главных Корсунских врат на южную сторону Софии третьи северные двери становятся лишними и начинается их крушение. Когда в 60-е гг. XIV в. обе пары врат передаются, как мы предполагаем, во Псков, во вновь строящийся собор, Тверские становятся главными, а гипотетические северные – боковыми.
Итак, в третьей четверти XIV в. Тверские врата могли стать или стали главной соборной реликвией Пскова. Покровский же собор в Слободе был освящен 11 декабря 1513 г. В 1570 г., когда Иван Грозный привез в Слободу свой трофей, Тверские врата, как мы поняли из всего вышесказанного, в нем уже стояли. Едва ли их привез до этого сам Грозный, хотя по праву вотчича он мог сделать это когда угодно. Ему недоставало для этого мотивов. Присоединение Пскова не было в числе его личных достижений. Государем, присоединившим Псков, был отец Грозного великий князь Василий III – строитель Покровского собора и всей императорской резиденции в Новом селе Александровском. Василий III заложил Слободу в 1509 г., после завершения строительства Большого Кремлевского дворца в Москве. В 1510 г. «на Оксиньин день» он взял Псков, что стало его первым личным триумфом. Взятие города сопровождалось вывозом трофеев, главным образом, колоколов и пристройкою во Пскове обетных церквей. О том, что Тверские врата попали в Слободу, вероятно, при Василии III, первой догадалась Т.В.Николаева (правда, она продолжала думать, что врата поступили из Твери). Исследовательница почувствовала в Василии III не только основателя новой столицы, но и зачинателя местных обычаев. Покоривший через 60 лет Новгород Иван Грозный всего лишь подражал отцу. О вероятном привозе из Пскова церковных дверей для строящегося Покровского собора летопись, разумеется, молчит, но на то, как увидим ниже, могут быть любые причины. Зато летописец обратил внимание на другой поступок триумфатора, на то, что волновало людей средневековья значительно больше: Василий III свесил и увез в Москву символ независимости Пскова – вечевой колокол – и через некоторое время возвратил Пскову (как было принято) его весовой эквивалент. Точно так же, как Иван Грозный через 60 лет свесил в завоеванном Новгороде благовестный колокол Святой Софии (дар архиепископа Пимена), а затем отлил в Слободе и вернул в Новгород его весовое подобие.
К счастью для нашей темы, летописец, говоривший о снятии во Пскове вечевого колокола, ничего не сказал о другом, еще более жестоком поступке Василия III, имевшем быть или в те же дни, или спустя некоторое время (этого, наверное, мы никогда не узнаем) – о снятии и увозе в Москву благовестного колокола Троицкого собора по имени «Красный». О том, что Троицкий собор при взятии города был ограблен, мы узнаем из случайного упоминания еще одного летописного свода, говорящего ни с того, ни с сего о «возвращении» взятого от Троицкого собора его благовестного колокола в виде опять же «эквивалента». Этот «эквивалент» был отлит и возвращен во Псков только в 1518 г. (возвращенный колокол был недавно найден в Нарве)20.
Отрывочность летописания и бессистемность помещаемых в летописях сведений общеизвестны. И все же мы не знаем, когда именно Василий III снял псковский благовестник. Если в те же дни, что и вечевой, то почему летописец поленился этот полный жестокости и глумления факт в своей хронике отметить? Значит, это произошло какое-то время спустя, по зрелому размышлению, в силу какой-то иной, внутренней, необходимости. А необходимость в новых поборах и конфискациях могла возникнуть в дни, например, строительства или окончания строительства соборной церкви в Слободе, которую Василий III намеревался посвятить Троице и куда привоз дверей из Троицкого же собора покоренного города (да еще с иконой на дверях!) был вполне уместен. А покусившись раз на псковский кафедральный собор, правитель, спохватившись, мог похитить и колокол. Только произошло это уже после того, как собор был практически построен. Ведь привезенные двери в западный портал Покровского собора как бы «не входят», они подогнаны, и при этом – плохо. Возможно, Василий III отдал распоряжение о привозе дверей псковскому наместнику только в 12–13-м году, когда уже ничего нельзя было поправить, а возможно, как это ни абсурдно (ведь в декабре 1513 г. собор был уже освящен как Покровский!), еще позднее, задним числом (все-таки главное в дверях – не сами двери, а то, что они – символ, трофей! Недаром возвращение в Псков колоколенного эквивалента растянулось на целых восемь лет).
Но самое интригующее в этой истории, конечно, другое: почему врата были поставлены столь вызывающе небрежно – с щелью в 7 см? Произведенное нами обследование не оставляет сомнений, что сколотившие доски плотники и кузнецы имели возможность «расширить» створы за счет удлинения жиковин на недостающие с каждой стороны 3,5 см и обить их бронзовыми пластинами, чуть сдвинув последние к центру. Но они почему-то этого не сделали. Или дубовые створы до того, как их поставили в дверную нишу западного портала, успели повисеть в Слободе в каких-то других дверях – например, на дверях с крыльца на паперть? Таковые в соборе внизу у западного крыльца были, но они разобраны в ХIХ в., и сейчас доказать что-либо уже невозможно. К сожалению, в нашем случае это было бы единственным разумным, объяснением данного парадокса, и мы в глубине души сохраняем на этот счет робкую надежду, хотя и понимаем, что для «папертных» дверей створы западного портала уж слишком грандиозны! Увы, эту проблему будут разгадывать уже другие исследователи.
Единственный чисто теоретический вопрос, на который мы в состоянии ответить, – это вопрос, почему Тверские и Васильевские двери не запирались на внутренний замок. Дело в том, что во всех трех порталах Покровского собора предусмотрены еще вторые наружные двери, кованые, с полуциркульным верхом и, как можно думать, внутренними замками. Об этом говорят наружные подставы соборных порталов. В северных дверях эти вторые двери повешены, по-видимому, не были, а в западном и южном – были (у южного портала створой наружных дверей сколот архивольт). Обе же пары «исторических» врат Покровского собора никогда как двери «не работали», они всего лишь «трофеи», фантомы нового сознания – сознания русских цезарей.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Кавельмахер В.В. Большие благовестники Москвы ХVI-го–первой половины ХVII-го века. – В сб.: Колокола. История и современность. 1990. М., 1993. С.75-118.
2. Кавельмахер В.В. Государев двор в Александровой Слободе как памятник русской дворцовой архитектуры. – В сб.: Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы, Владимир, 1995. С.6-19.
3. Краутхаймер Рихард. Три христианские столицы. Топография и политика. М., Спб., 2000.
4. «Столица» – место, откуда государь правит, где он держит «стол» (престол) и канцелярию, откуда исходят декреты и указы, где сконцентрирован весь или почти весь правительственный аппарат. Отсюда – бесконечные столицы римских императоров. В выборе столицы государь был абсолютно свободен. Разумеется, менять столицу можно лишь при условии, что ты управляешь «империей». Россия кон. XV–нач. ХVI в. была уже империей. Следом за государем в новую столицу переезжает двор и часть армии. На столичный характер александровского поселения всегда указывало наличие в нем приказов. На государственную функцию Слободы при Василии III первым обратил внимание, если мы не ошибаемся, В.Д.Назаров.
5. Всего лишь наше предположение. Однако кое в чем мы уверены: Покровский собор – увеличенная священная «копия» мартирия Сергия Радонежского – Троицкого собора 1480-х Троице-Сергиева монастыря. На это указывают пунктуально сведенный с древней церкви план собора (речь идет, разумеется, лишь о церковном «ядре» здания – без многочисленных современных ему «пристроек») с его главными особенностями – тремя неравновеликими апсидами, резко смещенными на восток столбами, огромным нартексом и символическим «местом» гроба «настоятеля» (в данном случае – преподобного Сергия) снаружи дьяконника («одесную» алтаря) – в виде прямоугольной кафолической сакристии.
6. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл ХI-ХV веков. Под ред. И.А.Стерлиговой. М., 1996. С. 297-320 – описание Васильевских врат; С.309 – текст надписи.
7. Штаден Г./фон/. О Москве Ивана Грозного: Записки немца-опричника. М., 1925. С. 91.
8. Во все века надписи на литых изделиях или отливались, или насекались, или вырезывались, или и то, и другое – в точности, как на колоколах и пушках. Отливать мелкую обронную надпись чрезвычайно сложно, а вырезывать – не с руки. Кроме того, вырезанные надписи плохо читаются, «слепы». Все, что требует лишних усилий, в человеческих ремеслах отмирает. Посвятительная надпись на церковных дверях должна быть широковещательной, т.е. крупной и читаемой. Все это трудно достижимо, а потому на дверях данного типа надписей, за немногим исключением, нет.
9. Лифшиц Л.И. К вопросу о происхождении и времени создания «Тверских врат» Александровской Слободы. В сб. Александровская Слобода. Владимир, 1995, С.102,103.
10. Малицкий Н.В. К вопросу о датировке «Тверских врат» Александровой Слободы. Известия ГАИМК. Вып. 5. М., 1927. С.398-408. Табл. XXVII.
11. ПСРЛ. Т.З. С.77, 285; ПСРЛ. Т.10. С.216, 230; ПСРЛ Т.П. С.174; ПСРЛ Т.15. С.67.
12. ПСРЛ. Т.З. С.81, 125. Прозвище мастера-литейщика, посланного из Москвы в Новгород (Борис-Римлянин), достаточно красноречиво: литейщик со славянским именем был «итальянцем» и был «один на всех». На проблему литья из бронзы в эпоху предпочтительного создания дверей из тянутой меди первым обратил внимание, если мы не ошибаемся, Г.Н.Бочаров. Ученый понял, что двери с золотой наводкой мог делать один мастер, а лить маски с кольцами должен был другой. К сожалению, по своему обыкновению исследователь стал искать для львиных масок и химер и для дверных полотен «другую» дату.
13. Николаева Т.В. Тверские врата XIV в. В сб. Средневековая Русь. М., 1976. С.271-277; Бочаров Г.Н. Корсунские врата Новгородского Софийского собора. В сб. Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1983. С.32.
14. Николаева Т.В. Указ. соч.
15. Прямой верх гигантских (3,2 м) створ упирается в каменную притолку дверного проема, т.н. «полку». Эта полка, которую исследовательница приняла за специально выдолбленную под привезенные из Твери двери, однако, изначальна. Подобные полки имеются с внутренней стороны всех порталов памятника, в том числе северного, где висят ин ситу современные собору изумительной ковки железные полотна. В полке над подставами сделаны известные всем специалистам вертикальные протески для удобства навески полотен. Такие протески есть на всех дверных и оконных нишах для дверей ставень по всему собору (для дверей, как в нашем случае, – изнутри, для ставень – снаружи). Однако у южных дверей с Васильевскими вратами таких протесок в полке нет. Там при навеске были подпилены сами двери. Неглубокие ниши под прямоверхие створы – один из типичных строительных узлов XVI столетия.
16. Эта «основа» Тверских врат видится нам не в виде сколоченной из деревянного бруса могучей античной конструкции, сколько в виде двух выдолбленных из цельных кусков дерева карликовых створ с выпущенными вверх и вниз круглыми втулками для вкладывания их подпятники. По сравнению с дверями древнего мира, это, конечно, – вырождение и грубость, это – христианство, это – Византия!
17. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода... С. 256-257; Бочаров Г.Н. Указ. соч. С.32.
18. Авторы двух посвященных Корсунским дверям работ С.А.Беляев и Г.Н.Бочаров (Беляев С.А. Корсунские двери Новгородского Софийского собора. В сб. Древняя Русь и славяне. М., 1978. С.300-308; Бочаров Г.Н. Указ. соч.) сообщают разные данные о размерах окладных элементов врат (расхождения зафиксированы в ширинках), но не предъявляют самих обмерных чертежей памятников и не уточняют, как именно они их измеряют. Вероятно, окладные паркетины Корсунских врат (поверим Бочарову), действительно, несколько шире Тверских. Однако при тождестве фактуры и совпадающих габаритных дверей это – не принципиально: чуть больше, чуть меньше, как в случае с гвоздями.
19. Беляев С.А. Указ. соч.
20. Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б. Николай Иванович Оберакер – выдающийся немецкий литейщик, артиллерист и архитектор на русской службе. 1510-е–1530-е годы. К вопросу об авторе «трех стрельниц» Московского Кремля. В печати.
Ранее опубликовано в кн.: Зубовские чтения. Вып. 1. Владимир, 2002. С. 58-77.
К ИСТОРИИ ВАСИЛЬЕВСКИХ ДВЕРЕЙ СОФИИ НОВГОРОДСКОЙ
Построенные в 1335–1336 гг. новгородским архиепископом Василием Каликой златописные западные двери Софии Новгородской1 были в 1570 г. выломаны из петель Иваном Грозным и увезены в качестве главного военного трофея в Александрову Слободу2. На предназначение Васильевских дверей быть в Софии главными соборными вратами указывает изображение на дверном нащельнике Вседержителя на троне с фигурою ктитора в подножии, вкладной надписи над и под Вседержителем, и храмового образа регистром ниже. В качестве храмового образа Св.Софии изображена Оранта (София Премудрость Божия и есть Оранта. С.С.Аверинцев3). Бытовавшая после войны теория, что Софийские врата были построены в некую «Богородичную церковь или придел» (а не в Софию, как таковую) – недоразумение4. Св. София и есть эта «Богородичная церковь». Ниже Оранты-Премудрости – сочиненная Василием Каликою молитва.
Аналогичным образом другое известное предположение, что перед своим пленением Васильевские врата стояли в одном из приделов или притворов Софийского храма, лишено серьезных оснований5. Оно зиждится на том, что в ХVI столетии двери (последнее видно невооруженным глазом) были надставлены полуциркульным верхом и дописаны в люнете четырехчастной иконой Рождества Богородицы (древний выходящий на южную паперть придел Софийского собора), в них были заменены две пластины и несколько умбонов, а их нащельник был увеличен в высоту и дописан еще двумя храмовыми праздниками: Св. Эдесских исповедников Гурия, Самона и Авива (малый придел, устроенный в алтарях в нач. ХV в.) и Предтечи Крылатого (древний придел Усекновения главы Ивана Предтечи в темнице – в юго-западном углу храма). Основываясь на этих – бесспорных – фактах и на столь же очевидных признаках многократной тотальной перемонтировки изделия, ученые пришли к парадоксальному выводу, что двери однажды, решением соборного клира, были превращены в малые придельные двери – понижены в высоту на один-два яруса ширинок и перемещены в пределах собора куда-то на южную паперть (обычно называют или придел Эдесских исповедников, или придел Рождества Богородицы), и уже оттуда похищены Грозным.
И то, и другое, и третье – совершенно невозможно. Во-первых, на дверях написан не один какой-либо, а все три избранных праздника Софийского собора (из 5–6-ти реально существовавших в древней Софии приделов). В какой из трех ставить в этом случае двери? Судя по великолепию полуциркульной надставки, – в Рождество Богородицы, но тогда при чем тут символы двух других приделов? Во-вторых, появление у прямоверхих софийских дверей (все древние порталы Св. Софии имели прямые верха и проемы) полуциркульной надставки (если, конечно, принять эту версию, в чем есть сомнения) говорит о том, что данные дверные полотна, как и во всех подобных случаях – росли в высоту, «повышались», а не «понижались», что означает, что дверной проем, в котором они стояли, растесывался, делался по-московски, – более торжественным, широким и светлым, а не наоборот, и происходить нечто подобное должно было, в первую очередь, с главными, западными дверями храма. Пойти на столь невиданное новшество новгородцы могли, например, при архиепископе Макарии (1526–1542 гг.), будущем митрополите и Святителе, самым выдающемся церковном новаторе в русской истории, построившем Покровский собор на Рву в Москве и другие архитектурные шедевры, разрешившем книгопечатание, дозволившем молиться «статуарным» («католическим») иконам и т.д., и т.д., а до этого – перестроившим интерьеры Святой Софии (включая иконостасы) и заново ее расписавшим. Все исследователи согласны также в том, что архиепископ Макарий, как деятельный сторонник Василия III, молившийся со всей вверенной ему церковью о чадородии великой княгини, вполне мог особо отметить два соборных придела из вышеупомянутых пяти–шести: Гурия, Самона и Авива, как покровителей брака, и Усекновения главы Ивана Предтечи, на память которого приходился день тезоименитства долгожданного наследника престола царя Ивана. Для этого ему достаточно было, заново отделав и освятив эти приделы, как было принято, «по обещанию», написать на соборных дверях оба праздника. А потому появление на нащельнике западных дверей еще двух малых храмовых икон (от расположенных в разных углах необъятного собора приделов) также ни в чем не противоречит их основному назначению – быть главными соборными дверями!
В свою очередь, само предположение, что Грозный взял свой главный трофей из некоего малого придела – «историческая бессмыслица»: подражавший древним триумфатор не мог довольствоваться дверями какой-то там боковой капеллы (любой придел, даже самый почитаемый, есть капелла), но только главными вратами храма, – палладиумом взятого им города. Начитанный в истории и Священном Писании ученый книжник и полководец, кем был, вне сомнения, Грозный, не мог так оплошать!
Что же касается идеи переноса больших соборных дверей в малую придельную церковь, то такое в принципе возможно, но только при условии, что на место обветшавших или утративших свою привлекательность больших дверей сделаны новые, еще более прекрасные. Подобное в истории Св. Софии однажды уже было: свое почетное место в главном западном портале в XIV в., как мы знаем, потеряли старые византийские Корсунские двери – первые врата Софии Новгородской, присланные в дар собору Ярославом Мудрым. Они уступили место златописным дверям самого Калики. Корсунские же врата были перенесены на южную мартирьевскую паперть, возможно, на место некогда бывших здесь «боковых» Корсунских врат (Ярослав Мудрый должен был подарить собору трое византийских дверей, в каждый портал по двери), а возможно, сразу же в древний Рождественский придел, замыкавший южную паперть с востока, где они стоят в «освеженном», заново перемонтированном виде и поныне. (Большинство вопросов, связанных с миграцией исторических дверей Софии Новгородской, носят открытый характер). Однако, в те сорок лет между рождением Ивана Грозного и новгородским походом, когда только и могла произойти подобная замена, никаких новых богатых дверей в Корсунскую паперть никто не ставил. Последнее означает, что Васильевские врата, вероятнее всего, не покидали своего почетного места вплоть до рокового 1570 г. Богатейшие, колоссальной высоты литые Магдебургские врата, с XV века стоявшие в Софии снаружи, при входе на Корсунскую паперть, возможно, и стали играть в данной ситуации роль западных дверей православного храма, однако всерьез в этом качестве новгородцами никогда не мыслились: они слишком перегружены католической эмблематикой6. Их место изначально – на улице.
Говоря все это, мы вовсе не утверждаем, что знаем, как все было на самом деле. Мы только возражаем против принятой системы аргументации. История Васильевских дверей много сложнее нарисованной здесь картины, и это, прежде всего, история ремесленного изделия, а не церковной реликвии. Ведь настойчивое желание наших искусствоведов видеть Васильевские врата непременно сокращенными в высоту (это можно наблюдать на всех имеющихся в научном обороте чертежах их реконструкции: по Лазареву, – на два яруса ширинок, по Николаевой – на один)7 родилось неспроста. Ученые не могли не видеть безобразного сочленения старых врат ХIV века и нового, изящно сработанного полуциркульного верха. Старые врата в месте сочленения как бы «сломаны», умбоны верхней границы древнего изделия или искалечены зубилом, или заменены на другие, случайные, явно не от этих створ. Ученые, как следует из их трудов, не всегда отдавали себе в этом отчет, но сознание изуродованности врат присутствует в их размышлениях как бы подспудно. Макарьевских мастеров, которым мы вольно или невольно приписываем переделку врат для нового проема, невозможно обвинить в грубости и непонимании. До нас дошло много златописных дверей позднего ХVI века – в Благовещенском соборе Московского Кремля, в монастыре в Костроме – где графика дверей в сочетании с изящной сухостью орнаментов может быть сравнима только с самыми изысканными чертежами Нового времени.
Свежий, паеный в стыках и тонко разлинованный верх как-то беспардонно насажен на старую основу (несовпадение осей полуциркульного верха с вертикальными осями древних створ объясняется тем, что пластины с сюжетами при перенесении дверей в более узкий проем александровского портала были сбиты чуть теснее, чем прежде, дугообразные же половинки дверей написаны на цельных листах и их уже нельзя было сплотить теснее). Почему создатели нетрадиционного верха не заказали при этом и новые переходные элементы от прямых дверей к полуциркульному навершию? Ведь надставляя двери на целый ярус, они должны были полностью заменить их основу, выстругать и сколотить новые створы и т.п. Ведь не иначе, как этими же мастерами (так, во всяком случае, считают все ученые) были вставлены в нижнюю часть дверей две свежие пластины – Давид поражает Голиафа и Сошествие Св. Духа, – взамен захватанных руками, и четыре новых умбона. Грубо, без пайки, надставлен напоминающий водосточную трубу нащельник, грубо, без пайки, исполнено его навершие с Новозаветной Троицей и т.д. А потому, если бы не изображение на нащельнике двух старых храмовых праздников Софии Новгородской (замечено в свое время Т.В.Николаевой), правильнее было бы утверждать, что решающий и судьбоносный монтаж изделия в его окончательном и вульгарном виде происходил все-таки в Слободе, тем более, что новый полуциркульный верх вписывается в арку слободского проема не хуже, чем в арку проема новгородского.
Т.о., гипотеза о наращивании Васильевских дверей непременно в Новгороде представляется шаткой. Лист с Эдесскими исповедниками и Предтечею, которым грубо обернут нащельник, исполнен, конечно, в Новгороде, полуциркульный верх с Рождеством Богородицы – тоже, но первый грубо написан (замечено В.Н.Лазаревым)8 и грубо прилажен, второй же выписан со скучным совершенством и даже опаян. Эти элементы «разновременны» и потому не связаны друг с другом.
Второе, с чем не справились исследователи, это – состав Васильевских врат. Ученые искренне не знали, как разместить при нынешних «сокращенных», как они считали, параметрах дверей в верхних шестнадцати ширинках (нижняя треть из 8-ми ширинок занята притчами и орнаментами) все известные им Господские праздники, плюс Благовещение на двух пластинах, плюс Троицу и Сошествие Св. Духа, да еще «в календарном порядке» (претензии, не во всем понятные автору настоящей статьи). Их не покидало ощущение исходящего от памятника сумбура: вместо четырех орнаментальных пластин – три, вместо четырех пластин с притчами – пять. Пластин с Господскими праздниками явно недостает: нет Тайной вечери, нет – Омовения ног... Система расписанных полуфигурами святых умбонов верхней половины врат находится в полухаотичном состоянии, в их размещении нет ни логики, ни смысла. Дважды на одних и тех же дверях повторен Св. Ипатий, чего, казалось бы, не должно быть ни при каких обстоятельствах, кроме случайного монтирования из разнородного подручного материала и т.д.9 Убедившись воочию, что двери глубоко и бессистемно перемонтированы, ученые стали предполагать в прошлом их сознательную и «вероломную» перестройку. Они стали склоняться к принятию на счет Васильевских дверей самого пессимистического варианта – полностью испорченного, «сломанного» и кое-как заново собранного изделия. Так родилась версия искусственно «укороченных» полотен.
Завершающим штрихом к нарисованной исследователями мрачной картине служит широко освещаемый в литературе факт слишком тесно стусованных пластин. В процессе приспособления дверей к более узкому александровскому проему пластины теснее, чем следует, были надвинуты одна на другую, так что изображения оказались частично закрытыми накладными полуваликами с зубчатыми краями и крепящими «лапками» умбонов. От тесноты страдают как изображения, так и надписи. Однако данный факт не следует драматизировать. Действительность Васильевских дверей не столь безотрадна. Пластины, в самом деле, несколько утеснены, но реально, по сравнению с каноническим – авторским – вариантом их сочленения, потери ничтожные – не более 5 см на створу! В бытность свою в Новгороде двери выглядели почти также: на большинстве пластин видны следы старой клепки – и лапки умбонов, и края полуваликов «забивали» древний рисунок столь же бесцеремонно! Не приглядевшись к памятнику, в это трудно поверить. Исписанные золотом «рамки» изображений показывают (их можно разглядеть почти на всех пластинах), что не «забить» рисунок при монтировании дверей было невозможно. По-видимому, подобная импрессионистская небрежность была составляющей манеры художника раннего средневековья. Есть пластины, которые перебивались дважды, есть трижды (например, Крещение и Сретение) – и всякий раз мастера били «по живому», по рисунку. В последний раз, при монтировании в Слободе многие зубчики и лапки были грубо обломаны: мастерам позднего XVI в. они уже мешали.
Воспользуемся этим последним наблюдением и попробуем быть к памятнику более внимательными. Несмотря на ощутимые потери и искажения, судьба Васильевских врат как произведения искусства вполне прекрасна. Давно лишившиеся своей древней основы, многократно переколоченные новые доски (в последний раз – в Слободе), врата – наперекор превратностям – донесли до нас свою архитектуру. Благодаря добросовестности древних мастеров, они не только не «сломаны», они – «целы». Как у любого изделия прикладного искусства, у них есть твердо очертанный «корпус», «верх», «низ», края створ (мы говорим об окладе, а не о дереве), у каждой створы свой геометрический центр – маска химеры – и отходящие от нее горизонтальная и вертикальная оси10. И все это благодаря тонко изваянной системе фигурных умбонов и литых масок, ее архитектуры, держателей и носителей. Когда глаз начинает эту систему видеть, ощущение пестроты и аморфности, исходящее обычно от Васильевских дверей, пропадает. Двери обретают целостный и законченный вид и столь нужные ученым «параметры». Обе продолговатые, изящных готических пропорций створы представляют собой учетверенные, измельченного рисунка, дважды поставленные друг на друга Корсунские врата, которые они, двери, в 1336 г. собой заменили. Шесть ширинок Корсунских врат, умноженные на четыре, дают 24 ширинки врат Васильевских. Абсолютные размеры той и другой пары исторических дверей Софии Новгородской, т.о., совпадают: 250x150 см.11 Потери от чуть более тесно сбитых пластин в проеме александровского портала, сами по себе совершенно ничтожные, те же 5–7 см, без труда высчитываются.
Т.о., ученые фантазии о сокращенных в высоту Васильевских дверях можно навсегда оставить. Прочие же проблемы памятника остаются. Это проблемы состава пластин, места и времени их монтажа и сборки: содержание и характер проводившихся на них в прошлом работ – «реставрация», «реконструкция», «ремонт» или создание некоего бездушного муляжа из многих разрозненных элементов других златописных дверей, или то, и другое, и третье, в одной только самому памятнику известной последовательности? Эти проблемы давно витают перед умственным взором ученых. На протяжении своей истории оклад Васильевских дверей неоднократно подвергался перемонтировке, отрывался от старой основы и перебивался на новые доски. В нем менялись как пластины, так трубки и умбоны, причем невозможно решить, заказывались ли эти элементы вновь, взамен утраченных (»реставрация») или менялись на случайные дубликаты. Учеными давно замечено, что даже если основные элементы медного оклада Васильевских дверей (22 пластины и большинство умбонов) исписаны в XIV в. (что колоссально поднимает класс памятника!), они исписаны разными руками (т.е., вплоть до того, что пластины и умбоны писали разные художники!). А если это всего лишь «дубликаты», то они вполне могли принадлежать другим златописным дверям Софии Новгородской, как ХIV, так и ХVI веков! А потому там, где В.Н. Лазарев говорил «разные руки», мы склонны видеть «разные двери». Например, две замененные в XVI в. пластины – Давид поражает Голиафа и Сошествия Св. Духа – явно крупнее коренных пластин остального корпуса. Оттого-то они и оказались так затиснутыми окладными полуваликами. У них излишне свежий вид и подозрительное отсутствие потертостей. Излишне свежий, прямо-таки девственный вид и у нового полуциркульного верха. Но тогда это (кроме, конечно, полуциркульного верха) – «дубликаты», и они никем не заказывались, а нашлись и пригодились по случаю. Т.е., они попросту от других, предположительно, «макарьевских», дверей, из другого софийского придела! И монтаж (окончательный) Васильевских дверей происходил, вопреки логике, в Слободе. Ведь именно в Слободе была исписана и облужена вдоль и поперек растительным орнаментом богатая, из толстой меди «рубашка» грандиозных деревянных створ, принявших на себя средник дверей Василия Калики, и посвященный Рождеству Богородицы полуциркульный верх, и завершение нащельника с Новозаветной Троицей и пр.
Сейчас примерно одна треть умбонов не соответствует принятой в этом изделии типологии, а потому сосредоточимся на умбонах. Их детальное описание поможет нам ответить (хотя бы приблизительно) на один из поднятых в этом исследовании вопросов: сколько златописных дверей послужили донорами при сборке дверей Васильевских?
Бляшки-умбоны, которыми размечен и архитектурно закреплен оклад Васильевских врат, всего 3-х типов. В этих типах – тайна размеров и пропорционального строя памятника, тайна его формы. Общее количество умбонов – 40. Все сорок исписаны в «иерархическом порядке». Умбоны нижней зоны – орнаментами, умбоны верхних двух третей – полуфигурами святых, верх дверей – серафимами. По тому, как исписан тот или иной умбон, по его фигуре и типу, узнается его место в окладе12. Решающая роль в архитектурной разметке дверей принадлежит «угольным» умбонам I группы, пухлым, мягко скатанным бляшкам треугольного очертания. Угольными умбонами закреплены углы окладов створ. Каждый умбон прорезан двумя отверстиями под прямым углом друг к другу – для просовывания в них накладных полуваликов, и имеет одну «лапку» в виде трилистника – для крепления к картине. На оборотной стороне угольного умбона – два простых, пробитых гвоздями с плоскими шляпками отворота. Здесь – конец изделия, дальше шли спрятанные в каменные четверти деревянные створы. У Васильевских дверей створы обернуты (как сказано выше) луженой медью с похожими на современные дешевые обои цветами. Всего на дверях должно быть восемь таких умбонов, по четыре на створу. До нас дошло пять. На левой, хорошо сохранившейся створе, три (оба «нижних» и правый «верхний»), на правой – два (оба «нижних»). Все четыре нижних умбона прекрасной сохранности и «погружены» в орнаментально-растительную зону (исписаны «розеттами»). Верхние угольные умбоны правой створы не сохранились, вместо них поставлены случайные умбоны неподходящей модификации – не иначе, как от других златописных дверей Софии Новгородской, как XIV, так и XVI веков. Ничего иного здравый смысл нам подсказать в данном случае не может! Три исписанных серафимами верхних умбона левой створы (два угольных, из которых один подлинный, а один – имитация, об этом чуть ниже) и средний между ними умбон 2-й группы (см. ниже) дают нам верхнюю, искомую границу изделия. В них ответы на большинство связанных с памятником вопросов, прежде всего, вопросов, касающихся размеров дверных полотен. Обе створы Васильевских врат завершались, т.о., цепочкой умбонов с серафимами. Серафимы написаны рукою основного мастера Васильевских дверей. Средний и правый угольные умбоны – «ин ситу» (употребляем этот термин условно, поскольку знаем, что двери не раз перемонтировались), левый – имитация. Он сделан из среднего подлинного умбона правой створы, грубо сломан и иссечен зубилом. В него заведена дуга «макарьевского» полуциркульного навершия XVI в. Этот фальшивый угольный умбон вполне может рассматриваться как попытка имитации или реставрации (что в данном случае одно и то же), тогда как все три утраченных умбона правой створы просто заменены случайно повернувшимися под руку дубликатами XIV и XVI веков. Поскольку двери надставлены дополнительным полуциркульным ярусом, правый подлинный и левый фальшивый умбоны прорезаны сверху, а нимбы серафимов испорчены. Непробитым, в идеальном состоянии дошел до нас только средний умбон левой створы!
И все же самым неожиданным является присутствие среди угольных умбонов I группы (на правой створе, первый во втором ряду) еще одного умбона от неизвестных златописных дверей XIV в. с изображением евангелиста Иоанна Богослова «Филолога». Древние имели возможность поставить этот умбон на место утраченного угольного умбона с серафимом, но почему-то этого не сделали. Этот умбон с евангелистом не мог быть заказным (ведь он происходит из ХIV века!), но только откуда-то переставленным. Этот умбон уникален. Он означает, что в Новгородской Софии в XIV в., помимо Васильевских врат «с серафимами», были еще одни златописные двери с евангелистами и отцами церкви (?) по верхней кромке.
В пользу этого предположения – упоминание в III Новгородской летописи неких медяных дверей, построенных Василием Каликою «в притвор»13 (некоторые исследователи полагают, что это те же Васильевские двери, но другие, более осторожные, допускают все же, что Васильевские двери были не одни). Самым красноречивым свидетельством существования множества златописных дверей, построенных новгородскими арихиереями, остается исполненная одним из мастеров Василия Калики пластина с Крещением из Русского музея, ложно приписываемая Старой Рязани (города Старой Рязани в XIV в. не существовало)14, и целая группа принадлежавших Новгородской Софии златописных алтарных дверей (оттуда же)15.
Т.о., уже беглый обзор умбонов I группы доставил нам доказательства, что двери смонтированы, причем, разумеется, поздно.
Второй разряд умбонов – «боковые», «верхние» и «нижние» – «умбоны краев дверей», – фаолевидной конфигурации (правильнее было бы сравнить их с клецками или варениками, это было бы много точнее), – с отверстиями на три стороны и двумя крепящими «лапками» в направлении двух смежных ширинок. Это основные «рабочие» умбоны, держащие решетки накладных полуваликов на обеих створах. Всего таких умбонов должно быть 24, по 12 умбонов на створу, по 5 на сторону и по одному в середине верхних и нижних перекладин. На левой створе утрачено два боковых умбона, на правой – четыре или пять (один умбон с растительным орнаментом – в музее). Оба умбона левой стороны заменены дубликатами, мало похожими на остальные, в виде тонко свернутых трубок, и, что самое поразительное, разновременных! На проумбоне XVI века изображен Лавр, на другом, XIV века, – неизвестный молодой святой. Подобная – непарная – замена окончательно компрометирует идею реконструкции или реставрации дверей с привлечением мастеров златописного дела архиепископа Макария. Умбон с Лавром – самая грубая «заплатка» на Васильевских дверях вообще: у него нет и никогда не было крепящих лапок, это грубо обрубленный и свернутый трубкою кусок меди, но он поставлен в очень важном месте – рядом с дверной ручкой, а изящный, с лапками, прекрасно исполненный умбон с неизвестным святым помещен с великим небрежением в растительной зоне дверей, где совершенно потерялся. Большинство авторов, начиная с архим. Леонида, просто забыли о его существовании. И все же, если при реставрации левой створы мы видим желание древних воспроизвести те или иные особенности памятника (например, цепочку серафимов), то к правой стороне дверей ими же было проявлено полное равнодушие. Мастера (а это были, вне сомнения, те же мастера) были озабочены лишь подбором святых в порядке, доступном их разумению: вместо цепочки серафимов они соорудили на своей стороне «малый деисус», что соответствует типу памятника (деисусы на златописных софийских дверях несомненно были: до нас дошло три умбона со святыми в молитвенных позах), но одновременно противоречит самой идее двустворчатой двери. Деисусов должно быть два, по одному на створу. На место утраченного левого угольного умбона с серафимом они поставили умбон II типа XVI века с Богоматерью в молении. Поскольку тип умбона проигнорирован, это не реставрация, это замена. Сохранившийся средний умбон с серафимом был, как сказано, перенесен на левую створу и заменен круглым умбоном III группы (см. ниже), а на место правого угольного поставлен еще один боковой умбон XIV в. с изображением Иоанна Предтечи в моленной позе, в правом повороте, со срезанным в процессе монтажа дверей верхом.
Следующий ряд умбонов – под серафимами и деисусом, – набран из евангелистов и отцов церкви. О евангелисте Иоанне Богослове на умбоне угольной формы говорилось выше. Еще два ряда умбонов являют полный произвол в сюжетах. Никаких разумных связок в последних ярусах умбонов верхней зоны дверей не просматривается. Чисто условно можно считать, что здесь размещались патрональные святые заказчиков – архиепископа и членов церковного совета, в третьем ряду правой створы заменен левый крайний умбон на умбон XVI века, но с сохранением типа (еп. Козма Маюмский). Это едва ли не единственный пример «культурной» реставрации, где на место утраченной детали поставили нечто ей подобное.
Самое пикантное в истории второй группы умбонов, с чем давно уже столкнулись исследователи, это наличие двух дублирующих друг друга Св. Ипатиев, одного – на левой створе, другого – на правой. Оба Ипатия написаны в XIV в., но подобно картам из разных колод снабжены разными прическами (если мы, конечно, не ошибаемся: на правом умбоне большие потертости). Единственное разумное объяснение этому феномену – они от разных дверей.
Третья и последняя группа умбонов – круглые «умбоны перекрестий» – с четырьмя отверстиями на четыре стороны и четырьмя крестообразно расположенными «лапками». Эти умбоны встречаются только внутри решеток переплета. Умбонов перекрестий должно быть восемь, по четыре на створу (место «пятого» занимает маска химеры в центре каждой створы). Однако в действительности их – девять. Девятый, XIV в., употреблен в качестве замены в неподобающем месте – в центре верхней перекладины правой створы. На нем изображен Вседержитель. Последнее означает, что он – из деисусной композиции. Он в идеальном состоянии, но две его верхних лапки специально обломаны, чтобы не вредить расположенной выше композиции Рождества Богородицы и Моления Иоакима. Вверху полусферы умбона отверстие: надставлявшие васильевские двери мастера от осевого вертикального разделительного валика, как известно, отказались. Этот умбон не может быть сочтен, однако, «лишним», его место – ярусом ниже, в деисусах. Лишний – один из оставшихся четырех умбонов верхней половины дверей. Это – или один из отцов церкви: Василий Великий, Григорий Богослов или Николай Чудотворец (все трое – ХVI в.), или – евангелист Матфей ХVI в. Отцы церкви самой природой предназначены на роль центральных фигур символических композиций (как это видим на южных дверях собора Рождества Богородицы в Суздале XIII в.), евангелист же Матфей – не епископ и не святитель. Его с большим правом можно счесть лишним. Тем более, что он, весьма вероятно, занял место Вседержителя, «поднявшегося» на решетку выше (время изготовления умбона с евангелистом решающей роли не играет, поскольку это может быть «замена»). А потому остановимся на этом гипотетическом варианте. Т.о., златописных дверей с круглыми умбонами III группы было, как минимум, двое: Васильевские со Вседержителем и повторяющие их во всем двери XVI в. с Матфеем.
Итак, в какой-то момент своей истории Новгородская София имела несколько златописных дверей того же типа, что и Васильевские врата: трое дверей основного храма и двое-трое-четверо дверей придельных. В пользу этого предположения говорит множество разнотипных умбонов, которыми в полном беспорядке снабжены сейчас Васильевские двери. Большая часть соборных дверей была построена в XIV в. при архиепископе Василии Калике и его преемниках и одни двери, как минимум, – в XVI в. – по образцу первых. Особые златописные двери позднего типа, с полуциркульным верхом, окаймленные плоским ленточным бордюром, были сооружены во второй половине ХVI в. в южный придел Рождества Богородицы. У этих плоскостных врат не было ни трубок, ни умбонов. Появление полотен, обитых плоским кантом, говорит, с нашей точки зрения, о массовом переходе в церковном строительстве к конструкциям из полосового железа. Как было в данном случае, мы, конечно, не знаем. Большинство дверей памятника были прямоверхими, однако, одна или две пары дверей имели, подобно Рождественскому приделу, полуциркульное завершение. По верху дверей, под притолкой – писались или серафимы (Васильевские врата), или евангелисты. Ярусом ниже размещались малые деисусы, по два на одни двери. Об этом красноречиво говорят умбоны II и III групп. Два последних яруса верхней половины дверей занимали отцы церкви и патрональные святые заказчиков. Большего о символике и расположении умбонов данной сюиты златописных дверей сказать невозможно.
Настоящие Васильевские врата собраны из четырех пар древних златописных дверей Софии Новгородской:
– из перемонтированных собственно Васильевских врат (21 пластина и большая часть умбонов ХIV в., – полувалики не рассматриваем);
– из дверей ХIV в. «с евангелистами» одна пластина с притчами и некоторое кличество умбонов;
– из двух пластин и 4-х умбонов неких златописных дверей XVI в;
– из полуциркульного верха от дверей в придел Рождества Богородицы второй половины XVI в.
Калейдоскопичность Васильевских врат, т.о., очевидна. Вопреки распространенному мнению, Васильевские двери – не плод осмысленной, глубоко продуманной реконструкции (типа макарьевских преобразований), а, скорее всего, незапланированный результат некоего текущего ремонта, реконструкция с элементами случайности. Среди пестрого набора «чужих» умбонов нет ни одного, который мог бы быть сочтен сделанным «на заказ» для восполнения потерянного или испорченного, кроме умбона с Лавром, справа от утраченной дверной ручки. Все прочие умбоны явно вторичного использования, не был заказан и полуциркульный дверной верх. Он взят по случаю от других дверей тут же в Софии. В Васильевских дверях противоречиво соединились полотна двух дверей Софийского собора – главных западных и дверей придела Рождества. Кто и по какому случаю собирал Васильевские двери – вопрос. Двери собирались мастеровыми под надзором соборного причта, который искал лучших с точки зрения церковного благолепия и все же – импровизационных решений. Только причт мог сделать грубую, но «осмысленную» вставку в замечательный древний нащельник, вместо того, чтобы переписать часть нащельника заново. Поводом для перестройки и перемонтировки дверей могла стать реконструкция главного западного портала собора, устройство в нем арочного верха. В процессе этой реконструкции сделался необходимым общий ремонт полотен. Наращивание полотен потребовало нарастить и нащельник. Так родилась идея вставки листа меди с двумя малыми соборными праздниками – Гурия, Самона и Авива и Усекновения главы Иоанна Предтечи в темнице. Однако, между этим листом и полуциркульным верхом – ощутимая «вкусовая» дистанция. Слишком различны эти элементы с точки зрения культуры исполнения, тщательности, если угодно. Полуциркульный верх – паяный, а лист нащельника прибит плотницкими гвоздями. При этом менялись также двери и в приделе Рождества. Произойти этот крупный соборный ремонт мог при архиепископе Пимене в 60-е гг. ХVI в. Таким образом, Васильевские двери в их окончательном виде могли быть смонтированы накануне новгородского похода.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. «В лето 6844... в то же лето боголюбивый архиепископ Василии святую Софею тыном отыни, а у святой Софеи двери мядяны золочены устрой...» НПЛ, 1950, С. 347). Исчерпывающее каталожное описание Васильевских дверей (в том числе текст вкладной) см.: Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI-XV вв. Под ред. И.А. Стерлиговой, М., 1996, Кат. № 76, С. 297-321. Вкладная – С. 309.
2. Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., 1925., С. 91.
3. Аверинцев С.С. «София-Логос. Словарь», изд. 2-е, Киев, 2001, С.221-250, «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской». Однако, вопрос о том, чем была храмовая икона Софийских соборов в домонгольской Руси остается открытым. С н. т. зр. для роли храмового образа Софийского собора очень подошла бы домонгольская икона типа Великой Панагии из Ярославля, датируемая обычно временем сооружения первого Спасского собора, в котором она была найдена (пер.тр. ХIII в.). Второе название Великой Панагии – Оранта.
4. Растерянность исследователей перед загадкой посвящения Васильевских врат исчерпывающе отразил в своей монографической статье В.Н. Лазарев (Лазарев В.Н. «Васильевские врата 1336 г.». Русская средневековая живопись. М., 1970, С. 179-216.)
5. Первопричинами этого, поистине всеобщего заблуждения являются: изображение на нащельнике Васильевских дверей святых Гурия, Самона и Авива, чей придел некогда располагался в юго-восточной части собора (значит, умозаключил еще архим. Леонид, перед нами южные двери Софийского собора: Леонид, архим., Историческое и археологическое описание первоклассного Успенского женского монастыря в городе Александрове (Владимирской губернии), СПб, 1884, С.92) и – неожиданное упоминание в составленной в XVI в. III Новгородской летописи медных золоченых дверей «у притвора церковного» (ПСРЛ, 1841, т. III, С.225). Последнее привело ученых в замешательство. К каким из дверей Василия Калики относить это упоминание, разумеется, большой вопрос. Если это те же – «единственные» – двери, что упоминаются в Первой новгородской летописи, то вопрос этот, по крайней мере, уместен. Если дверей было в действительности больше, он – снимается. В настоящей статье делается попытка доказать, что златописных дверей было несколько.
6. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода..., «Западные двери новгородского Софийского собора. «Корсунские», «Сиггунские», «Магдебургские» или «Плоцкие», Кат. № 64, С.258-266.
7. Лазарев В.Н., указ, соч., С.189. Ученый, как можно его понять, склоняется к принятию восьмиярусной схемы. Т.В. Николаева, напротив, избирает семиярусную. (Николаева Т.Е., «Прикладное искусство Московской Руси», М., 1976, С.58-60). Г.Н. Бочаров считает, что «первоначально двери были восьмичастными и имели 32 пластины» (Бочаров Г.Н. К реконструкции первоначального облика Васильевских дверей 1336 г. В сб. Александровская Слобода. Владимир, 1995 г., Схема № 1, С.119, 120) Авторы «Декоративно-прикладного искусства Великого Новгорода...» (под ред. И.А.Стерлиговой) принимают вариант Т.В.Николаевой (Указ. соч. С. 299)
8. Лазарев В.Н.. указ. соч., С. 190.
9. Архим. Леонид простодушно посчитал, что мастер, сделавший двери, был прихожанином новгородской церкви Св. Ипатия на Рогатице, что это «знак уважения» и пр. (Леонид, архим., указ. соч. С. 93, примеч.1)
10. На чертежах реконструкции (Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода..., С.299) исследователи почему-то сдвигают маски с кольцами к краю створ, как это сделано на византийских Корсунских вратах Софии Новгородской, запиравшихся висячим наружным замком с «цепочкой» («цепочка» из двух встречных колец, по одному кольцу на маску, сохранилась). У Васильевских же врат (30-е годы XIV в. все-таки!) уже вполне мог быть внутренний пружинный замок. Этот замок мог быть врезан позади пластины с Сошествием Св. Духа, впоследствии замененной.
11. Вопросы реконструкции боковых Корсунских дверей Софии Новгородской (известных как «Тверские врата» Александровой Слободы) рассмотрены нами в специальной статье: Кавельмахер В.В. Бронзовые двери византийской работы из Новгородского Софийского собора в Александровой Слободе. Еще раз о происхождении Тверских врат. – В сб. Зубовские чтения, вып. первый, Владимир, 2002 г., С.58-77. Размеры Тверских врат (как и Корсунских новгородских) указаны на С.67: приблизительно 250х150см.
12. В отличие от умбонов с розеттами, датировать которые мы, в отличие от В.Н.Лазарева, не беремся (Лазарев все умбоны нижней зоны отнес к XVI в.), умбоны с полуфигурами святых верхней половины дверей легко датируются. Эти умбоны, как впрочем и пластины, исписаны при полном тождестве примененных при этом технологий, двумя манерами и датируются, соответственно, двумя веками: 22 умбона – ХIV веком и 4 умбона – XVI-м. Различие тех и других заключается в живописных эффектах. XIV век пишет энергичной «толстой» кистью – золотом по черному лаковому фону, пишет огромные глаза в кругах и напоминающие паклю или солому волосы, перья-ассисты и т.п. XVI век, напротив, работает, подобно художникам Нового Времени, как бы «тушью» по золотому фону, пишет тонкой, черной, летящей кистью, более обозначая, чем прописывая, – складки одежды, глазки, кудри... И никогда не пишет ассистов! В результате пластины и умбоны XVI века буквально «залиты золотом», пластины же XIV, наоборот, – иссиня черные. Никаких трудностей для исследователя в распознании века в датировках отдельных элементов Васильевских врат нет. Единственное исключение – это Предтеча Крылатый на нащельнике – третья крупномасштабная фигура Васильевских врат. Предтеча написан в XVI в., на вставном листе XVI века, в манере XIV-го, но очень грубо. Это, по-видимому, неудачная стилизация макарьевского или пименовского времени. Предтече, как ангелу царя, намеренно придан масштаб Вседержителя и Оранты-Премудрости. Тут же, на одном листе с Предтечею, типичные, залитые золотом полуутраченные изящно-сухие «графические» фигуры Гурия, Самона и Авива XVI в. и полоса орнамента той же манеры и стиля, что и коруна полуциркульного завершения врат.
13. См. сноску 5.
14. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода..., Кат. № 75, С.295-297.
15. Указ, соч.: Кат. № 77, С.321-326; Кат. № 78, С.327-328; Кат. № 79, С.328; Кат. № 80, С.329-330.
Ранее опубликовано в кн.: Зубовские чтения. Вып. 2. Струнино, 2004. С. 139-152.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАММА
архитектурно-археологических исследований,
ремонтно-реставрационных работ и музеефикации
памятников архитектуры ХVI–ХVIII вв.
Успенского монастыря в г. Александрове
Владимирской области (б. Александрова Слобода)
I
Историческая, художественно-культурная значимость и уникальность ансамбля
Успенский монастырь в г. Александрове основан в середине XVII в. на развалинах загородной резиденции великих князей и царей XVI–первой половины ХVII вв. – Государева двора в Александровой Слободе. До 80-х гг. XVII в. монастырь занимал меньшую часть Государева двора, однако, с этого времени был распространен на всю остальную его территорию. Перед польско-литовской интервенцией Государев двор представлял собой обширный укрепленный феодальный замок – с облицованными кирпичом стенами деревоземляной конструкции, валами, рвами, тремя большими каменными палатами в центре крепости, четырьмя дворцовыми церквями и множеством каменных и деревянных жилых и хозяйственных построек, соединенных между собой деревянными переходами. Дворец был построен «на сенях» (на подклетах) и представлял собою уменьшенную модель Большого Кремлевского дворца в Москве – с двумя «линиями» палат и хором – с вынесенными между ними большими церемониальными палатами, канцеляриями («дьячими» избами) и пр. Самая большая церковь дворца – Покровская – была соборной, две церкви средних размеров – Троицкая и Успенская – домовыми, а столпообразная церковь «под колоколы» Алексея митрополита служила для отпевания умерших. Из всех зданий ансамбля по источникам датируется 1513 годом только Покровская церковь. Однако, характер источника (в нем упоминается законченным весь Государев двор) позволяет предполагать, что Покровская церковь была в тот момент не единственной. В связи с этим в последние годы было высказано предположение о единовременном создании всего ансамбля. При учреждении на территории Государева двора монастыря его крепостные укрепления и постройки светского назначения (палаты) были срыты, а их материал использован в новом строительстве. Уцелели от разрушения только четыре упомянутых церкви и – при них или «в связке» с ними – шесть богато украшенных малых палат или «комнат» различного бытового назначения. Эти случайно уцелевшие здания позволяют судить о качестве остальных, утраченных сооружений. Архитектура четырех сохранившихся церквей демонстрирует редкое в практике древнерусского строительства стилистическое единство: их фасады обработаны кирпичными «впадинами» с тонко прописанными швами, сформированный на ордерной основе архитектонический декор выполнен из белого камня, плоскостные фряжские порталы богато орнаментированы, строительный материал (включая связное железо) – однороден, профили и обломы архитектурных членений – идентичны. После завершения строительства кладка стен длительное время (до 50-ти и более лет) оставалась открытой. В основе колористического решения целого архитектурного комплекса лежало, таким образом, сочетание красного кирпича и натурального белого камня. Обилие кирпичных вставок и кирпичных закомар и барабанов делало ансамбль Государева двора красным или «кирпичным». Западноевропейский характер александровского ансамбля и его датировка не вызывает, таким образом, сомнений.
На протяжении своей истории ансамбль Государева двора перестраивался дважды. В первый раз – в годы опричнины (60–70-е гг. ХVI в.) и второй – в 60–80-е гг. ХVII в., при превращении его в монастырь. Главным событием первой строительной эпохи стала перестройка подколоколенной церкви, превращенной посредством надстройки во всем известный шестидесятиметровый шатровый столп с часовым механизмом в звонах под шатром. В монастырский период были одна за другой построены две трапезных палаты (трапезными церквами при них стали перестроенные Успенская и Троицкая церкви), огромной длины глаголеобразный келейный корпус и большой протяженности монастырская стена с башнями и надвратной церковью Федора Стратилата над Святыми воротами. В 30-е гг. ХVIII в. в монастыре были построены больничная Сергиевская церковь над усыпальницей великих княжен и больничные при ней палаты.
Проведенные музеем-заповедником «Александровская Слобода» в последние годы архитектурно-археологические исследования позволяют дать памятникам Успенского монастыря следующую историко-архитектурную и художественную оценку.
Наибольшей ценностью среди зданий ансамбля обладает соборная Покровская церковь (в настоящее время – Троицкая) – одно из самых монументальных сооружений своего времени. Здание Покровского собора представляет собой увеличенную итальянизированную копию храма-усыпальницы Сергия Радонежского – Троицкого собора соседнего с Александровой Слободой Троице-Сергиева монастыря. В его ордерную декорацию насильственно включены орнаментальные мотивы монастырского собора первой четверти ХV в. Подобно московским кремлевским соборам, храм выстроен итальянскими мастерами – неизвестным нам архитектором и резчиками по камню. Замечательной особенностью памятника остается встроенная в его объемы расположенная между двумя фланкирующими палатами большая парадная лестница великокняжеского дворца. Покровский собор – древнейшее из дошедших до нас зданий московской архитектуры, построенное с вынесенными наружу в виде отдельных церковных объемов приделами. Расположенный в дьяконнике Никольский придел «выведен» на южную сторону собора в виде приставленной к стене дьяконника, имитирующей малую церковь трехстенной декорации с крохотной алтарной экседрой и приложенной к соборной закомаре главой. Уникальными, крупномасштабными элементами памятника были ныне утраченные громадные крыльца с каменными полуциркульными тимпанами против южного и северного входов в собор. Круглые колонны папертей и крылец некогда несли тесовую кровлю, часть кровли над западной дворцовой лестницей была устроена по кружалам. Собор сохранил фресковую роспись третьей четверти XVI в., а западная паперть – первоначальную (кирпичную) фактуру центрального соборного прясла. Размеры здания, его статус, дата постройки, круг мастеров и качество отделки позволяют поставить Покровский собор в один ряд с памятниками архитектуры Московского Кремля последней четверти ХV–начала ХVI вв. Им завершилась 30-летняя эпопея великокняжеского дворцового строительства в Москве, а его обильная, высочайшей сохранности, орнаментальная резьба заканчивает линию развития ренессансной архитектурной орнаментики, начатую в 80-е гг. ХV в. кремлевскими мастерами. Покровский собор – шедевр русского национального зодчества того же качества и масштаба, что и кремлевские соборы.
Уникальным памятником архитектуры ХVI в. является домовая шатровая Троицкая церковь-капелла на погребах и подклетах, бывшая до своей передачи в Успенский монастырь композиционным центром жилой, хоромной, деревянной части дворца. Ее паперти и крыльца, в отличие от других церквей, были деревянными. Церковь стояла во дворце на половине великого князя. Памятник имеет необычную конфигурацию. Его церковный четверик деформирован встроенной в алтари казенной палатой (казнохранилищем). Он неправильных вытянутых пропорций, восточная стена отсутствует, ее заменяют три открытые в церковь алтарные экседры. Восьмигранный, низко висящий, «приземистый» шатер основан на сложной переходной конструкции, в русской архитектуре больше нигде не встречающейся. Фигура шатра напоминает «небо» деревянных церквей русского Севера. Шатер сохранил свою относящуюся к 60–70-м гг. XVI в. роспись. Подклеты под церковью и казнохранилищем представляют собой редкий тип теплых «жилых» подклетов, перекрытых сводами «монастырского» типа, с профилированными импостами под распалубками и резными орнаментированными розетками в щелыгах. Один из сводов расписан кирпичным паркетом по левкасу. Подклеты Троицкой церкви, как и палата в алтарях, служили для хранения великокняжеской казны. На северо-восточном углу церкви располагался редкой конфигурации теплый придел Федора Стратилата в виде двух папертных компартиментов, с заложенными простенками, крестовыми сводами и без алтарной экседры. Западный портал Троицкой церкви имел изваянное из большемерного красного кирпича и белого камня оригинальное навершие в форме перевитого жгутом сноповидного вала с покрытыми растительном орнаментами валиками и окончаниями в виде белокаменных моллюсков. В 1680 г. Троицкая церковь была перестроена каменных дел подмастерьем Никитою Корольковым, обращена в трапезную монастырскую церковь и переосвящена в Покровскую.
Троицкая церковь Александровой Слободы – один из ранних примеров каменной церкви «на деревянное дело» в московском зодчестве. У нее щипцовые порталы, далеко вынесенные с громадными полицами карнизы, острого силуэта фальшивый восьмерик и прямоблочные оконные перемычки. Отдельные узлы и детали храма, включая конструкцию основания шатра, были использованы Бармой «с товарищи» при сооружении Покровского собора на Рву в Москве.
Домовой церковью женской половины александровского дворца была расположенная напротив Троицкой крестовокупольная Успенская церковь. Церковь была перестроена и обращена в трапезную в 1666–1667 гг. До своей перестройки это был окруженный высокими каменными двухъярусными папертями миниатюрный, с барабаном на повышенных подпружных арках, четырехстолпный одноглавый храм, на погребах и подклетах. Существует предположение, что арки второго яруса папертей завершались, подобно аркам папертей Покровского собора в Суздале, закомарами. На дворцовую принадлежность Успенской церкви, помимо ее пропорционального совершенства, двухъярусной ордерной декорации основного объема (сильно обгоревшей в один из пожаров), рельефной растительной резьбы порталов и пр., указывает наличие некогда открытой (типа гульбища) паперти с ее восточной стороны и следы каменных переходов – с северной. За исключением этих таинственных для нас «переходов», никаких каменных крылец ни с одной из сторон храма пока не обнаружено. До 60-х гг. ХVII в. напротив переходов, возле северной стены храма, существовал оригинальной архитектуры Никольский придел, не имевший, как и придел домовой Троицкой церкви, церковного четверика, но, в отличие от последнего, с большой полуциркульной апсидой. Четверик заменяли два перекрытых крестовыми сводами папертных компартимента. Не исключено, что, как и придел Федора Стратилата на половине великого князя, Никольский придел был теплым. Белокаменные подклеты Успенской церкви хранят относящуюся к XVI в. замечательную коллекцию граффити. Успенская церковь на женской половине дворца – современница другой, не дошедшей до нас дворцовой церкви великой княгини Соломонии – Рождества Богородицы в Московском Кремле 1514–1517 гг.
Среди подколоколенных сооружений Московской Руси Распятская колокольня Успенского монастыря не имеет себе равных. Распятская колокольня – колоссальный восьмигранный шатровый столп, окруженный по периметру гипертрофированной высоты двухъярусными папертями, с четырехстолпной звонницей-ризалитом против его юго-западного угла (разобрана в начале ХVIII в.), призмообразной 4-х ярусной ризничной палаткой под церковной главой в месте их стыка и крохотной столпообразной церковкой-капеллой внутри. Необычная форма Распятской колокольни – результат ее сложной строительной истории: в теле существующего столпа сохранилась почти в нетронутом виде первое подколоколенное сооружение Слободы – увенчанная некогда огромным граненым куполом (разобран при перестройке) небольшая октафолийная столпообразная церковь Алексея митрополита с четырехстолпной же обращенной к собору звонницей и обходной галереей-лоджией по второму ярусу. Датировка первой подколоколенной церкви Слободы 1513 годом – вне сомнения.
Типологическая уникальность Распятской колокольни заключается в том, что под ее шпилеобразном шатром находились не благовестные колокола, а часовой механизм с часовыми колоколами. Это – первая и единственная в русской истории церковь-часобитня со значением подколоколенной церкви, и одновременно – предшественница часобитни Спасской башни Московского Кремля. Шатер Распятской колокольни – древнейший из дошедших до нас утилитарных (не церковных) русских шатров. Замечательным памятником монашеского быта начала XVIII в. является пристроенная к Распятской колокольне Марфина палата. Из памятников монастырского периода наибольшей ценностью обладает огромной протяженности келейный корпус начала 80-х гг. XVII в. с каменными сенями и засеньями, остатками печей, ретирадами, остатками подлинных деревянных конструкций. Особого внимания в нем заслуживают 11 настоятельских келий с 9-ю резными с обронными надписями замковыми розетками в сводах, явно скопированных с замковых розеток разрушенного дворца, а также кельи ссыльной сестры Петра I царевны Марфы. Содержание надписей (обращенные к царю Федору Алексеевичу молитвословия) позволяют предполагать, что «настоятельские кельи» ыли, в действительности, – гостевыми. Так это или нет, но коллекция розеток александровских келий – единственная в мире.
Значительным памятником русского зодчества третьей четверти XVII в. является монастырская стена с надвратной церковью Федора Стратилата и пристенными служебными кельями изнутри монастыря. Стена была возведена духовником монастыря преподобным Корнилием и имеет наклон наружу почти на всем ее протяжении. По-видимому, Корнилий не рассчитал фундаменты.
На территории Успенского монастыря (а до него – Государева двора) было несколько каменных шатровых колодцев, один из которых сохранился до наших дней. Второй – древнейший – колодец оказался на линии возводимой Корнилием монастырской стены и был обведен специальным «захабом». Раскопки этого каменного колодца могут дать интересные результаты.
Несмотря на свое церковное назначение, четыре вышеописанных памятника – суть памятники русской дворцовой архитектуры, чудом сохранившиеся до наших дней. Это части цельного, построенного по единому плану, дворцового комплекса. Формы и силуэты двух бесстолпных церквей ансамбля – шатровой и купольной, – не имеют себе подобных в предшествующей архитектуре. Место памятника в истории русской культуры – сразу после Большого Кремлевского дворца в Москве. Проблемы его сохранности и музеефикации в стенах Успенского монастыря второй половины XVII в. составляют первоочередную задачу Министерства культуры РФ и Александровского музея-заповедника.
Ансамбль Государева двора в Александровой свободе – памятник русско-итальянских культурных связей, единственный, сохранивший свою планировочную целостность, стилистически единый, древний светский ансамбль на Руси. Его историческая, культурная и художественная ценность не вызывает сомнений. В качестве такового нуждается в изучении и дальнейшей музеефикации. Место памятника в истории русской культуры сразу после Большого Кремлевского дворца в Москве.
II
Состояние памятников, проблемы их содержания, изучения и реставрации
Реставрация памятников Успенского монастыря началась в годы Отечественной войны и продолжается с перерывами вплоть до настоящего времени. Сейчас в процессе реставрации находятся келейный корпус и деревянный настоятельский дом в центре ограды. За исключением этих двух зданий, реставрация выдающегося архитектурного ансамбля в общих чертах завершена. Никогда не реставрировались только миниатюрный каменный Святой колодец возле дома настоятельницы и деревянный каретный сарай XIХ в. у восточной стены монастыря. Если не принимать во внимание изначально (с 80-х гг. ХVII в.) аварийное состояние монастырской стены (ее почти на всем ее протяжении поддерживают контрфорсы), качество реставрационных работ следует признать отвечающим всем предъявляемым в таких случаях требованиям. Поддерживать фиксированное состояние монастырской стены с помощью контрфорсов можно еще не одно столетие. В истории мировой архитектуры есть много тому примеров. Единственная совершенная реставраторами за истекшие 50 лет «историческая» ошибка заключалась в частичном отказе от классической системы водосброса ХIХ–ХХ вв. (через водосточные трубы), с частичном же переходом к сбрасыванию воды на землю посредством усиленного выноса стилизованных вальмовых кровель, то есть с возвращением к эстетически привлекательной средневековой системе в ущерб практической стороне дела. Жертвами этой ошибочной реставрационной концепции стали многочисленные памятники древнерусского зодчества буквально по всей стране (за исключением памятников архитектуры московского Кремля, где заказчик – комендатура – неизменно строго контролировал архитекторов) – а также частичная замена «нормального» кровельного материала (черное железо, оцинкованная сталь) на дорогое медное покрытие без окраски. В те же годы по ряду причин не была завершена вертикальная планировка громадной монастырской территории, – при том, что реставраторами был с самого начала взят курс на восстановление каждого памятника в отдельности на его дневной отметке!
Несмотря на то, что на протяжении указанных 50-ти лет никакой утвержденной, апробированной «единой концепции реставрации памятников архитектуры монастырского ансамбля» не существовало (как не существует до сего дня общего комплексного проекта реставрации памятников Успенского монастыря), интуитивно взятый первыми реставраторами (П.Д.Барановским, П.С.Полонским и Н.В.Сибиряковым) курс на частичное (фрагментарное) восстановление древней архитектуры при непременном сохранении облика памятника в том виде, в каком он дошел до нас от ХVII–ХIX вв., – следует признать верным и в полной мере отвечающим принятым во всем мире реставрационным принципам. Здания Успенского монастыря реставрировались, – каждое, – как памятник архитектуры своего времени, с элементами приспособления к музейным нуждам. Каждый из авторов стремился к ограниченной демонстрации первоначальной архитектуры памятника, сохраняя все поздние наслоения. Частичное восстановление древних форм производилось, как правило, с наименее важной стороны, со стороны заднего двора или монастырской стены. Вся выполненная реставрация была продуманной и глубоко научной, отличалась бережным отношением к подлиннику.
К сожалению, выработанные нашими предшественниками принципы содержания памятников не были оформлены в виде какого-либо документа, инструкции, устава и пр., и обладающие определенной свободой действия производители работ, не докладывая и не ставя никого в известность, едва ли не ежегодно самовольно ремонтируют, перебеливают и перекрашивают памятники.
С появлением в стенах музея женского Успенского монастыря завещанный нам принцип содержания памятников архитектуры все чаще и чаще нарушается. Работы на отошедшей под монастырь территории ведутся исключительно хозяйственным способом, без архнадзора. Так, с окон верхнего света собора были самовольно сняты подлинные железные ставни, в том числе относящиеся к началу ХVI в. При прокладке коммуникаций археологические наблюдения не ведутся, заявки на них со стороны монастыря не делаются. Находящаяся под монастырем территория постепенно превращается в объект хозяйственной деятельности, утрачивая свой исторический колорит. Вблизи Покровского собора появился современный киоск для продажи церковной литературы. Полным ходом под прикрытием реставрационных работ идет модернизация монастырских келий. Последнее выражается в замене «исторических» материалов и конструкций на современные, с целью обеспечить житейский комфорт монашествующим. Справедливость требует отметить, что в свое время столь же беспощадной модернизации по вине прежнего музейного начальства подверглась Распятская колокольня: ее каменные многомаршевые лестницы были в целях удобства эксплуатации облицованы сплошь пиленым известняком, в кладку стен врублена в невероятном количестве ненужная колокольне электропроводка, а церковный купол во избежание теплопотери при отоплении был отрезан от храма низким деревянным куполом. Интерьер памятника был этим полностью уничтожен. Сейчас наибольшей угрозе подвергаются монастырский собор и уже упомянутый келейный корпус – памятники (см. ниже) едва ли не бесценные. В соборе стены и даже фрагменты созданных мастерами итальянского Возрождения порталов окрашиваются маслом.
Несмотря на перечисленные недостатки, состояние отреставрированных памятников и их содержание следует признать удовлетворительным. Произвольный характер носят только ежегодные побелки. Не имея представления о том, какие идеи вкладывали в свои работы первые реставраторы, прорабы производственного участка занимаются произвольными обмазками и побелками, забеливая то, что было в свое время открыто для музейной демонстрации. Дает себя знать отсутствие единого проекта или концепции реставрации, закрепленной в письменной форме. Реставрационную дисциплину на объектах музея следует усилить. Вторая опасность заключена в двойном использовании памятников ансамбля. До возобновления три года назад женского монастыря общая направленность реставрационных работ в исторических формах по возможности соблюдалась. Сегодня доступ во многие здания для работников музея закрыт. В вопросах реставрационного ремонта монастырь проводит свою собственную, автономную от госкультуры, политику. Если реставрационные работы в 1940–60-е гг. хоть и велись по отдельным проектам, «по месту», но при очень качественном архнадзоре и сопровождались первоклассными исследованиями, то сейчас просто необходим какой-то «устав» музея, какие-то обязательства музейного пользования. Участников эксплуатационного процесса следует связать письменными обязательствами и предписаниями. В первую очередь это касается монастырских властей и реставрационного участка. Текущие ремонты тоже не могут быть отданы на откуп прорабам или не аттестованным рабочим.
Начавшиеся еще в предвоенный период исследования памятников архитектуры Успенского монастыря последние десять лет носят систематический характер. Материалы исследований оформляются и передаются в музей, выводы публикуются. Лучше исследованы, как это обычно бывает, нижние части памятников. Верхние, требующие для доступа к ним специальных лесов, – чердаки, шатры, главы, – все еще обследованы недостаточно. В процессе исследований производятся расчистки и зондажи (ограниченно). Время от времени в монастыре производятся археологические раскопки. До последних лет археологические исследования на территории монастыря велись бессистемно. В настоящее время создана комплексная программа таких исследований. Основное – суммарное – направление архитектурных и археологических исследований – теоретическая реконструкция древних памятников Государева двора, создание на основе раскопок и зондажей музейного лапидария. В 1996 г. музей намеревается приступить к созданию (на основе полученных к настоящему моменту данных) макета Государева двора и его памятников для будущего их экспонирования в архитектурном разделе экспозиции.
Одним из результатов проводимых музеем архитектурно-археологических исследований стало введение в научный оборот новой архитектурной датировки ансамбля Государева двора и переатрибутирование большинства памятников.
Таким образом, несмотря на систематические усилия музейной администрации и органов охраны памятников, содержание самих памятников нельзя считать вполне удовлетворительным в отношении вертикальной планировки всей территории (унаследованной от 40–60-х гг.) и в отношении культуры эксплуатации кровель (а значит, и самих зданий). Последнее – результат как ошибочных концепций отечественной реставрационной науки («возвращение памятникам архитектуры их первоначального вида», откуда – переход к эстетически привлекательной средневековой системе водосброса и пр.), так и полного падения бытовой культуры в стране. Не счищается снег с крыш, не прочищаются водометы, не закрепляются конструктивно свесы кровель, не строятся слуховые окошки, на кровли не кладутся трапы. В процессе перестилки кровель черное железо не олифят. Что касается вертикальной планировки, то она была в свое время выполнена только непосредственно у стен четырех древних зданий – Покровской, Троицкой и Успенской церквей и Распятской колокольни. В результате все они вот уже несколько десятков лет стоят в кюветах, собирая к своим стенам влагу. Выброшенная при обкопе Успенской церкви земля так и осталась на бруствере.
В связи со сказанным должны быть выполнены следующие долгосрочные мероприятия:
– постепенная реконструкция кровельного покрытия на всех памятниках, параллельно с организацией специальной службы по надзору за кровлями, уборкой снега с крыш, прочисткой водометов. Вот первая и основная задача, стоящая перед администрацией, по сохранению, реставрации и музеефикации комплекса. За основу должна быть взята технология содержания кровель XIХ в. Выполненные ранее стилизованные вальмовые кровли в формах ХVII в. допустимо сохранить, однако, при будущей их перестилке придется снабдить их водосборниками и трубами, поскольку падающая при большом кровельном свесе обильная вода все же разбрызгивается об отмостку (в древности отмосток не было!) и мочит цоколи зданий. При организации благополучных водосбросов музей получит возможность демонстрировать местами древнюю фактуру зданий, производить расчистку архитектурных деталей, не опасаясь за их сохранность. Сегодня систематические побелки служат единственной гарантией сохранения кладки, однако, побелки искажают формы и пластику никогда не белившихся в прошлом зданий! Ежегодная побелка Покровского собора (ныне Троицкий) на половине монастыря ведет к опошлению выстроенного итальянским мастером памятника, портит вкус;
– вторая «сверхзадача» музея – сплошная (а не «местами») вертикальная планировка всей территории, по проекту, на основе археологического изучения всей территории ансамбля. Эта работа требует многолетней подготовки, изучения всей топографии местности, но ее, весьма вероятно, можно выполнять частями (хотя это и нежелательно в принципе). Выбросы земли с южной стороны Успенской церкви достигают трех метров! Сложность задачи заключается в том, что половина зданий ансамбля возведены в концу ХVII в., то есть уже на другой, нежели древние четыре здания, отметке, и она равно неприкосновенна. По территории Успенского монастыря проходит трасса первой стены Государева двора, всего в нескольких метрах, как это случайно выяснилось, от собора. Сохранение этих археологических памятников, изучение их – требует от проекта серьезной проработки;
– перед реставраторами стоит также ряд инженерных задач, связанных с просадками фундаментов, трещинами в конструкциях, подсосами (последнее требует изучения грунтов). К счастью или несчастью, все эти неприятности происходят с памятниками ХVII–ХIХ вв. Для их устранения необходимо инженерно-геологическое изучение ансамбля.
III
Программа ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры Александровой Слободы (Успенский монастырь в г. Александрове)
Собственно реставрационная программа для памятников архитектуры Успенского монастыря (какой она сложилась де-факто в предыдущие десятилетия), не нуждается ни в новой разработке, ни в серьезной корректировке, но – в письменном и графическом закреплении. В противном случае имеющий сейчас место при текущих ремонтах произвол примет необратимый характер (особенно при наличие второго пользователя, склонного к автономным действиям). После освещения общих вопросов содержания памятников архитектуры (гл. II). Обратимся к конкретной программе неспешной музеефикации самих памятников – посредством их частичного и деликатного раскрытия. После фактической конфискации иконостасов и церковной утвари, произведенной центральными музеями в послевоенные годы (это сотни богослужебных предметов, икон и книг, вывезенных во Владимир и Москву), – единственными по-настоящему выдающимися экспонатами Александровского музея остаются сами здания ансамбля. Сегодня, когда их строительная история в огромной степени прочитана, а первоначальный облик становится, так или иначе, ясен, появляется необходимость в наглядной пропаганде всего заново открытого – всеми доступными способами: посредством научных публикаций, изданием художественных альбомов, печатных проспектов, сооружением макета Государева двора и его отдельных памятников для музейной экспозиции, и, в первую очередь, – посредством раскрытия самих памятников. Опыт в этом направлении уже имел место: архитектором П.С.Полонским в годы войны была осуществлена двухцветная окраска (неудачная) фасадов Покровского (Троицкого) собора, архитектором П.Д.Барановским был раскрыт столб юго-восточной паперти, архитектором Н.В.Сибиряковым было осуществлено беспрецедентное раскрытие апсид Успенской церкви (апсиды Успенской церкви еще недавно, до побелки, представляли собой огромный натурный зондаж, быть может, единственный в России по качеству и достоинству, и при этом ни с какой стороны, за исключением востока, не бросающийся в глаза посетителю). Сибиряковым же была на две трети раскрыта древняя шатровая Троицкая церковь, также видимая только со стороны хозяйственного двора. Однако сохранить эти замечательные культурные объекты при недисциплинированности рабочей силы и слабом архнадзоре – не удалось.
Ниже излагается программа косметических, по сути своей, реставрационных работ с элементами частичной музеефикации – каждого из сохранившихся зданий Государева двора в отдельности, плюс замечательного памятника зодчества ХVII в. – келейного корпуса Успенского монастыря 1680 г.
1. Покровский (ныне Троицкий) собор.
Выдающийся памятник русского зодчества – Покровский собор – последние три года является главным храмом Успенского женского монастыря. Согласно заключенному между музеем и монастырем соглашению, доступ экскурсий и отдельных посетителей в него открыт. Покровский собор архитектурно никогда не реставрировался и сколько-нибудь серьезно не музеефицировался. Памятник пострадал в середине ХIX в.: были сломаны две придельные главы, три крыльца, часть паперти со столбами, его четверик получил новую кровлю – нечто среднее между позакомарным и купольным покрытием. Однако сменившая древнюю шлемовидную главу новая луковичная глава по металлическим журавцам может быть сочтена удачною. Несмотря на эти искажения, серьезная реставрация памятника в настоящее время нецелесообразна. Нет смысла даже поднимать вопрос о раскрытии от поздней фальшивой кровли могучего и пропорционального барабана – единственного древнерусского барабана, сохранившего целиком свой карниз (куполообразная кровля закрывает барабан на одну треть). Нет также смысла поднимать вопрос о понижении надложенных в том же ХIХ в. малых придельных алтарей и т.п. Но есть, быть может, смысл ставить вопрос о частичном раскрытии находящейся в превосходной сохранности под поздней побелкой фасадной росписи «под кирпич» – хотя бы одного из соборных прясел (желательно – придельного). Со всеми же остальными очень важными для культурной жизни памятника вопросами вполне можно повременить.
Настоятельного реставрационного вмешательства требует не столько соборная паперть, сколько ее интерьеры. Частичное воссоздание интерьеров южной и западной половины соборной паперти могло бы стать крупным событием для истории русской средневековой культуры, тем более, что на них выходят оба шедевра древнерусского прикладного искусства – медные Тверские и Васильевские врата. Однако данная инициатива, скорее всего не встретит понимания у монашествующих. И выходящие на паперти прясла собора, и белокаменные профилированные цоколи, и орнаментальные пояса, и кое-где сами порталы вместе с надпортальными фресками непрерывно красятся масляной краской – хозяйственным способом, без уведомления органов охраны и музейной администрации. Положительное отношение епархиальных и монастырских властей встречает только начатая много лет назад реставрация соборной живописи. Последнее, безусловно, похвально. Однако подобное разделение храмового живописного убранства на наружное и внутреннее не является безупречно грамотным: ведь малярная роспись папертей и фресковая живопись соборного интерьера имеют одну дату! Перед нами цельный в архитектурном и живописном отношении памятник, и решение его интерьеров должно быть цельным. Особенно возмутительно закрашивание маслом надпортальной фрески над Васильевскими вратами. И малярная живопись ограждающих конструкций, и храмовый интерьер должны реставрироваться только в ансамбле.
В целях частичной музеефикации выдающегося памятника русской архитектуры, живописи и прикладного искусства необходимо выполнить следующие архитектурные, живописные и исследовательские работы:
– произвести частичную реставрацию интерьеров западной и южной соборных папертей. Снять масляную окраску с соборных прясел и ограждающих парапетов с одной из круглых колонн – на выбор. Промыть руками художников-профессионалов целиком западное прясло с порталом и киотом фрагментом орнаментального пояса над ним. Очистить от масла стены выходящей на паперть малой палаты с консольной полуколонией. Существующий подливной потолок и закладки между ограждающими колоннами сохранить;
– промыть и укрепить фреску Покрова в западном надпортальном киоте;
– произвести расчистку закрашенной маслом надпортальной фрески Успения Богородицы над южным порталом и Васильевскими вратами;
– произвести с научно-исследовательскими целями зондаж полов на паперти и в соборе, зондаж всходной лестницы. В настоящее время полы папертей значительно подняты по сравнению с древней отметкой: в них «тонут» замечательные соборные порталы. Материал древних полов в паперти и соборе и алтарях – неизвестен;
– в научно-исследовательских целях произвести обмеры и исследования чердаков обеих расположенных на папертях палат. Здесь могут быть обнаружены остатки конструкций так называемых «папертных закомар», подобных закомарам Покровского собора в Суздале.
Снаружи здания:
– произвести расчистку хотя бы одного столба древнего ограждающего парапета, снять грубые кровельные обделки с парапета северной паперти. При первом же ремонте кровель удлинить их вальмовые свесы посредством навески металлических кобылок и тем окончательно снять вопрос о намокании парапетов. Считать расчистку соборных парапетов приоритетной целью будущей реставрации. После расчистки парапетов, в дальнейшем перейти к редкому профилактическому белению белокаменных кладок известковым молоком. При расчистке соборной архитектуры выветрившиеся швы чеканить известковым раствором;
– раскрыть раскраску «под кирпич» одного из придельных прясел;
– произвести раскопки южного и северного снесенных в ХIХ в. крылец исключительно с научными целями. Раскопки не экспонировать, ограничиться только их научной фиксацией, в зависимости от результатов этих раскопок предпринять поиски снесенного в том же веке западного крыльца;
– вернуть на место снятые монастырем металлические ставни после реставрации последних;
– окрасить ярью-медянкой луковицу;
– произвести обмеры и фотофиксацию белокаменных подклетов храма;
– результаты исследований Покровского собора опубликовать;
– по результатам этих исследований выполнить графическую реконструкцию и объемную модель памятника.
2) Шатровая Троицкая церковь (ныне Покровская).
Шатровая, на погребах и подклетах, домовая Троицкая церковь Государева двора была капитально перестроена в 1680 г. Никитою Корольковым и обращена во вторую монастырскую трапезную церковь (первая – при древней Успенской церкви). К церкви была пристроена двухстолпная палата, шатровая колокольня с часами, новый наружный придел Федора Стратилата с южной стороны (относящийся к ХVI в. старый северный придел был обращен в ризницу) и другие, главным образом деревянные, службы (не сохранились). В результате древнее здание оказалось полностью застроенным с двух сторон – западной и южной. Внутри церковного шатра был сооружен для удержания тепла второй низкий свод, закрывший собою его роспись. В процессе обстройки сильно пострадала архитектура церкви: почти все кокошники вокруг шатра и заалтарная казенная палата оказались разобранными, верхние части апсид разрушены, карнизы четверика на четверть выломаны, окна растесаны, порталы (частично) повреждены.
Концепция музеефикации Троицкой церкви была разработана и осуществлена в натуре архитектором Н.В.Сибиряковым в 60-е гг. нашего века. Сегодня это один из наиболее удачных примеров музеефикации памятника архитектуры вообще – при условии сохранения исторической обстройки. Воспользовавшись тем, что старое здание церкви было белокаменно-кирпичным и никогда не белилось, Сибиряков выделил древний объем памятника цветом: стены храма он покрасил краплаком, а белокаменный декор – выбелил. Кроме того, он понизил примыкавшие к стенам старой церкви почти с трех сторон высокие вальмовые кровли новой трапезной, алтарей и придела и тем самым «открыл» ее для зрителя. Непосредственно на самом памятнике им при этом был выполнен громадный объем чисто реставрационных работ: были восстановлены все кокошники, карнизы, растесанные окна и пр. Покрытый уникальной росписью шатер был им, однако, обшит снаружи деревянным лемехом: это был единственный способ уберечь фрески от гибели.
Аналогичным образом Сибиряковым были музеефицированы и интерьеры древнего храма. Были раскрыты от закладок древние алтарные полукружия (свод в основании шатра был разобран ранее), в которых также сохранились фрагменты древней живописи. Одно из алтарных полукружий (жертвенник) было им восстановлено вместе с выводящим на крыши сложной конфигурации алтарным окном. Два других оставлены в растеске. Под новой (ХIХ в.) солеей Сибиряковым были раскрыты древние керамические полы, остатки престола и остатки горнего места. Под храмом – освобождены от засыпки великолепные белокаменные погреба, последнее стало настоящей археологической сенсацией. Единственный упрек, который может быть предъявлен работе этого мастера, это – злоупотребление побелками по белому камню, резко огрубившими чеканную фактуру памятника, а также сплошная, без разлиновки, густая окраска кирпичных простенков. (Однако, вполне вероятно, что виноват в этом не сам Сибиряков, а отсутствие в музее на протяжении длительного времени регулярного архнадзора). Между тем, разлиновка кирпичной кладки по закрашенным поверхностям в точности соответствует принятой в Александровой Слободе в 70-е гг. ХVI в. технологии. Именно так был подписан после полувека существования Покровский собор 1513 г.
Исследованиями последних лет были уточнены первоначальные объемы древнего памятника и заново прочитана его строительная история. Были получены новые данные об архитектурном облике северного теплого придела Федора Стратилата, ранее неизвестного науке. В храме был раскрыт уникальной формы западный портал и т.п. В интересах более полного прочтения архитектуры зданий в интерьере трапезной было сделаны несколько дополнительных шурфов и зондажей. Открытия последних лет позволяют внести в концепцию, предложенную Сибиряковым, ряд дополнений. Для более полного знакомства с памятником необходимо:
– очистить от густых побелок всю древнюю открытую поверхность белого камня на всех фасадах Троицкой церкви, в том числе на тех фрагментах фасадов, которые попали в новую обстройку (имеются в виду «ленточки» фасадов в подклетах новой трапезной 1680 г.). Делать это только при условии надлежащей защиты этих поверхностей от попадания влаги. Беление выходящих на улицу белокаменных фрагментов продолжать в случае необходимости известковым молоком, дезинфицирующим кладку и уничтожающим грибки, – раз в три–четыре года;
– перетереть окраску кирпичных прясел с разлиновкою швов «под кирпич» по технологии 70-х гг. ХVI в. Возобновлять эту цветовую декорацию по мере ее выгорания. «Под кирпич» будут окрашены, таким образом, три прясла Федоровского придела, три «ленточки» фасадов четверика над крышами и ложный восьмерик под шатром;
– при росписи кирпичных прясел сделать попытку облевкасить оконные наличники и кирпичные элементы карнизов, как это делали древние мастера. Если это будет дорого или сложно, наличники и карнизы оштукатурить и побелить;
– в ближайшие годы отремонтировать лемеховое покрытие шатра (наблюдается выпадение отдельных лемешин; видимо, перегнивают державшие их гвозди);
– очистить от побелок интерьер четверика с апсидами (в местах утрат древнего левкаса – 98% поверхности). Места поздних вычинок на цементном растворе заретушировать в тон основной кладки руками профессиональных художников. Между живописью шатра и расчищенной кладкой сохранить вычиненный в 60-е годы и выбеленный пояс – место пят разобранного промежуточного свода;
– оштукатурить и тонировать протесанную в конце ХIХ в арку в западном портале;
– очистить от грязи и копоти зондажи архитектора Сибирякова, регулярно поддерживать их чистоту с помощью моющих средств, составить охранную опись;
– аналогичным образом оформить зондажи последних лет, сделать металлические ограждения по типу сибиряковских, составить охранную опись;
– поставить на место (на раствор) во вновь раскрытом западном портале белокаменный декоративный элемент в форме «моллюска», для чего вырубить нишу в размер элемента в пяте свода ХVII в.;
– открытый западный портал не восстанавливать, демонстрировать его как памятник архитектурно-археологический. Зондаж в проеме портала замостить дикарными плитами. Изготовить крупномасштабный макет портала и поместить его в экспозицию;
– найти возможность включить в экспозицию северо-восточный придел Федора Стратилата – уникальный памятник русской архитектуры, один из самых ранних дошедших до нас внешних «приткновенных» приделов (в форме двух папертных компартиментов, без четверика и апсиды). Расчистить интерьер придела от поздних побелок, ранее вычиненные места отретушировать, восстановить иконостас в стиле ХVI в. в старых гнездах;
– в церкви на древних крюках и цепях повесить стилизованное паникадило. Со временем восстановить оба тябла в старых гнездах, обозначив линию иконостаса. Заложить зондаж в полу солеи XIХ в. для выяснения конструкций алтарной преграды;
– полностью раскрыть архитектуру двух древних подклетов, служивших в XVI в. хранилищем «второй» и «третьей» великокняжеской казны. Реставрировать роспись «кирпичным паркетом» свода основного подклета, расчистить от побелок стены подклетов (по заключению В.Д.Сарабьянова, они никогда не белились). При размещении в подклетах экспозиции стены и распалубки не загромождать лишними предметами. Оба древних троицких подклета суть чудом дошедшая до нас малая часть дворцовых «комнат» разобранного в ХVII в. великокняжеского дворца;
– раскрыть от побелок древние входы в погреба и подклеты, как это было совсем недавно. Подобные раскрытия подлинной фактуры облегчают прочтение древних объемов внутри новой архитектуры и пр. Третий подклет, относящийся к 70-м гг. ХVI в., допустимо оставить для контраста в обмазке;
– погреба под храмом находятся, по современным меркам, в идеальном состоянии и производят на посетителей ошеломляющее впечатление.
Шатровая Троицкая церковь – центральный архитектурный экспонат музея, «визитная карточка» всего ансамбля. В самой церкви в экспозиции должен демонстрироваться ее полный макет реконструкции, вместе с погребами, можно даже с деревянной обстройкой; перед этим макетом при проведении специализированных экскурсий можно рассказывать об истории шатрового зодчества в России, о личности ее заказчика, о дворцовом обиходе.
3) Успенская церковь.
Успенская церковь – домовая церковь великой княгини Соломонии Сабуровой – расположена на женской половине дворца. Отсюда, уже в других исторических условиях, при Марии Ильиничне Милославской, получил начало Успенский девичий монастырь. Миниатюрный трехапсидный крестовокупольный храм был окружен со всех четырех сторон изящными двухъярусными каменными папертями (вероятно, без каменных лестниц). Изысканная архитектура папертей частично восстановлена архитектором Сибиряковым, но видеть ее можно только изнутри подклета, куда посторонним нет доступа. Сохранившийся на южной стороне верхний ярус храма находится в закладке. Аналогичное устройство (с папертями со всех четырех сторон) имели на Москве еще три дворцовые церкви: Благовещенский собор у государя на Сенях, церковь Рождества Богородицы у великой княгини на Сенях и церковь Вознесения в Коломенском, куда Алексей Михайлович, оставив Слободу, перенес свою резиденцию. Однако восточная паперть Успенской церкви (на ней стояли апсиды) вообще не была ничем покрыта (то есть имела характер «гульбища») и впоследствии вообще погибла. Работая над музеефикацией Успенской церкви, Н.В.Сибиряков трактовал ее как «римскую руину» – в виде огромного зондажа-«разлома». Только на этом фасаде Сибиряков ввел двойную окраску, имитирующую древний материал памятника. Открытое дворцовое гульбище – большая редкость в русской архитектуре ХVI в. Поскольку каменные лестницы на паперть пока не обнаружены, не исключено, что их вообще не было, как не было каменных лестниц у другой дворцовой церкви – Троицкой. По-видимому, данная особенность – знак жилого комплекса. Другой замечательной особенностью папертей Успенской церкви был венчающий их второй ярус закомар, как в соборе Покровского монастыря в Суздале.
Своды храма были переложены в 60-е гг. ХVII в. в процессе реконструкции памятника, четверик надстроен. В ХVI в., когда церковь горела, ее белокаменный декор обгорел и осыпался. Этим воспользовались при надстройке четверика и вычинивать декор не стали. Таким он и дошел до нашего времени. Сибиряков оставил древние лопатки и капители руинированными. Приемы этого мастера отмечены пониманием научных принципов и высоким вкусом.
Замечательной архитектуры теплый северный Никольский придел был разобран первыми монахинями до подклета и выстроен заново с посвящением ангелу царицы Милославской – Марии Магдалене.
К сожалению, музеефицируя памятник, Сибиряков окрасил полукружия апсид краплаком без разлиновки швов. Эта окраска не была понята ремонтировавшими памятник прорабами и не удержалась.
При обкопке находящегося глубоко в земле изящного цоколя храма земля, выброшенная на бруствер, не была вывезена. Возможно, это решение было чем-то оправдано, но сейчас погребам храма временами грозит затопление. Неудачно, без водосточных труб, были сделаны водоотводы. Апсиды были до конца освобождены от покрывавшей их цементной штукатурки, алтарные окна не реставрировались.
Сегодня необходимо вернуться к разработанным ранее принципам музеефикации памятника. Работы вести по следующей программе:
– переделать всю систему водосброса на восточном руинированном фасаде, спустив водосточные трубы до земли, попутно увеличив свес кровель;
– вывести на более высокую отметку приямки около погребных окон, сделать над приямками глухие крышки; за подгонкой крышек поручить следить дворникам; открытие окон погребов было интересным и нужным делом, но с инженерной точки зрения это не было до конца продумано: сохраняется угроза их затопления талой водой;
– вернуться к двойной окраске апсид и закомар над ними, с окраской краплаком и разлиновкою швов;
– фрагментарно восстановить столбы и парапет южной паперти; в будущем допустимо думать о полной реставрации этого яруса. Скрытые от глаз случайных посетителей восточный и южный фасады станут интереснейшей частью экспозиции под открытым небом;
– произвести архитектурно-археологические исследования интерьера Успенской церкви, в первую очередь, апсид, сейчас недоступных, алтарных столбов-пилонов и сводов. Завершить начатые ранее исследования остатков древнего Никольского придела. Исследовать частично сохранившийся южный портал церкви на предмет его будущего восстановления. Раскрыть тягловые гнезда иконостаса; раскрыть от штукатурки один из алтарных столбов-пилонов (фрагментарно);
– исследовать древние полы храма;
– в церкви и на паперти расчищать древние белокаменные элементы от масляной окраски;
– раскрыть от масляных покрасок древние формы в интерьере южной паперти (портал уже расчищен);
– произвести раскрытие следов нижнего яруса паперти на северном фасаде подклета Никольского придела (эти следы уже были раскрыты, но потом вновь забелены рабочими).
Построенная неизвестным итальянским мастером Успенская церковь Государева двора является полным эквивалентом дворцовой церкви великой княгини Соломонии – Рождества Богородицы в Московском Кремле мастера Алевиза, до нас не дошедшей.
4) Распятская колокольня (церковь Алексея митрополита).
Уникальной конфигурации столпообразная церковь Алексея митрополита со звонницей была построена при древнем Покровском соборе в качестве его колокольни. Церковь считалась подколоколенной и использовалась для отпевания умерших. И церковь, и звонница были перестроены (надстроены) Иваном Грозным после новгородского похода. Церковь была обращена во всем известный колоссальной высоты шатровый столп. Верхняя часть столпа представляет собой часовую башню. Как показали исследования, перестроенный столп был расписан «местами»: «под кирпич» были расписаны тимпаны кокошников, а шатер облевкашен и расписан черной или синей краской «в шашку». Были облевкашены и раскрашены гирлянды бусин в архивольтах. В начале ХVIII в., одновременно с пристройкою к Распятской колокольне Марфиной палаты и разборкою звонницы, в церкви поднимались полы и растесывались верхи порталов. Памятник удачно реставрирован архитекторами П.С.Полонским и Н.В.Сибиряковым.
В процессе приспособления памятника под музейные нужды интерьер церковного столпа был искажен новым подшивным деревянным куполообразным сводом, устроенным на очень низкой отметке. Одновременно в церкви были заложены все окна. Древняя внутристенная лестница из большемерного кирпича и белого камня была покрыта пилеными белокаменными плитками в индустриальном исполнении на цементном растворе. В стены всех лестничных маршей и внутренних помещений врублены километры не нужной колокольне электропроводки. Вход в церковь обезображен деревянным тамбуром. При превращении памятника в монастырскую колокольню три года тому назад древние устройства для укрепления колоколов были выпилены и уничтожены. Кровля колокольни из черного окрашенного железа заменена на медную из необработанной меди, водосточные трубы уничтожены, и теперь вода падает с огромной высоты на бетонную отмостку. Намокающий снизу памятник усиленно отбеливается.
Случившееся с Распятской колокольней – пример варварского обращения с памятником культуры под предлогом его «приспособления под культурные цели». Одна из древнейших столпообразных церквей России рядом неудачных решений обезображена и выведена из научного и культурного оборота. Вернуть Распятской колокольне вид подколоколенной церкви – одна из первоочередных задач музея. Для этого необходимо:
– церковный интерьер колокольни полностью открыть снизу доверху. Вернуть зданию естественное освещение. Заново решить (если это возможно) проблему его отопления. Весьма вероятно, что открытый столп придется только подтапливать. Изменение температурного режима может потребовать смены экспозиции. В небольшой по площади церкви целесообразно разместить музейный лапидарий и т.п.
– провести исследование древних полов, дать предложения по их реставрации. Выяснить саму возможность их восстановления на древней отметке. Не исключено, что полы подняты в связи с постройкою Марфиной палаты, сейчас это неясно;
– сломать тамбур перед входом, разобрать закрывающий портал настил. Перейти на внутренний тамбур, как во всех кремлевских соборах. Восстановить, если представится возможность, дверные полотна времени перестройки порталов;
– фрагментарно раскрыть находящийся в закладке северный портал;
– в интерьере открыть живописную композицию в юго-западной нише направо от входа;
– восстановить из гипса упавшую несколько лет тому назад капитель ограждающего столба древней паперти над входом в церковь;
– почерневшая медная кровля должна быть окрашена ярью-медянкой, частью перестелена и снабжена водоспусками до самой земли;
– при следующем крупном ремонте возобновить роспись «под кирпич» в тимпанах кокошников, по побелке, с разлиновкою швов, в технике 70-х гг. ХVI в.;
– сохранившийся фрагмент западного портала очистить от побелки;
– улучшить вертикальную планировку вокруг памятника;
– необходимые для ознакомления со строительной историей памятника зондажи архитектора П.С.Полонского поддерживать (содержать в чистоте, сделать крышки). Составить на них охранную ведомость.
Безусловно удачным объектом музейного показа в комплексе Распятской колокольни являются Марфины палаты начала ХVIII в., некогда имевшие с юга и с востока деревянные прирубы. В случае необходимости музей может восстановить деревянные части келий и даже службы. Их план сохранился.
5) Келейный корпус Успенского монастыря.
«Глаголеобразный» келейный корпус Успенского монастыря построен в последние годы царствования Федора Алексеевича. Является выдающимся памятником последней четверти ХVII в. До своей надстройки в середине XIХ в. представлял собой бесконечную вереницу одноэтажных двойных келий с общими между ними сенями каменно-деревянной конструкции, с обращенными к центру монастыря входными дверями, красивыми порталами и оконными наличниками, каменными засеньями и ретирадами, деревянными перегородками и дверными колодами, высокими крышами, бесчисленными печами (печные устройства сохранились), круглыми трубами над ними и пр. Сохранность комплекса исключительно высокая. Первые от запада одиннадцать келий занимали монастырские власти, но не исключено, что здесь останавливался сам царь с семейством, поскольку замечательные замковые белокаменные розетки в сводах этой части келий надписаны молитвословиями в честь Федора Алексеевича. Надписи – обронные. Не исключено, что, таким образом, это – царские «путевые кельи», известные по источникам (не александровским). Коллекция из девяти такого качества замковых розеток – единственная в России. Происхождение розеток не вызывает сомнений: это вольные копии аналогичных розеток из сводов разобранного монастырскими властями великокняжеского дворца (из коллекции музея). Сейчас келейному корпусу грозит модернизация, сводам – прорубка под электропроводку, стенам – современная отделка и пр. Восточное крыло келейного корпуса уже приспособлено под монастырские нужды. Здесь произведена замена традиционных материалов на современные. Передача одиннадцати келий западной части корпуса монастырю грозит серьезной потерей. Памятник, помимо грозящих ему искажений, просто уйдет из культурного оборота. Одиннадцать западных келий должна быть переданы музею в качестве памятника царского монашеского быта, какими бы это ни грозило осложнениями для обеих сторон.
6) Монастырская стена с надвратной церковью Федора Стратилата.
Монастырская стена с четырьмя башнями – самая уязвимая в инженерном отношении часть ансамбля. Большая ее часть перманентно находится в состоянии, близком к аварийному. Часть стен была построена на склоне холма, часть – над засыпанными рвами, без необходимых инженерных укреплений. Сейчас почти на всем своем протяжении стена подперта контрфорсами. Возле надвратной церкви стена дополнительно страдает от паводковых вод, а может быть, и от плохого содержания канализационных стоков (здесь необходима экспертиза). Стене явно недостает кровельных обделок. Выведение стены из аварийного состояния – дело долгое и сложное. Достаточно ее поддерживать в нынешнем ее относительно стабильном состоянии.
С внутренней стороны стены справа и слева от Святых ворот имеется ряд перевязанных с нею древних келий. И надвратная церковь Федора Стратилата, и кельи осмотру недоступны.
Снаружи Святых ворот город выстроил новую помпезную лестницу.
Каменный Святой колодец в центре монастыря находится в полуразрушенном состоянии. Его стены «расседаются», крест отсутствует. При его восстановлении стены достаточно обвязать открыто положенными бандажами, а трещины зачеканить. В случае вычинок стен кирпичом мы просто потеряем памятник. Крест восстановить.
Лето-осень 1995 г.
Главный специалист АО «Мособлстройреставрация»
В.В. Кавельмахер
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БИБЛИОГРАФИЯ В.В. КАВЕЛЬМАХЕРА
Сергиев Посад, Звенигород:
1. В.В.Кавельмахер. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры как аналог московского Успенского собора. В кн.: Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1974. С. 47-54.
2. Е.Е.Гущина, В.В.Кавельмахер. О первоначальном облике трапезной палаты Троице-Сергиева монастыря. В кн.: Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1979. С. 26-28.
3. В.В.Кавельмахер. О времени построения Пятницкой церкви на Подоле в г. Загорске. В кн.: Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1979. С. 35-38.
4. В.В.Кавельмахер. О времени построения Пятницкой церкви на Подоле в г. Загорске. В кн.: Советская археология. № 2. М., 1982. С. 245-250.
5. В.В.Кавельмахер. Об окнах-розетках церкви Введения на Подоле в Загорске. В кн.: Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 2. М., 1982. С. 219-222.
6. В.В.Кавельмахер. Никоновская церковь Троице-Сергиева монастыря: автор и дата постройки. В кн.: Культура средневековой Москвы. XVII в. М., 1999. С. 40-95.
7. В.В.Кавельмахер. Заметки о происхождении «Звенигородского чина». В кн.: Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб, 1998. С. 196-216.
Борисоглебский собор в Старице:
8. В.В.Кавельмахер, М.Б.Чернышев. Керамический декор древнего Борисоглебского собора в Старице. В кн.: Научные чтения 1980–1981 гг. Государственного исторического музея. М., 1981. С. 66.
Коломна, Можайск, Волоколамск:
9. В.В.Кавельмахер, А.А.Молчанов. Новые исследования памятников раннемосковского зодчества в Волоколамске, Можайске и Коломне. В кн.: Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1984. С. 73-79.
10. В.В.Кавельмахер, С.П.Орловский. Два архитектурных фрагмента из Успенского собора в Коломенском Кремле (к вопросу о начале каменного строительства в Коломне). В кн.: Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1984. С. 80-87.
Черленково:
11. В.В.Кавельмахер. Никольская церковь в селе Черленкове (неизвестная постройка «осифовских старцев» середины XVI в.). В кн.: Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1984. С. 68-72.
12. В.В.Кавельмахер. Неизвестная постройка осифовских старцев середины XVI в. – Никольская церковь в селе Черленкове. В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. 1987. М., 1988. С. 416-420.
Колокола, колокольни:
13. В.В.Кавельмахер. Некоторые вопросы изучения древнейших русских колоколен. В кн.: Вопросы теории и практики архитектуры и градостроительства. Межвузовский сборник. М., 1981. С. 154.
14. В.В.Кавельмахер. Способы колокольного звона и древнерусские колокольни. В кн.: Колокола: История и современность. М., 1985. С. 39-78.
15. В.В.Кавельмахер. Большие благовестники Москвы XVI–первой половины XVII века. В кн.: Колокола: История и современность. М., 1993. С. 75-118.
16. В.В.Кавельмахер, Т.Д.Панова. Остатки белокаменного храма XIV в. на Соборной площади Московского Кремля. В кн.: Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв. М., 1995. С. 66-83.
17. В.В.Кавельмахер, М.Б.Чернышев. Николай Иванович Оберакер – выдающийся немецкий литейщик, артиллерист и архитектор на русской службе в 1510-е–1530-е годы (к вопросу об авторе «трех стрельниц» Московского Кремля). В кн.: Кремли России. Материалы и исследования. Вып. 15. М., 2003. С. 117-124.
Иосифо-Волоколамский монастырь:
18. В.В.Кавельмахер. К строительной истории колокольни Иосифо-Волоколамского монастыря. В кн.: Архитектурный ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации. Материалы научно-практической конференции 1986 г. М., 1989. С. 11-15.
19. В.В.Кавельмахер. Фрагмент памятной плиты первой половины XVII в. из Иосифо-Волоколамского монастыря. В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. 1988. М., 1989. С. 480-484.
20. В.В.Кавельмахер. Фрагмент памятной плиты первой половины XVII века из Иосифо-Волоколамского монастыря. В кн.: Архитектурный ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации. Материалы научно-практической конференции 1986 г. М., 1989. С.30-37.
Московский Кремль:
21. В.В.Кавельмахер. Некоторые вопросы изучения архитектуры Благовещенского собора. В кн.: Уникальному памятнику русской культуры, Благовещенскому собору Московского Кремля 500 лет. Тезисы научной конференции. М., 1989. С. 30-33.
22. В.В.Кавельмахер. К вопросу о первоначальном облике Успенского собора Московского Кремля. В кн.: Архитектурное наследство. Вып. 38. М., 1995. С. 214-235.
23. В.В.Кавельмахер. О приделах Архангельского собора. В кн.: Архангельский собор Московского Кремля. М., 2002. С. 123-160.
24. А.А.Суханова (статья написана под руководством В.В.Кавельмахера). Подклет Благовещенского собора Московского Кремля по данным архитектурных и археологических исследований ХХ века. В кн.: Художественные памятники Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. 16. М., 2003. С. 164-178.
Дьяково:
25. В.В.Кавельмахер. К истории постройки именинной церкви Ивана Грозного в селе Дьякове. М., 1990.
26. В.В.Кавельмахер. К истории постройки церкви Иоанна Предтечи в селе Дьякове. В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1991 г. М., 1997. С. 339-351.
Юркино:
27. В.В.Кавельмахер. Церковь Рождества Христова в с. Юркино. В кн.: Информационный курьер МОСА (октябрь–декабрь). М., 1990. С. 19-21.
28. В.В.Кавельмахер. К вопросу о времени и обстоятельствах постройки церкви Рождества Христова в Юркине. В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1995 г. М., 1996. С. 421-436.
Александровская Слобода:
29. В.В.Кавельмахер. Памятники архитектуры древней Александровской Слободы. В кн.: Информационный курьер МОСА (октябрь–декабрь). М., 1990. С. 19-21.
30. В.В.Кавельмахер. Новые исследования Распятской колокольни Успенского монастыря в Александрове. В кн.: Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования. М., 1991. С. 110-124.
31. В.В.Кавельмахер. Церковь Троицы на Государевом дворе древней Александровской Слободы. В кн.: Александровская Слобода. Материалы научно-практической конференции. Владимир, 1995. С. 30-40.
32. В.В.Кавельмахер. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы. Сборник статей. Владимир, 1995.
33. В.В.Кавельмахер. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы. В кн.: Проблемы изучения древнерусского зодчества (по материалам архитектурно-археологических чтений, посвященных памяти П.А.Раппопорта, 15–19 января 1990 г.). СПб, 1996, с. 153-156.
34. В.В.Кавельмахер. Бронзовые двери византийской работы из новгородского Софийского собора. Еще раз о происхождении Тверских врат. В кн.: Зубовские чтения. Вып. 1. Владимир, 2002. С. 58-77.
35. В.В.Кавельмахер. Государев двор в Александровой Слободе. Опыт реконструкции. В кн.: Якоб Ульфельдт. Путешествие в Россию. М., 2002. С. 457-487.
36. В.В.Кавельмахер. К истории Васильевских дверей Софии Новгородской. В кн.: Зубовские чтения. Вып. 2. Струнино, 2004. С. 139-152.
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском:
37. В.В.Кавельмахер. Краеугольный камень из лапидария Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (к вопросу о так называемом Святославовом кресте). В кн.: Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб, 1997. С. 185-198.
Новодевичий монастырь:
38. В.В.Кавельмахер. Когда мог быть построен собор Смоленской Одигитрии Новодевичьего монастыря? В кн.: Новодевичий монастырь в русской культуре. Материалы научной конференции 1995 г. М., 1998. С. 154-177.
Китай-город:
39. В.В.Кавельмахер. Воскресенские ворота Китай-города по данным археологических раскопок 1988–1994 гг. В кн.: Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999. С. 167–180.
Электронные версии большинства научных трудов В.В.Кавельмахера находятся на Интернет-сайте www.kawelmacher.ru.
Научный редактор этой книги выражает благодарность М.Б.Чернышеву за помощь в подготовке библиографии В.В.Кавельмахера.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
С.В. Заграевский
Новые данные, свидетельствующие о верности
обоснованных В.В. Кавельмахером датировок
памятников архитектуры Александровской Слободы
1.
До 1980-х годов по поводу датировок храмов Александровской1 Слободы XVI века серьезных разногласий не возникало. После того, как в 1920-е годы комиссия Центральных реставрационных мастерских выяснила, что до XVIII века современный Троицкий собор назывался Покровским, а шатровая Покровская церковь была посвящена Троице2, в научной и популярной литературе закрепились следующие даты:
– Покровский, ныне Троицкий, собор (в дальнейшем будем без оговорок называть его Покровским) датировался 1513 годом на основании сообщения «Троицкого летописца»: «Лета 7021 октября 3 в Сергиеве манастыре основаша ворота кирпичныи, а на воротех во имя Сергия чюдотворца. Лета 7022 ноября 28 священа бысть црквь древяная в Клементьеве. Того ж лет декабря 1 сщнна бысть црквь Покров стеи Бцы в Новом селе Олександровском. Тогды ж кнзь великий и во двор вшел (курсив мой – С.З.). Того ж мсца декабря 15 сщнна бысть црквь кирпичнаи в Сергиеве манастырь на воротех стый Сергий, а сщал ее епспъ Митрофан Коломенский да игумен Памва, а на сщние был кнзь великий»3;
– Троицкая, ныне Покровская, церковь (в дальнейшем будем без оговорок называть ее Троицкой) датировалась вторым строительным периодом Слободы – пребыванием в ней Ивана IV (с 1565 по 1582 год; поскольку строительство теоретически могло начаться несколько ранее приезда Грозного в Слободу, то в качестве даты ориентировочно принимались 1560–1570-е годы). Основанием для такой датировки был ее шатровый верх. Традиционно считалось, что первым шатровым храмом была церковь Вознесения в Коломенском, построенная в 1529–1532 годах, и на базе этой теоретической предпосылки Троицкая церковь не могла датироваться одновременно с Покровским собором;
– Успенская церковь условно датировалась теми же 1560–1570-ми годами, что и Троицкая;
– Распятская колокольня (до 1710 года – церковь Алексея митрополита4) также датировалась 1560–1570-ми годами. После того, как в 1940-е годы А.С.Полонский выявил внутри нее более раннее столпообразное здание5, последнее стали относить к первому строительному периоду Слободы и датировать, как и Покровский собор, 1513 годом. Фактически мы имеем дело с двумя разными зданиями, поэтому для простоты в дальнейшем будем называть Распятской колокольню в ее современном виде, а церковью Алексея митрополита – столпообразное здание, находящееся внутри нее.
В этом виде датировки памятников Слободы XVI века просуществовали до исследований В.В.Кавельмахера. В 1980–1990-е годы он провел беспрецедентную по масштабам серию раскопок и зондажей, выявивших принципиальный факт: Покровский собор, Троицкая церковь, Успенская церковь и церковь Алексея митрополита (в дальнейшем будем для простоты называть их первыми храмами Александровской Слободы) были возведены в одном строительном периоде.
Во всех этих памятниках В.В.Кавельмахер отмечал материалы (кирпич и белый камень) сходных кондиций, однородное связующее, идентичное связное железо, технику смешанной кладки, единый итальянизирующий «графический» стиль русской придворной архитектуры XVI века, с применением одних и тех же, отчетливо унифицированных, узлов и деталей – корытообразных филенок, наборов профилей цоколей, венчающих тяг и капителей6. Кладка всех храмов изначально имела открытый характер – не красилась и не белилась, подкрашивались белым левкасом только некоторые выполненные из кирпича элементы декора. Все выступающие белокаменные элементы были скреплены однотипными скобами7. Все храмы (за исключением столпообразной церкви Алексея митрополита) были построены с приделами и смежными палатами, а Троицкая и Успенская – даже с погребами8. В интересах всего ансамбля ложный подклетный ярус и ложную паперть со звонницей получила и церковь Алексея митрополита9. Различались постройки между собой только объемом и качеством покрывающей их «фряжской» резьбы, однако В.В.Кавельмахер отмечал единый стиль этой резьбы (за исключением орнаментальных поясов Покровского собора, скопированных с Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры – рис. 5)10.
Эта аргументация В.В.Кавельмахера была справедливо воспринята всеми без исключения исследователями как исчерпывающая11, и неминуемо возник вопрос о коррекции принятых ранее датировок.
В.В.Кавельмахер, ссылаясь на уже приведенный нами текст «Троицкого летописца»12 и близость стилистики первых храмов Александровской Слободы к стилистике кремлевских соборов Ивана III и Василия III13 (эта стилистическая близость была отмечена еще А.И.Некрасовым14), датировал храмы Покрова, Троицы, Успения и Алексея митрополита первым строительным периодом Слободы – 1509–1513 годами. Ко второму строительному периоду – 1560–1570-м годам – В.В.Кавельмахер относил только перестройку церкви Алексея митрополита и пристройку к Троицкой церкви трапезной на погребе и подклете15 (именно эти строительные работы могли отметить немцы-опричники И.Таубе, Э.Крузе и Г.Штаден16).
В конце 1990-х–начале 2000-х годов точка зрения В.В.Кавельмахера была поставлена под сомнение С.С.Подъяпольским. Поддерживая отнесение Покровского собора, Троицкой церкви, Успенской церкви и церкви Алексея митрополита к одному строительному периоду, он датировал все эти памятники 1560–1570-ми годами17. Аргументация исследователя заключалась в следующем:
– «слишком многое в концепции В.В.Кавельмахера (относительно датировки первых храмов Слободы 10-ми годами XVI века – С.З.) противоречит устоявшимся взглядам на развитие зодчества Московской Руси XVI столетия»18.
– архитектура Троицкой церкви более характерна для шатровых храмов второй половины XVI века19;
– сообщение «Троицкого летописца» не дает достаточных оснований для того, чтобы датировать Покровский собор 1513 годом, так как в нем нет указания на материал постройки, т.е. речь могла идти и о деревянном храме20;
– некоторые стилистические черты сближают Покровский собор и Троицкую церковь Александровской Слободы не с кремлевскими соборами Ивана III и Василия III, а с собором Покрова на Рву (1556–1561 годы) и верхними приделами Благовещенского собора (1560-е годы)21;
Первый и второй аргументы С.С.Подъяпольского имеют общетеоретический характер и не могут служить основанием для каких-либо датировок. По словам В.В.Кавельмахера, «здесь спорят между собой не факты, а теория (т.е. наше сегодняшнее понимание генезиса русского шатрового зодчества) и факты. В этой ситуации долг исследователя – безоговорочно встать на сторону фактов»22.
Третий аргумент С.С.Подъяпольского негативен: указание на гипотетическую необоснованность одного из доказательств датировки 1509–1513 годами не может служить доказательством датировки 1560–1570-ми (к тому же в п. 2 мы покажем, что в сообщении «Троицкого летописца» все же говорится именно о каменном храме). Аргументом по сути является лишь четвертый – попытка датировать первые храмы Слободы по стилистической аналогии с московскими постройками середины–второй половины XVI века. Тем не менее, здесь мы рассмотрим все аспекты позиции С.С.Подъяпольского.
2.
Прежде всего внимательно рассмотрим вопрос, о каком храме – каменном или деревянном – говорится в процитированном в п. 1 сообщении «Троицкого летописца».
А.И.Некрасов полагал, что уже сам факт сообщения об освящении свидетельствует о том, что Покровский собор был каменным23, но С.С.Подъяпольский справедливо отметил24, что «Троицкий летописец» сообщает не только о каменных храмах, но и о деревянной церкви.
Добавим, что с православно-догматической точки зрения, которой, несомненно, придерживались авторы «Троицкого летописца», освящение деревянного и каменного храмов абсолютно равнозначно.
Тем не менее, мы вправе использовать сообщение «Троицкого летописца» для датировки существующего – каменного – Покровского собора 1513 годом. Покажем это.
Процитируем еще раз это сообщение, выделяя курсивом слова, на которые следует обратить особое внимание: «Лета 7021 октября 3 в Сергиеве манастыре основаша ворота кирпичныи, а на воротех во имя Сергия чюдотворца. Лета 7022 ноября 28 священа бысть црквь древяная в Клементьеве. Того ж лет декабря 1 сщнна бысть црквь Покров стеи Бцы в Новом селе Олександровском. Тогды ж кнзь великий и во двор вшел. Того ж мсца декабря 15 сщнна бысть црквь кирпичнаи в Сергиеве манастырь на воротех стый Сергий…»
Мы видим, что в этом сообщении речь идет о четырех постройках (крепостных воротах Троице-Сергиевой Лавры, церкви в селе Клементьеве, надвратной церкви Сергия Радонежского в Лавре и Покровском соборе в Александровской Слободе). В трех постройках указан строительный материал, причем очень точно – кирпичные здания названы именно кирпичными, а не обобщенно «каменными», как это обычно делалось в летописях. Но относительно самой значимой из перечисленных построек – Покровского собора на великокняжеском дворе – о материале вообще ничего не говорится.
Конечно, просто забыть сделать необходимое уточнение в отношении материала постройки великокняжеского храма летописец вряд ли мог. Гораздо более вероятно, что такого уточнения и не требовалось – так же, как не требовалось уточнений в отношении, например, строительных материалов Успенского собора Фиораванти, Архангельского собора Алевиза Нового или Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. То, что главный собор великокняжеской резиденции – Александровской Слободы – был каменным, было ясно «по умолчанию».
Таким образом, мы обязаны полагать, что сообщение «Троицкого летописца» говорит об освящении в 1513 году именно каменного Покровского собора.
В пп. 4 и 5 мы увидим, что для датировки этого храма (как и остальных первых храмов Слободы) началом XVI века есть и ряд других оснований, а пока обратимся к основному (и, по сути, единственному) аргументу С.С.Подъяпольского в пользу 1560–1570-х годов – стилистических чертах различия первых храмов Слободы с кремлевскими соборами начала XVI века и их гипотетического сходства с собором Покрова на Рву и верхними приделами Благовещенского собора. В значительной части своей аргументации С.С.Подъяпольский ссылался на А.Л.Баталова (который, в свою очередь, в последние годы ссылается на С.С.Подъяпольского25), поэтому мы будем рассматривать позиции обоих исследователей.
3.
Прежде всего заметим, что итальянизирующие мотивы в архитектурном декоре русских храмов имели место на протяжении всего XVI века (это показывал и А.Л.Баталов26). Следовательно, сам факт наличия таких мотивов не может являться основанием для каких-либо датировок – как 1509–1513, так и 1560–1570-ми годами.
А.Л.Баталов и С.С.Подъяпольский отмечали, что ряд особенностей декора отличает первые храмы Александровской Слободы от кремлевских соборов Ивана III и Василия III27. С отмеченными ими чертами отличия нельзя не согласиться. Но имело ли при этом место сходство этих храмов Слободы с храмами середины–второй половины XVI века?
Основным объектом, с которым указанные исследователи пытались найти стилистическое сходство первых храмов Слободы, являлся собор Покрова на Рву. А это само по себе вызывает сомнение в верности любых проведенных аналогий, так как в архитектуре и декоре московского собора мастера изначально стремились к объединению самых различных стилей – «различными образцы и многими переводы»28.
И все же перечислим все те черты, которые, по мнению А.Л.Баталова и С.С.Подъяпольского, определяют сходство первых храмов Слободы и собора Покрова на Рву.
Во-первых, А.Л.Баталов писал29 (и С.С.Подъяпольский подтверждал30), что «в приделах Покрова Богородицы и Входа в Иерусалим собора Покрова на Рву наличники круглых окон так же, как в Александрове (в Троицкой церкви – С.З.), соприкасаются с архивольтами кокошников».
Конечно, формулировка «придел Покрова Богородицы собора Покрова на Рву» выглядит несколько странной и неоправданной, так как основной храм и придел – абсолютно разные понятия. Более адекватно с церковной точки зрения звучало бы «главный престол собора Покрова», а с архитектурной – «центральный столп собора». Но дело не в формулировке: на центральном столпе собора Покрова на Рву вообще отсутствуют наличники окон (мы видим перспективные оконные проемы), а на Входоиерусалимском приделе наличники окон в кокошниках далеко не соприкасаются с архивольтами.
Во-вторых, С.С.Подъяпольский полагал, что замена полуколонок филенкой сближает композицию западного портала Покровского собора Александровской Слободы с порталами центрального столпа храма Покрова на Рву. Впрочем, исследователь был вынужден сделать оговорку, что в московском храме, «правда, обращенная внутрь проема поверхность плечиков декорирована, и подставов с наружной стороны нет»31.
Не будем здесь рассуждать о том, что более существенно – отмеченное исследователем сходство или им же отмеченные различия. На самом деле и общая стилистика, и трактовка подавляющего большинства деталей декора порталов Покровского собора Слободы и центрального столпа Покрова на Рву абсолютно различны. К тому же порталы Покровского собора Слободы белокаменные, а Покрова на Рву – кирпичные. А частичную замену полуколонок филенкой мы видим и на порталах Архангельского собора, и на северном портале Благовещенского собора, и на портале собора Чудова монастыря (1501 год).
В-третьих, А.Л.Баталов утверждал, что декор портала Федоровского придела Троицкой церкви в виде балясин (по С.С.Подъяпольскому, в виде «гипертрофированных бусин»32) схож с декором северного портала Входоиерусалимского придела собора Покрова на Рву33. Но, опять же, нельзя не заметить, что у этих порталов абсолютно различная форма и бусин, и перемычек между ними. Ничего общего не имеет и форма самих порталов (например, на портале Входоиерусалимского придела отсутствует верхний фронтон), и трактовка всех их деталей.
Отметим, что такие же порталы, как у Входоиерусалимского придела, есть у приделов Троицы и Николая Чудотворца собора Покрова на Рву, а на фасаде центрального столпа этого собора присутствует еще одна разновидность «гипертрофированных бусин». Еще более принципиально то, что подобные «гипертрофированные бусины» присутствовали уже на портале собора Чудова монастыря.
В-четвертых, С.С.Подъяпольский говорил о том, что узкая полоса наклонной кладки в основании шатра Троицкой церкви между двумя близкорасположенными карнизами, прорезанная в середине каждой грани маленьким окошком, является «несколько модифицированным мотивом машикулей, которые не встречаются в московских храмах ранее середины XVI века (храм Покрова на Рву, церковь в Дьякове)»34.
Но эта полоса кладки в Троицкой церкви – просто нижняя часть шатра, отделенная от верхней части карнизом. Благодаря прорезанным в нижней части окошкам достигалось визуальное ощущение «парения шатра в воздухе». А что касается «мотива машикулей», то он при взгляде из интерьера присутствует в любых окнах, прорезанных в любом шатре (как и в любой стене, наклоненной внутрь). Таких «модифицированных машикулей» в русской архитектуре XVI–XVII веков можно насчитать сотни, если не тысячи.
Кроме проведения аналогий (как мы видели, неубедительных) с собором Покрова на Рву, А.Л.Баталов35 и С.С.Подъяпольский36 предполагали сходство рисунка филенок галерей первых храмов Слободы и верхних приделов Благовещенского собора в Московском Кремле. Но на самом деле ничего общего филенки храмов Слободы и приделов Благовещенского собора не имеют. У них абсолютно различны пропорции, глубина, обломы. А филенки, объединенные сплошным карнизом, мы видим и на «цокольном» белокаменном ярусе фасада Архангельского собора.
А.Л.Баталов37 и С.С.Подъяпольский38 полагали, что карниз на стенах первых храмов Слободы и верхних приделов Благовещенского собора, в отличие от Архангельского собора, не раскрепован над лопатками. Но это не так: карниз почти повсеместно раскрепован во всех перечисленных храмах, просто вынос лопаток в первых храмах Слободы и приделах Благовещенского собора значительно меньше, чем в Архангельском соборе, и поэтому раскреповка не столь заметна.
С.С.Подъяпольский также привлекал в качестве стилистического аналога резьбы западного портала Покровского собора в Александровской Слободе резьбу южной галереи Благовещенского собора39. Впрочем, исследователь не применял это стилистическое сходство в качестве датирующего признака, так как резьба южной галереи кремлевского храма не имеет точно установленной даты40. Но в последние годы эту резьбу датируют грозненским временем А.Л.Баталов41 и А.В.Гращенков42. Соответственно, указанные исследователи используют стилистическое сходство этой резьбы с резьбой Покровского собора как основание для датировки последнего 1560–1570-ми годами43.
Но прежде всего отметим, что датировка резьбы южной галереи Благовещенского собора грозненским временем остается весьма спорной, так как А.Л.Баталов и А.В.Гращенков основывают ее прежде всего на аргументах, связанных с ее близостью к резьбе Покровского собора в Слободе, который они датируют 1560–1570-ми годами. Соответственно, если использовать резьбу южной галереи храма Благовещения для поздней датировки храма Покрова, то получается неправомерный «замкнутый логический круг».
Но если даже предположить, что резной декор южной галереи Благовещенского собора может быть независимо датирован грозненским временем, то это все равно не может служить основанием для датировки этим же временем резьбы западного портала и киота Покровского собора.
Дело в том, что, как отмечал и С.С.Подъяпольский, резьба южной галереи храма Благовещения является «сознательным обращением к образцам»44 – к изысканной фряжской резьбе начала XVI века порталов Архангельского и Благовещенского соборов. Иначе говоря, мы видим целенаправленную стилизацию, сделанную, как справедливо полагали и С.С.Подъяпольский, и А.Л.Баталов, и А.В.Гращенков, иными исполнителями45.
Стилизацией под «столичный стиль», несомненно, являлась и резьба западного портала и киота Покровского собора в Александровской Слободе (вероятно, также сделанная иными исполнителями). «Стилизаторство» было доминирующим принципом архитектуры этого храма (и его орнаментальные пояса, и план, и архитектурная пластика стилизованы под Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры).
Соответственно, определенное сходство резьбы Покровского собора в Слободе с резьбой южных галерей Благовещенского собора имеет абсолютно ясное обоснование – общие истоки – и ни при каких условиях не может служить датирующим признаком, так как подобная стилизация могла производиться в разных местах в самое разное время – и через 5, и через 50, и через 100 лет после создания в начале XVI века фряжских оригиналов. Привлекать в качестве датирующих признаков любой из этих стилизованных резных декоров столь же неправомерно, как, например, датировать александровский Покровский собор временем Юрия Дмитриевича Звенигородского на основании сходства архитектурной пластики и орнаментальных поясов слободского храма с пластикой и орнаментальными поясами Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры (1422–1423 годы). Столь грубый формально-стилистический подход к датировкам был возможен во времена А.И.Некрасова46, но не в начале XXI века.
Таким образом, мы обязаны констатировать отсутствие убедительных стилистических аргументов в пользу датировки первых храмов Александровской Слободы 1560–1570-ми годами.
Стилистический анализ с выходом на датировку этих храмов 1509–1513 годами проводил В.В.Кавельмахер47. Исследователь отмечал характерные для эпохи Василия III резные профилированные импосты в распалубках и резные орнаментированные розетки в сводах подклетов Троицкой церкви, одновременное наличие у этого храма погребов и подклетов (позже этот прием уже никогда не применялся), изначально открытый (неоштукатуренный и небеленый) характер кладки первых храмов Слободы, изощренную фряжскую резьбу западного портала и киота Покровского собора.
Но не будем забывать, что А.Л.Баталов и С.С.Подъяпольский отметили много черт стилистического различия первых храмов Слободы и кремлевских соборов рубежа XV–XVI веков48. Поэтому для датировки первых храмов Александровской Слободы 1509–1513 годами мы приводим ряд других, гораздо более убедительных, аргументов (см. пп. 2, 4 и 5). Здесь же выскажем лишь некоторые общие соображения.
В отношении первых храмов Слободы любой стилистический анализ (и по В.В.Кавельмахеру, и по А.Л.Баталову, и по С.С.Подъяпольскому) позволяет сделать лишь один бесспорный вывод: эти здания абсолютно уникальны, и максимальная точность их датировки на основании стилистического анализа – XVI век. И эта ситуация характерна не только для первых храмов Слободы. Достичь необходимой точности датировки храмов «по стилистической аналогии» не позволяет принципиальный и неустранимый фактор: индивидуальность мастеров.
Зодчие и наиболее квалифицированные мастера могли выражать свою индивидуальность, строя храмы в различных архитектурных стилях (иногда стилизуя, иногда «опережая свое время», иногда сознательно совмещая в одном произведении различные стили). Индивидуальность же «рядовых» строителей была обусловлена тем, что, как не раз показывал автор настоящего исследования49, в Древней Руси преимущественно использовались местные строительные кадры (это было для ктиторов проще и выгоднее).
В связи со всем сказанным в этом параграфе можно сделать общий вывод: формально-стилистический анализ, оторванный от документальных, исторических и архитектурно-археологических данных, может дать скорее негативные, чем позитивные результаты (к примеру, С.С.Подъяпольский даже отмечал, что в «неправильном, как бы болезненно изломанном рисунке западного портала Покровского собора Слободы есть что-то роднящее его с пластикой модерна»50). В любых уникальных постройках (а это подавляющее большинство памятников древнерусской архитектуры XII–XVI веков) индивидуальность мастеров приводит тому, что все черты сходства памятников крайне условны, и на каждую черту сходства можно найти несравненно большее количество гораздо более принципиальных черт различия.
4.
Гораздо более высокую точность может дать анализ характерных особенностей строительной техники: кладки, раствора, формы и качества кирпича, тески камня и т.п.
Во-первых, возможностей для выражения индивидуальности мастеров в строительном производстве практически не было.
Во-вторых, строительная техника тесно связана с технологией изготовления материалов (кирпича, камня, раствора), а последнюю существенно легче «привязать» к тому или иному времени.
Более того – автор настоящего исследования предполагал51 и предполагает, что будущее истории архитектуры именно за «строительными» методиками датировки памятников (при условии общедоступности и более высокой точности таких методов анализа особенностей строительной техники, как химический, петрографический, гранулометрический, радиоуглеродный, палеомагнитный, дендрохронологический и пр.)
А доступный автору визуально-тактильный анализ строительной техники показал: в Покровском соборе, Троицкой и Успенской церквях, церкви Алексея митрополита мы видим «мягкую», «теплую» кладку, характерную и для кирпичных построек Московского Кремля рубежа XV и XVI веков52, и для собора Петра митрополита в Высоко-Петровском монастыре (1514–1517 годы). Характерен и строительный раствор – с исключительно высокой вяжущей способностью, с ничтожно малым содержанием в извести песка и прочих примесей. Многочисленные белокаменные украшения и в Слободе, и в Кремле вытесаны так, что кажется, будто камень «дышит». В соборе Петра митрополита кирпичный декор, как и в Слободе, был покрыт левкасом «под белый камень».
В отличие от вышеперечисленных зданий, Распятская колокольня выстроена из «сухого» (по выражению В.В.Кавельмахера, «жареного»53) кирпича, на легко крошащемся растворе с высокой примесью песка. Из такого же кирпича, на таком же растворе построен собор Покрова на Рву. Белокаменный декор Распятской колокольни также вытесан, как на соборе Покрова на Рву, – жестко, геометрично, «сухо».
И в Распятской колокольне, и в соборе Покрова на Рву строители применяли наряду с железными связями деревянные. В храмах Покрова, Троицы, Успения и Алексея митрополита в Александровской Слободе все связи изготовлены исключительно из железа высокого качества54.
Важно отметить и факт, который был вынужден признать и А.Л.Баталов55: если датировать первые храмы Слободы 60–70-ми годами XVI века, то эти памятники окажутся единственными, где применен белокаменный декор «в той мере, в которой его употребляли в строительстве Василия III».
Все эти соображения являются еще одним аргументом в пользу позиции В.В.Кавельмахера о датировке храмов Покрова, Троицы, Успения и Алексея митрополита 1509–1513 годами.
Конечно, и кладка, и прочие особенности строительной техники все равно не могут дать стопроцентную уверенность в правильности датировок «по аналогии», так как технология строительства в зависимости от местных условий (качества глины, камня и извести, профессионализма местных мастеров) могла изменяться весьма существенно. Но поскольку, как мы показывали выше, возможностей для выражения индивидуальности мастеров в строительном производстве практически не было, эти данные при их наличии дают более точные результаты, чем формально-стилистический анализ.
Но мы еще не рассматривали основные архитектурно-археологические аргументы в пользу датировки первых храмов Слободы началом XVI века.
5.
Прежде всего рассмотрим архитектурно-археологические основания для датировки 1509–1513 годами церкви Алексея митрополита.
Колокольня Александровской Слободы, как мы отмечали в п. 1, была построена в течение двух строительных периодов. Все исследователи, за исключением С.С.Подъяпольского и А.Л.Баталова, полагали, что между этими строительными периодами (говоря в условных терминах, принятых нами в п. 1, – между датировками церкви Алексея митрополита и Распятской колокольни) имел место значительный временной промежуток – не менее пятидесяти лет, прошедших между 1509–1513 годами и временем пребывания в Слободе Ивана IV. Этот факт принимался как очевидный и не требующий отдельного доказательства.
С.С.Подъяпольский, датируя все памятники Александровской Слободы XVI века 60–70-ми годами этого столетия, столкнулся с проблемой: если церковь Алексея митрополита была построена в это время, то когда могла быть возведена Распятская колокольня? В начале 1580-х годов Иван Грозный покинул Слободу, и «кровопийственный град» пришел в запустение. Новое строительство в нем началось только в середине XVII века, и, конечно, относить Распятскую колокольню к этому времени невозможно.
В связи с этим С.С.Подъяпольский был вынужден утверждать (впрочем, в крайне обтекаемой и неоднозначной форме), что «обстройка ее (церкви Алексея митрополита – С.З.) мощными пилонами, поддерживающими шатровую колокольню, обладает теми же строительными характеристиками, которые дали повод В.В.Кавельмахеру для отнесения других храмов Александровой Слободы к одному строительному этапу (здесь ссылка на В.В.Кавельмахера56 – С.З.). Из этого, казалось бы, следует, что переделка церкви, скорее всего, была произведена вскоре после ее возведения»57.
Несмотря на обилие в процитированном тексте условных оборотов, можно понять, что С.С.Подъяпольский предполагал близость строительных характеристик церкви Алексея митрополита и Распятской колокольни, относя эти памятники к одному строительному периоду58. Исследователь обосновывал свою позицию ссылкой на слова В.В.Кавельмахера о том, что «при перестройке церкви ее стиль соблюден полностью».
Но вряд ли такая ссылка является корректной: стиль и строительные характеристики – абсолютно различные понятия, и никакой речи о близости строительной техники церкви Алексея митрополита и Распятской колокольни В.В.Кавельмахер не вел. В данном случае «единый стиль» не мог означать даже стилистическую близость – у Распятской колокольни и архитектурные формы, и цоколь, и кокошники, и карнизы абсолютно иные, чем у ее предшественницы. В.В.Кавельмахер мог иметь в виду только общую композицию зданий (столпообразность, обходные галереи, крупные кокошники, наличие дополнительных звонниц), а это ни в коем случае не может служить поводом для сближения датировок.
И все же посмотрим, могла ли церковь Алексея митрополита быть построена, а затем перестроена в течение одного строительного периода – 1560–1570-х годов.
Во-первых, выше мы говорили, что и кладка, и раствор, и стилистика, и исполнение декора у церкви Алексея митрополита и Распятской колокольни абсолютно различны.
Во-вторых, церковь Алексея митрополита имела дополнительную звонницу для больших колоколов59, поэтому версия о необходимости ее обстройки под вывезенные в 1570 году из Новгорода большие колокола60 весьма сомнительна. Большие колокола не могли поместиться и на звонах Распятской колокольни (там и не было мест для их крепления61), и все равно располагались на дополнительной звоннице62. Следовательно, масштабные работы по обстройке церкви Алексея митрополита могли быть вызваны либо недостаточными размерами, либо неудовлетворительным техническим состоянием старого здания, а такая ситуация вряд ли могла возникнуть в течение десяти–пятнадцати лет после постройки.
В-третьих, обследование автором этой книги второго яруса церкви Алексея митрополита63 показало: окнам этого яруса была придана (причем весьма аккуратно) другая форма еще до обстройки стенами будущей Распятской колокольни. Весьма сомнительно, что в течение декады–двух после постройки могло потребоваться проведение значительных работ по приданию окнам принципиально новой формы.
В-четвертых, ознакомление с зондажами А.С.Полонского и В.В.Кавельмахера, сделанными в местах примыкания пилонов Распятской колокольни к фасадам церкви Алексея митрополита, показывает: к моменту обстройки пилонами церковь Алексея митрополита успела «врасти в землю» примерно на полметра. Теоретически это могло произойти и в течение сравнительно короткого времени (в случае целенаправленных подсыпок грунта), но в данном случае это крайне маловероятно, так как ниже мы увидим, что примерно такой же культурный слой успел нарасти и вокруг Троицкой церкви к моменту возведения ее западной пристройки.
В-пятых, по зондажам А.С.Полонского и В.В.Кавельмахера внутри лестничного ризалита Распятской колокольни видно, что в местах примыкания стен и пилонов Распятской колокольни на раскрытых зондажами фрагментах белокаменного цоколя и облевкашенного кирпичного декора церкви Алексея митрополита присутствуют следы выветривания, которые не могли успеть появиться в течение декады–двух.
Из вышеперечисленного следует, что между возведением церкви Алексея митрополита и Распятской колокольни прошел значительный срок, гораздо больший, чем десять–пятнадцать лет. Таким образом, эти здания должны быть отнесены к двум разным строительным периодам.
За все время существования Александровской Слободы как резиденции московских государей таких периодов было всего два – 1509–1513 и 1560–1570-е годы. Значит, мы обязаны относить церковь Алексея митрополита к 1509–1513 годам, а Распятскую колокольню – к 1560–1570-м.
Перейдем к архитектурно-археологическим аргументам, выдвигавшимся В.В.Кавельмахером в пользу датировки 1509–1513 годами Троицкой церкви в Слободе (к сожалению, эти аргументы ускользнули от внимания большинства исследователей).
Известно, что после сооружения Троицкой церкви к ее западному фасаду была пристроена новая дополнительная секция, состоявшая, как и предыдущие, из палаты, подгреба и подклета. Палата была разобрана в 1680 году64. Ее следы на чердаке существующей трапезной были обнаружены еще в начале ХХ века епархиальным архитектором Латковым65, о ней писали и А.И.Некрасов66, и Г.Н.Бочаров с В.П.Выголовым67, но все эти исследователи априорно полагали единовременность возведения церкви и западной пристройки с погребом и подклетом.
В.В.Кавельмахер привел убедительные аргументы в пользу того, что эта пристройка была возведена существенно позже (не менее чем через несколько десятилетий) после Троицкого храма:
– в отличие от двух старых секционных объемов, новая секция получила иное плановое решение (квадратный, перекрытый в направлении север-юг коробовым сводом погреб; двойной, разделенный продольной стеной подклет) и иную трактовку объемов;
– щелыга разобранного в 1680 году свода палаты достигала церковного карниза и врубалась в него;
– новая секция была заложена на иной, чем Троицкая церковь, отметке (в момент ее постройки вокруг храма уже образовался культурный слой до полуметра толщиной);
– пристройки принадлежали более низкой культуре строительства (над входом в погреб нет иконной шишки, своды подклета не имеют импостов под распалубками, щелыги – розеток, груба архитектура подклетного окна, по-иному положены связи, неправильно и опасно возведена разделяющая подклет стена – поперек щелыги погребного свода)68.
Следовательно, возникает ситуация, аналогичная рассмотренной выше в связи с перестройкой церкви Алексея митрополита: мы обязаны относить постройку западной палаты с погребом и подклетом ко второму строительному периоду Слободы (эти строительные работы, как и перестройку церкви Алексея митрополита, могли отметить И.Таубе, Э.Крузе и Г.Штаден69), а возведение самой Троицкой церкви – к первому строительному периоду, т.е. к 1509–1513 годам.
Об освящении в 1513 году каменного Покровского собора, как мы показывали в п. 2, свидетельствует документальный источник – сообщение «Троицкого летописца».
Итак, мы имеем независимые документальные и архитектурно-археологические данные о возведении в 1509–1513 годах Покровского собора, церкви Троицы и церкви Алексея митрополита. Подчеркнем – эти данные взаимно независимы, т.е. в отношении каждого из перечисленных храмов базируются на собственной системе доказательств.
6.
Мы видим, что первым шатровым храмом была не церковь Вознесения в Коломенском (1529–1532 годы), а церковь Троицы в Александровской Слободе, построенная в 1509–1513 годах. Но более поздняя дата церкви Вознесения по сравнению с Троицкой церковью ни в коем случае не умаляет значение коломенского памятника для русской архитектуры: в этом храме наряду с шатром были применены пристенные пилоны, что позволило построить огромное здание невиданных пропорций, с «летящей» архитектоникой. Если считать Троицкую церковь памятником не начала, а второй половины XVI века, то она по сравнению с Вознесенской (а тем более с Покровским собором на Рву) оказывается, по справедливому замечанию В.В.Кавельмахера, «безобразным и регрессивным явлением»70. И это является дополнительным аргументом в пользу датировки церкви Троицы в Слободе 1509–1513 годами, так как Иван IV, уделявший каменному церковному строительству особое внимание, построивший такие шедевры, как Покровский собор на Рву, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове и многие другие, никак не мог возвести в своей основной резиденции – Александровской Слободе – «безобразный и регрессивный» дворцовый храм.
Подобное доказательство, базирующееся на архитектуре Государева двора в целом, приводил и В.В.Кавельмахер. Процитируем: «Одним из доказательств раннего происхождения Государева двора (в Слободе – С.З.) является его «старомодность». Перед нами – укрепленное поселение, город, замок, средневековая крепость, а отнюдь не вилла, открытая на природу, – нечто архитектурно замкнутое, противоположное тому, что в это время начинают строить в переживающей свое культурное возрождение Западной Европе. Действительно, к началу царствования Ивана Грозного характер княжеской вотчины коренным образом меняется. Последнее происходит на удивление быстро. Уже в начале 30-х годов Василием III, вступившим во второй брак с литовской шляхтянкой Еленой Глинской, была выстроена новая подмосковная, на этот раз «ближняя» – в Коломенском, небывалого на Руси типа: с домовой церковью «на пленере», бесстрашно вынесенной за ограду на колоссальные речные просторы… На кручи и мысы вынесены и другие тождественные архитектурные композиции – городские мемориалы типа Покровского собора на Рву в Москве и Борисоглебского собора в Старице. Это была настоящая художественная революция в вотчинном усадебном строительстве, в том числе городском... Новый архитектурный тип возник всего четверть века спустя после постройки Государева двора в Слободе… Обнесенный крепостной стеной Государев двор в Слободе дышит глубокой архаикой»71.
Итак, еще раз перечислим все взаимно независимые аргументы в пользу датировки храмов Покрова, Троицы, Алексея митрополита и Успения в Александровской Слободе 1509–1513 годами:
– стилистическая близость первых храмов Слободы к соборам Московского Кремля начала XVI века (сюда же можно отнести и факт постройки церквей Троицы и Успения в Александровской Слободе на погребах и подклетах, что характерно исключительно для памятников конца XV–начала XVI века). Напомним, что стилистические аргументы В.В.Кавельмахера оспаривались С.С.Подъяпольским и А.Л.Баталовым, но никаких убедительных контраргументов в пользу более поздней датировки эти исследователи не привели (см. п. 3);
– сообщение «Троицкого летописца» об освящении в 1513 году Покровского собора в Александровской Слободе (С.С.Подъяпольский полагал, что речь здесь могла идти о деревянной церкви, но мы в п. 2 мы вновь проанализировали это сообщение и показали верность позиции В.В.Кавельмахера);
– близость строительной техники первых храмов Александровской Слободы к строительной технике других храмов эпохи Василия III (см. п. 4). Этот аргумент, как и нижеследующие, никто из исследователей не пытался опровергнуть;
– архитектурно-археологические данные, свидетельствующие о том, что между возведением церкви Алексея митрополита и Распятской колокольни прошел значительный срок, гораздо больший, чем десять–пятнадцать лет (см. п. 5), и, таким образом, эти здания должны быть отнесены к двум разным строительным периодам, которых за все время существования Александровской Слободы как резиденции московских государей таких периодов было всего два. Следовательно, мы обязаны датировать церковь Алексея митрополита 1509–1513 годами, а Распятскую колокольню – 1560–1570-ми;
– архитектурно-археологические данные об аналогичном временном разрыве между строительством Троицкой церкви и западной палаты с погребом и подклетом при ней (см. п. 5). Эти данные свидетельствуют о том, что мы обязаны относить постройку западной палаты ко второму строительному периоду Слободы, а возведение самой Троицкой церкви – к первому строительному периоду, т.е. к 1509–1513 годам;
– аргументы, связанные с «архитектурной наивностью» и «архаичностью» слободской Троицкой церкви по сравнению с такими шедеврами времени Ивана IV, как Покровский собор на Рву, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове и мн.др. Иван Грозный, уделявший каменному строительству особое внимание, никак не мог возвести в своей основной резиденции – Александровской Слободе – «безобразный и регрессивный» дворцовый храм;
– «старомодность» композиции Государева двора в Слободе по сравнению с царской усадьбой Василия III в Коломенском и аналогичными архитектурными комплексами последующих эпох.
Вспомним и то, что В.В.Кавельмахер независимо от всех вышеприведенных данных показал (и его точку зрения приняли все без исключения исследователи), что храмы Покрова, Троицы, Алексея митрополита и Успения были построены в одном строительном периоде (см. п. 1). Этот аргумент, в отличие от всех предыдущих, нельзя назвать самодостаточным, но при бесспорной датировке 1509–1513 годами хотя бы одного из первых храмов Слободы (а тем более трех, как мы видели выше) он дает столь же бесспорную датировку этим временем и всех остальных храмов.
Таким образом, мы имеем не просто доказанную датировку первых храмов Слободы 1509–1513 годами, но датировку, доказанную с избыточностью, весьма значительной по меркам истории древнерусской архитектуры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Варианты названия Слободы – Александрова и Александровская – в современной научной и популярной литературе сосуществуют на практически равных правах. До 1778 года – официального переименования в город Александров – Слобода называлась Александровской (Российский энциклопедический словарь. М., 2000. Т. 1, с. 40). В XIX веке употребительной стала форма «Александрова Слобода», и это название использовали многие историки архитектуры, в том числе В.В.Кавельмахер и С.С.Подъяпольский. Но автор настоящего исследования полагает, что более верным с исторической точки зрения является вариант «Александровская»: это исконное название города Александрова впервые прозвучало в знаменитом сообщении «Троицкого летописца» под 1513 годом именно так – «Новое село Олександровское» (ОР РГБ. Ф. 304. Ед. хр. 647. Л. 4,4 об.).
2. Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы. Сборник статей. Владимир, 1995 (далее – Кавельмахер, 1995). С. 23.
3. ОР РГБ. Ф. 304. Ед. хр. 647. Л. 4,4 об.
4. Кавельмахер, 1995. С. 76.
5. Там же, с. 77.
6. Там же, с. 8-9.
7. Там же, с. 9-10.
8. Там же, с. 11.
9. Там же.
10. Там же, с. 10.
11. Подъяпольский С.С. О датировке памятников Александровой Слободы. В кн.: Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Художественная культура Москвы и Подмосковья XIV–начала XX веков. Сборник статей. Т. 2. М., 2002 (далее – Подъяпольский, 2002). С. 163, 165, 176, 180.
12. Кавельмахер, 1995. С. 7.
13. Там же, с. 17, 24-29.
14. Некрасов А.И. Памятники Александровой Слободы, их состояние и значение. М., 1948. ЦГАЛИ. Ф. 2039. Оп. 1. Ед. хр. 17. С. 198, 227.
15. Кавельмахер, 1995. С. 13.
16. Таубе И., Крузе Э. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. В кн.: Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922. С. 51; Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., 1925. С. 67, 90, 91.
17. Подъяпольский, 2002. С. 163, 165, 176, 180.
18. Там же, с. 161.
19. Там же, с. 162.
20. Там же, с. 176.
21. Там же, с. 162, 168, 169.
22. Кавельмахер В.В. Церковь Троицы на Государевом дворе древней Александровской Слободы. В кн.: Александровская Слобода. Материалы научно-практической конференции. Владимир, 1995. С. 34.
23. Некрасов А.И. Указ. соч., с. 198.
24. Подъяпольский, 2002. С. 176.
25. Баталов А.Л. К вопросу о датировке собора Спасо-Евфимиева монастыря. В кн.: Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в истории и культуре России. Владимир, 2003. С. 43.
26. Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. М., 1996 (далее – Баталов, 1996). С. 178-248.
27. Подъяпольский, 2002. С. 162, 168, 169.
28. В частности, А.Л.Баталов сам же отмечал, что в соборе Покрова на Рву соседствуют итальянизированные и неитальянизированные порталы (Баталов, 1996. С. 207).
29. Там же, с. 205.
30. Подъяпольский, 2002. С. 162.
31. Там же, с. 168.
32. Там же, с. 162.
33. Баталов, 1996. С. 207.
34. Подъяпольский, 2002. С. 163.
35. Баталов, 1996. С. 207.
36. Подъяпольский, 2002. С. 162.
37. Баталов, 1996. С. 207.
38. Подъяпольский, 2002. С. 162.
39. Там же, с. 169.
40. Там же, с. 170.
41. Баталов А.Л. Памятники Александровской Слободы в контексте развития русской архитектуры XVI века. В кн.: Зубовские чтения. Вып. 3. Струнино, 2005 (далее – Баталов, 2005). С. 37.
42. Гращенков А.В. Резной декор южной галереи Благовещенского собора Московского Кремля. В кн.: Зубовские чтения. Вып. 3. Струнино, 2005. С. 104.
43. Баталов, 2005. С. 37; Баталов А.Л. Доклад на научной конференции «Московский Кремль в эпоху Ивана Грозного» (13-14 декабря 2007 года). Далее – Баталов, 2007); Гращенков А.В. Указ. соч., с. 104.
44. Подъяпольский, 2002. С. 171.
45. Подъяпольский, 2002. С. 171; Баталов, 2005. С. 37; Баталов, 2007; Гращенков А.В. Указ. соч., с. 104.
46. А.И.Некрасов датировал Покровский собор именно таким образом (А.И.Некрасов. Указ. соч., с. 72, 77, 108).
47. Кавельмахер, 1995. С. 17, 24-29.
48. Подъяпольский, 2002. С. 162, 168, 169.
49. Заграевский С.В. Юрий Долгорукий и древнерусское белокаменное зодчество. М., 2002 (далее – Заграевский, 2002). С. 36-40; Заграевский С.В. Зодчество Северо-Восточной Руси конца XIII–первой трети XIV века. М., 2003 (далее – Заграевский, 2003). С. 24-29.
50. Подъяпольский, 2002. с. 163.
51. Заграевский, 2003. С. 30-31.
52. Автор приносит благодарность Т.Д.Пановой за любезное содействие в ознакомлении с кладкой Архангельского собора.
53. Личные беседы с В.В.Кавельмахером, 2002 год.
54. Кавельмахер, 1995. С. 8.
55. Баталов, 1996. С. 220.
56. Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы. В кн.: Проблемы изучения древнерусского зодчества (по материалам архитектурно-археологических чтений, посвященных памяти П.А.Раппопорта, 15–19 января 1990 г.). СПб, 1996. С. 194.
57. Подъяпольский, 2002. С. 180.
58. Схожую позицию в настоящее время занимает А.Л.Баталов (Баталов, 2007).
59. Кавельмахер, 1995. С. 94. Заметим, что такие дополнительные звонницы были у колокольни Ивана Великого, у «часозвони» Новгородского кремля (Софийская звонница), в Троице-Сергиеве, Спасо-Евфимиевом, Иосифо-Волоколамском монастырях и пр.
60. Там же, с. 13; Подъяпольский, 2002. С. 180.
61. Кавельмахер, 1995. С. 79.
62. Там же, с. 13, 87.
63. Автор выражает глубокую благодарность директору музея-заповедника «Александровская Слобода» А.С.Петрухно и ее коллегам за любезно предоставленную возможность натурного исследования памятников Александровской Слободы.
64. Кавельмахер, 1995. С. 37.
65. В отделе графики ГНИМА им. Щусева хранится его схематический обмерный чертеж разобранного свода (Р-У № 1699/2, 1921 г.).
66. Некрасов А.И. Указ. соч., с. 241.
67. Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Александровская Слобода. М., 1970. С. 27.
68. Кавельмахер, 1995. С. 36-37.
69. Таубе И., Крузе Э. Указ. соч., с. 51; Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., 1925. С. 67, 90, 91.
70. Кавельмахер, 1995. С. 43, 70.
71. Кавельмахер В.В. Государев двор в Александровой Слободе (опыт реконструкции). В кн.: Якоб Ульфельдт. Путешествие в Россию. М., 2002. С. 476-477.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Н.И. Шириня
Работы В.В. Кавельмахера
На памятниках Александровской Слободы
Памятники архитектуры Александровской Слободы в течение XX столетия привлекали к себе внимание очень многих известных отечественных исследователей – историков, искусствоведов, архитекторов, реставраторов. Уже к середине XX века имелось около 50 опубликованных трудов, где так или иначе затрагивалась архитектура царского ансамбля в Александрове. Однако исследования, многие из которых привносили в науку значительные открытия (например, раскрытые в начале XX в. Петром Дмитриевичем Барановским фрески шатра XVI в.), оставляли больше вопросов, чем ответов на точную датировку сооружений, их начальный облик, а главное, полную реконструкцию дворцово-храмового ансамбля XVI в. Это особенно актуально, так как аналогов ансамблю практически нет, потому что, как очень точно подчеркнул В.Д.Назаров, «сооружение таких резиденций, ряда ближних и дальних по отношению к столице государевых дворцов – новое явление в российском государственно-политическом быте этого времени»,1 следовательно, и архитектура возведенного в Слободе комплекса во многом могла носить экспериментальный характер. По образному выражению архитектора Полонского, изучавшего памятники в 1944–1948 гг., Александровская Слобода стала «архитектурным полигоном Московских царей»2, что было убедительно доказано и им, и работами других исследователей.
Интенсивные реставрационные работы на памятниках Александровской Слободы, а также музеефикация всех сооружений Государева двора (за исключением Покровского, ныне Троицкого, собора) во второй половине XX в. не только дали толчок новым исследованиям, а позволили поставить их на новый качественный уровень.
Основываясь на изучении материала исследований отечественных специалистов второй половины XX в., думается, можно с уверенностью утверждать, что особое место среди них занимают работы В.В.Кавельмахера. Их отличает изначально очень высокая оценка значимости Государева двора в Александровской Слободе как выдающегося памятника русского дворцового строительства, крупнейшего, после Кремлевского дворца, светского ансамбля царской Москвы, продолжительность научных изысканий на памятниках (около 30 лет), соединение теории и постоянной практики, привлечение широкого круга источников (он опирался практически на все исследования по Александровской Слободе), широкий круг научных интересов (архитектура Слободы XVI века, археологические исследования Тверских врат, история Васильевских дверей Софии Новгородской, резные белокаменные розетки XVII в.), а также тесное сотрудничество с музеем-заповедником. В результате этого в начале 1990-х г. была подготовлена совместная долгосрочная программа архитектурно-археологических изысканий территории, предусматривающая междисциплинарный подход к исследовательской деятельности, главной задачей которой стало изучение всех сохранившихся зданий XVI в, примыкавших к ним фрагментарно сохранившихся крылец, рундуков, палат (деревянных), способов сообщений между ними, а также малых архитектурных форм, общей топографии и параллельно городских укреплений, стен и башен, всего того, что во многом скрыто в толще более чем двухметрового культурного слоя Слободы. Таких масштабных задач, рассчитанных на реконструкцию всего ансамблевого памятника XVI в., ранее в XX столетии не ставилось.
Работы замечательных отечественных специалистов-археологов – академика Б.А.Рыбакова и, в дальнейшем, В.П. Глазова, выявившие многие каменные объемы, в силу ряда причин носили локальный характер и не ставили целью точную датировку памятников Александровской Слободы.
Натурные исследования В.В.Кавельмахера на памятниках XVI в., включавшие наблюдения, расчистки, раскрытия, зондажи, шурфы прилегающей территории, дали огромный фактический материал, зафиксированный более чем в 30 отчетах (архив музея-заповедника).
Особо скрупулезному исследованию подвергся уникальный, достаточно сложной объемно-пространственной структуры памятник – Покровский собор, наименее изученный, несмотря на частое обращение к нему специалистов.
Ученые, писавшие о Слободе до В.В.Кавельмахера, считали всю сохранившуюся обстройку собора поздней. Вопреки ранее принятом мнению о постепенном формировании объема собора, исследователь, думается, очень убедительно доказал (единый подклет, материалы, связи, ряд других признаков), что все его части, в том числе приделы, галереи, две палатки с западной стороны, созданы в одно время. Он обратил внимание на особенность подклетов собора – одну из архитектурных загадок слободского ансамбля – в связи с тем, что подклеты стоящей в отдалении Успенской церкви выше их в 2 раза. Впервые указал на пышную двухъярусность сооружения (уставленные колоннадами крытые паперти несли дополнительный ярус закомар). Отметил необычайность застроенности собора крыльцами, папертями, приделами и кордегардиями как явление, сравнимое только с исторической обстройкой домового Благовещенского собора Московского Кремля, подчеркнув также и значимость храма как третьего по величине здания средневековой Москвы после Успенского и Архангельского соборов.
В.В.Кавельмахер, выступая как историк архитектуры, впервые опубликовал и подробно прокомментировал полный текст вызывающего научные споры главного источника по началу строительной истории Государева двора – краткого летописца XVI века с упоминанием Покровского собора.
Совершенно новому осмыслению подверглись Новгородские и Тверские врата собора3 – шедевры декоративного древнерусского искусства, их происхождение, авторство, как и когда они попали в Александровскую Слободу. Тщательные археологические исследования бронзового оклада Тверских врат (система крепления, декорация) показали, что он на несколько столетий древнее своей основы, и в настоящем виде двери модернизированы. Эти соображения позволили ученому выделить среди пластин подлинный оклад первоначальных дверей в его истинном древнем контуре и датировать их XI–XVI вв.
Обследован и датирован ученым еще один памятник декоративного искусства собора, менее других привлекавший внимание специалистов, – дверные полотна северного портала. Итогом исследования стало выявление выдающегося памятника кузнечного ремесла раннего XVI в. – великолепной сохранности единственные двери, изначально принадлежавшие храму.
Но главное направление поиска новых данных по датировке памятника, начальному облику связано с шатровой Троицкой церковью, детальное исследование которой дало возможность ученому «заново прочитать ее строительную историю».
Для более полного прочтения архитектуры сооружения в интерьере трапезной сделано несколько дополнительных шурфов и зондажей к тем, что появились в 50-е гг. XX века. Были уточнены первоначальные объемы древнего памятника, получены новые данные об архитектурном облике северного теплого придела (Федора Стратилата), ранее неизвестного науке. В храме раскрыт уникальной формы западный портал.
Выявлены два древних подклета храма (датированные исследователем началом XVI в.) с росписью «кирпичным паркетом» свода основного подклета. Расчищены резные замковые белокаменные розетки в сводах подклетов, а параллельно и розетки келейного корпуса XVII века, происхождение которых В.В.Кавельмахер трактовал как вольную копию аналогичных розеток из сводов разобранного великокняжеского дворца.
Главным результатом исследования по Троицкой церкви стало вычленение объемов памятника начала XVI в., определение пристроек 70-х гг. того же столетия в поздних застройках последней четверти XVII в.
Архитектурно-археологические изыскания В.В.Кавельмахера на Распятской церкви-колокольне явились продолжением предшествующих работ архитектора Петра Степановича Полонского, первым выделившего древнее ядро церкви Алексея митрополита в толще Распятской колокольни.
В.В.Кавельмахер углубил старые зондажи, раскрыл окна барабана раннего храма, древний подоконник восточного окна, цоколь пилона древней звонницы в тамбуре, винтовую лестницу церкви Алексея митрополита внутри стены Распятской церкви-колокольни, обнаружил остатки свода полуциркульной закомары в размер грани барабана, провел ряд других исследований, что позволило полностью подтвердить теоретическую реконструкцию церкви Алексея митрополита, предложенную им самим.
При этом особое место в исследовании Распятской церкви колокольни заняло открытие в 1989 г. фундамента древней примыкавшей звонницы, наличие которой одни ученые отвергали, другие лишь предполагали, исходя из рисунков Якоба Ульфельдта. В.В.Кавельмахером был дан окончательный ответ на этот вопрос, давший возможность реконструировать оба сменивших друг друга на протяжении нескольких десятков лет сооружения – Распятскую церковь-колокольню и церковь Алексия митрополита.
Богатый опыт архитектора-реставратора позволил ученому практически заново исследовать Успенскую церковь. Во второй половине 90-х гг. им было выполнено на ней большое количество раскрытий: белокаменные капители, лопатки, наличники окон верхнего света четверика церкви. Исследованы четверик и места примыкания к храму северного придела, погреба под северным приделом, подклет под папертью, алтарные полукружия подклетного яруса церкви, произведены зондажи столпов внутри южной стены, фрагментарное зондирование штукатурки капителей подкупольных столпов и ряд других работ, давших ученому неопровержимые факты, позволяющие сделать вывод об одновременности строительства храма в «той же технике и теми же материалами» с церковью Троицы, Покровским собором и церковью Алексея митрополита (натурные исследования которых проводил параллельно).
Данный вывод явился совершенно новым словом в исследованиях Александровской Слободы, как и вновь предложенная ученым датировка всего ансамбля началом XVI в.
Утверждение В.В.Кавельмахера о том, что весь ансамбль Александровской Слободы выстроен «по специальному проекту с конкретной датой и государствообразующей функцией»4,5,6 с использованием западноевропейских декоративных и строительных приемов в период пребывания в Александровской Слободе Василия III в 1508–1513 гг., хотя и оспаривалось некоторыми учеными (иную точку зрения имели С.С.Подъяпольский7 и А.Л.Баталов8,9), думается, все-таки может служить основанием для продолжения работ именно в этом направлении.
В пользу предложенной В.В.Кавельмахером датировки ансамбля началом XVI в. (имеется в виду каменное строительство, а не деревянное) говорят и более ранние работы, и современные находки. Так, археологические изыскания 1951 г. Н.В.Сибирякова обнаружили остатки памятника XVI в.10, анализ которых позволил очень опытному реставратору отнести их к началу столетия.
Археологические исследования 2003 г. на участке, примыкающем к юго-восточному углу Успенской церкви, проведенные М.В.Фроловым11 (анализ погребенного гумуса, перекрытого выбросом из фундаментного рва церкви Успения, и ряд других находок) также подтверждают датировку храма временем Василия III.
Работы В.В.Кавельмахера на памятниках Александровской Слободы сопровождались уникальными археологическими находками, обогатившими собрание музея-заповедника: документ 1618 г. – письмо польского офицера, найденное в забутовке стены Распятской церкви-колокольни; белокаменные профилированные блоки и ряд других.
Особый комплекс в музейном собрании представляют около сорока графических реконструкций, выполненных ученым в середине 90-х гг. и основанных на практических изысканиях: реконструкции фасадов 1513 г. всех четырех храмов Слободы, реконструкции планов погребов, подклетов церквей Успения и Троицы, эскиз-реконструкция плана Покровского собора, реконструкции порталов церкви Троицы на дворце и ее разрезов; представлены варианты кирпичных облицовок церковных прясел всех великокняжеских дворцов; разработана схема приведения в экспозиционный вид западного портала Троицкой церкви – выдающегося открытия В.В.Кавельмахера (из ряда тех, которые в конце XX в. практически не встречаются), предусматривающая восстановление элементов портала и раскрытие фрагментов древнего керамического пола, также впервые обнаруженного ученым.
Реконструкции отдельных памятников дворцового ансамбля Александровской Слободы, которыми занимались и предшественники В.В.Кавельмахера, к концу XX столетия в общих чертах достаточно определились. Однако вопросы реконструкции всего дворцового комплекса Государева двора, думается, и сегодня остаются открытыми.
Безусловно, «практическая энциклопедия архитектурных форм ХVI–ХVII вв.» как охарактеризовал комплекс Александровской Слободы архитектор-ученый Полонский, требует дальнейших исследований.
И в этой связи, опубликованные работы В.В.Кавельмахера и архивные материалы по Александровской Слободе, сохраненные музеем-заповедником, а также основные раскрытия и зондажи представляют очень ценный источник для будущих исследований в данном направлении.
Большая заслуга ученого и в том, что его работы, как очень точно определил С.С.Подъяпольский12, «вернули в центр внимания историков русского зодчества» редчайший средневековый ансамблевый памятник России – Александровскую Слободу.
Исследования В.В. Кавельмахера позволили впервые достаточно полно, на мощной научной основе реконструировать очень сложный и малоизученный архитектурный комплекс, значение которого в понимании развития всей русской архитектуры XVI века крайне велико.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Назаров В.Д. Александровская Слобода в истории Российского государства XVI в. // Александровская Слобода. Материалы научно-практической конференции. Владимир, 1995 г. С. 10.
2. Полонский П.С. Рецензия на рукопись профессора А.И. Некрасова «Памятники Александровской Слободы». Рукопись. М., 1949 г.
3. Кавельмахер В.В. Бронзовые двери византийской работы из Новгородского Софийского собора в Александровской Слободе. Еще раз о происхождении Тверских врат. // Зубовские чтения. Сборник статей. Владимир, 2002 г. С. 58-78.
4. Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровской Слободы. // «Золотые Ворота». 1995 г. С. 5-110.
5. Отчеты архитектора Кавельмахера В.В. 1998–2001 г.г. Рукопись. Архив музея-заповедника «Александровская Слобода».
6. Кавельмахер В.В. Государев двор в Александровской Слободе. // Якоб Ульфельдт. Путешествие в Россию. М., 2002 г. С. 457-488.
7. Подъяпольский С.С. О датировке памятников Александровской Слободы. // Художественная культура Москвы и Подмосковья 14-начала 20 вв. Сборник статей. М., 2002 г. С. 185.
8. Баталов А.Л. Особенности итальянизмов в московском каменном зодчестве рубежа 16 в. // Архитектурное наследство, выпуск 34. Сборник статей. М., 1989 г. С. 238-245.
9. Баталов А.Л. К вопросу о датировке собора Спасо-Евфимиева монастыря. // Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в истории и культуре России. Сборник докладов. Владимир, 2003 г. С. 40-50.
10. Сибиряков Н.В. Памятники архитектуры Успенского монастыря в городе Александрове и производившиеся по ним исследовательские работы и ремонтно-реставрационные работы. // Стенограмма Всероссийского совещания специальных научно-реставрационных мастерских и органов охраны памятников архитектуры. Владимир, 1958 г. С. 141-171.
11. Фролов М.В. Отчеты об археологических исследованиях 2003 г. на территории музея-заповедника «Александровская Слобода». Рукопись. М., 2003 г. С. 1-27.
12. Подъяпольский С.С. Указ. соч., с. 161.
Ранее опубликовано в кн.: «Зубовские чтения», вып. 3. Струнино, 2005 г., с. 5-11.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
С.В. Заграевский
НЕМНОГО О МОЕМ ОТЦЕ
Рассказ о моем отце Вольфганге Вольфганговиче Кавельмахере я начну от истоков ХХ века, точнее – от 18 декабря 1903 года, когда родилась моя бабушка, Елена Александровна Кавельмахер, урожденная Колобашкина.
Ее отец Александр Николаевич был младшим сыном купца второй гильдии, наследство получил мизерное и, несмотря на потомственное почетное гражданство, работал клерком в банке. У него было несколько братьев и сестер, но все они исчезли в революцию.
Мать Елены Александровны, моя прабабушка Александра Васильевна была дочерью Василия Руднева, архимандрита Данилова монастыря. По словам моего отца, Руднев был типичным священником конца XIX века и напоминал современные «новорусские» аналоги. До того, как занять пост даниловского архимандрита, Руднев был настоятелем церкви «Живоначальной Троицы» на Шаболовке, 25, и перестроил свой храм в «псевдорусском» стиле.
Жили Колобашкины на Первой Мещанской (проспекте Мира) в квартире из нескольких комнат. Сразу после революции их «уплотнили», но им повезло – жили они небогато, «излишек» жилплощади был небольшим, и на него вселились не посторонние, а их бывшая домработница.
Александр Васильевич Колобашкин умер в 1924 году, еще в двадцатом заболев от постоянного недоедания. Голод грозил каждому, и спасение было одно – паек. Уже в 1919 году бабушка, только-только окончив гимназию (уже называвшуюся «единой трудовой школой»), была вынуждена устроиться в Госбанк машинисткой.
В середине двадцатых она познакомилась с моим дедом – Вольфгангом Альфредовичем Кавельмахером, немцем, сыном управляющего ликеро-водочного завода Штриттера (не знаю, как этот завод называется сейчас). Мой прадед, Альфред Федорович Кавельмахер, управлял заводом, а прабабушка, Эльза Эмильевна, управляла немалой семьей: у деда были и братья – Фридрих, Курт и Эдгар, и сестры – Зигрид и Эльза.
Когда умер Альфред Федорович, своей ли смертью – неизвестно, в это время семья моего отца была на Воркуте. Эльза Эмильевна умерла (вроде бы «благополучно», то есть от старости) в конце сороковых годов. Фридрих оказался в Красной Армии и исчез в начале двадцатых, Курт работал на КВЖД и исчез в тридцать восьмом. Впрочем, потом стало известно, что он погиб в Котласских лагерях. Эдгар умер от туберкулеза то ли в тюрьме, то ли в Соловках около 1930 года.
Тети моего отца, Зигрид и Эльза, дожили до конца семидесятых. О них больше не знаю ничего, так как, по версии бабушки Елены Александровны, в 1937 году они «отреклись» (якобы написав в НКВД соответствующее заявление) и от брата Вольфганга, и от его семьи. Впрочем, скорее всего, никакого «официального отречения» не было, а просто побоялись продолжать общение.
Судьба страны в зеркале одной семьи…
В двадцатые годы Вольфганг Альфредович «вечно» учился в Тимирязевской академии. Высшего образования он в итоге так и не получил. Но зато был импозантен внешне – высокого роста, худощавый, голубоглазый, русоволосый. Неудивительно, что им увлеклась машинистка из Госбанка и они в 1925 году поженились.
Как они жили – не знаю. Думаю, была стандартная «клерковская» семья – дед где-то работал, а у Елены Александровны было редчайшее по тем временам достоинство – собственная жилплощадь.
22 января 1933 года у них родился сын. Назвали его в честь отца – Вольфом, то есть Вольфгангом Вольфганговичем. Кто мог подумать, сколько мытарств ждало человека с такими «Ф.И.О» в самом недалеком будущем! И бабушка, Елена Александровна Колобашкина, взяла немецкую фамилию мужа и носила ее всю жизнь.
В 1933 году в Германии пришел к власти Гитлер, в 1934 году в СССР убили Кирова. Деда – немца, то есть «ненадежный элемент», – посадили практически сразу. 58-я статья, «литера КРД» («контрреволюционная деятельность»). Дали ему обычный для 1934 года срок – пять лет. «Десятку» тогда еще давали редко.
Бабушка осталась работать в Госбанке. Ее не уволили – это был 1934, а не 1937 год, к тому же она была тихой беспартийной машинисткой, и не секретаршей какого-нибудь начальника, а сотрудником машбюро. Ниже некуда.
От деда она не отказалась (в смысле одностороннего развода), хотя ей это многие советовали. Впрочем, она была абсолютно права: в НКВД, если надо было выполнять разнарядку на «жен врагов народа», на такие «разводы» никакого внимания не обращали.
В 1935 году для бабушки прозвучал «второй звонок» – ее арестовали. Правда, всего на один день. В то время у людей отбирали золото – оно было очень нужно стране, а «несознательные граждане» добровольно сдавать его не спешили.
История скорее анекдотичная, но уже достаточно страшная. У Александры Васильевны, матери Елены Александровны, были какие-то странности, выражавшиеся в мелочах. Одной из таких мелочей было то, что она собирала цветные стекляшки, складывала их в железную банку от «ландринок» и прятала. Соседи увидели, как она что-то прячет, и «стукнули» в НКВД.
Бабушку арестовали, привезли в тюрьму, и следователь ее повел в какой-то небольшой зал типа театрального. Ее вывели на сцену, в зале сидели какие-то люди и улюлюкали, а следователь угрожал разрезать ее годовалого сына (т.е. моего отца) на куски, если она не выдаст золото. Прямо «шоу» (интересно, что нечто подобное описывал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита»).
Бабушка только рыдала, а золото, естественно, не выдала ввиду его отсутствия. Ее отвели в камеру и велели подумать, а потом внезапно выпустили. Оказалось, что в это время в квартире был обыск, Александра Васильевна показала коробку от «ландринок», следователь страшно матерился, и все кончилось, как в сказке.
И сидела Елена Александровна в машбюро, и печатала, пока не прозвенел «третий звонок». Это было начало августа 1937 года, когда бабушке пришла повестка о том, что к ней, как к «жене врага народа», применена «бессрочная административная ссылка» в город Березов. Одновременно семья уведомлялась о выселении из квартиры. Это означало, что приходилось брать с собой пожилую мать и четырехлетнего сына.
Впрочем, другого выхода все равно не было. Гораздо позже, в 1956 году, моя прабабушка Александра Васильевна неожиданно получила справку о реабилитации вместе с Еленой Александровной. Все были удивлены, но выяснилось, что прабабушке тоже дали «вечную ссылку», только повестка в 1937 году почему-то не дошла.
Вещи отправили по железной дороге «малой скоростью» (их получили больше года спустя). Сами, естественно, тоже ехали поездом. По рассказам отца, его первые детские воспоминания, буквально потрясшие его, – увиденные из окна вагона храмы Троице-Сергиева. Возможно, именно это в будущем и определило его профессию, но до этого было еще далеко.
Приехав в Березов, бабушка узнала, что ссыльных чересчур много, и всех отправляют пароходами по Оби на север, в Салехард (бывший Обдорск) – город около устья этой реки.
Сейчас Салехард – центр Ямало-Ненецкого округа, туда ходят поезда, плавают корабли Северным морским путем, вывозят лес, в округе добывают нефть. Тогда же вокруг Салехарда нефть еще не нашли, и даже лесоповалов почти не было – слишком далеко было возить бревна: «Севморпуть» еще не освоили, железную дорогу не построили, а вверх по течению Оби лес не сплавишь. Город был настолько тихим и заштатным, что и городком назвать было трудно.
Наступила страшная зима 1937–1938 годов. Бабушку на работу никуда не брали – ссыльная, еще и с немецкой фамилией. Заключенные погибали от непосильного труда, но их хотя бы формально обязаны были как-то кормить. Со ссыльными получалось наоборот: не нашел работу – так умирай от голода, никто о тебе даже формально заботиться не обязан. А что за работа могла быть в Салехарде?
Жили в бараке, потом в землянке – там хотя бы температура была плюсовой. Четырехлетний отец тяжело заболел от холода и недоедания, выжил чудом – бабушка не отдала его на верную смерть в переполненную, ледяную больницу и выходила сама. В это время Елена Александровна с Александрой Васильевной кое-как зарабатывали… пилкой дров.
В итоге, как ни парадоксально, спасла церковная метрика бабушки, где было сказано, что ее девичья фамилия – Колобашкина, и что она «крещена в православие». Елена Александровна с этим «нетипичным» документом пошла в местное управление НКВД, и начальник, увидев, что она не немка, а русская, взял ее на работу машинисткой. Бумаг было море, а умение печатать было тогда большой редкостью. К тому же колоссальный поток ссыльных 1937–1938 годов прошел, и квалифицированные кадры в Салехард больше не поступали.
Наступил 1940 год. Дедушка Вольфганг Альфредович освободился из лагеря и получил «вечную ссылку» на Воркуте. Центр Печорского угольного бассейна Коми АССР – тоже, как говорится, не Сочи, хотя и несколько ближе к Европе, чем Салехард. Но все-таки на Воркуте добывали уголь, и там ссыльным было легче.
Бабушка, использовав появившиеся за время работы в управлении НКВД «полезные знакомства», смогла изменить место ссылки с Салехарда на Воркуту. Дед нанял (за вечную российскую валюту – водку) несколько ненецких саней с оленями и летом 1940 года перевез семью через Северный Урал. Как ни странно, такое путешествие было не особо сложным, во всяком случае, куда проще и дешевле, чем вверх по Оби на пароходе, а потом со множеством пересадок по железной дороге. Тогда железнодорожная ветка Воркута – Салехард еще не была построена.
На Воркуте Кавельмахеры поселились в поселке Рудник (ударение традиционно ставится на первом слоге). Собственно, селиться было больше негде – на самом деле это не поселок, а старейший (тогда и единственный) городской район. Центр Воркуты в начале шестидесятых годов «перешагнул» реку, и сейчас там вполне современные многоэтажки, а поселок Рудник недавно – на рубеже тысячелетий – пришел в полное запустение. В середине восьмидесятых еще был цел деревянный двухэтажный дом-барак, где жила моя бабушка с моим отцом. Сейчас на месте Рудника – сплошные руины, и этого дома тоже, наверное, уже нет.
А при Сталине город был весь окружен лагерями, каждая шахта (действующих было около двадцати пяти) была «ОЛП» («отдельным лагерным пунктом»), и получилось, что весь город стал одной большой зоной. Поезда привозили в «Воркутлаг» зэков, а увозили уголь.
Елена Александровна без особых проблем устроилась машинисткой в адмчасть шахты «Рудник», то есть в систему НКВД. А это даже для ссыльной означало неплохие пайки, ребенку – детский сад, семье – две комнаты в отапливаемом бараке. Впрочем, в землянке пожить пришлось, но недолго – пару месяцев после приезда.
Дед работал геологом в Геологоразведочном управлении, и все было «хорошо». Но началась война.
Осенью 1941 года Вольфганга Альфредовича – немца – «в административном порядке» (т.е. не только без суда или хотя бы «Особого совещания», но и без следствия) отправили на лесоповал в ту же Коми АССР, только немного южнее – вокруг Воркуты была тундра.
Бабушка чуть снова не стала «княгиней Трубецкой поневоле» – ей, как жене немца, в 1941 году тоже было предписано покинуть Воркуту и отправиться на лесоповал. И если Вольфганг Альфредович отличался железным здоровьем и смог пережить лесозаготовительные лагеря (он умер в Москве в 1988 году), то для Елены Александровны с восьмилетним сыном и шестидесятидвухлетней матерью это означало верную смерть.
Отец рассказывал, что они уже собирали вещи и он сжег свой игрушечный самолетик, потому что он не влезал в чемодан. Можно себе представить психологическую атмосферу по той мелкой детали, что восьмилетний ребенок игрушку именно сжег.
Но семью спасли те же церковные метрики, с которыми бабушка, опять же, пошла к начальнику местного НКВД. Тот «православную» Колобашкину оставил на Воркуте, и даже работу в адмчасти она в итоге не потеряла. После войны еще и «выслужилась» до заведующей машбюро…
Насчет православия я не зря взял в кавычки – бабушка абсолютно не веровала и ни разу на моей памяти не ходила в церковь. Наверное, это можно было бы объяснить тем, что ее первый муж принадлежал к лютеранской конфессии, второй – к иудейской, и при этом оба были абсолютными атеистами. Но и прабабушка Александра Васильевна никогда не ходила в церковь, хотя и была дочерью архимандрита Руднева. Атеистом на всю жизнь остался и мой отец.
Но вернемся к Воркуте. В сороковые–пятидесятые годы там жили тяжело и голодно, но массами, как на Колыме, не умирали. Впрочем, из этого «правила» было одно исключение – страшной зимой 1941–1942 годов заключенные умирали массами. За городом было вырыто несколько рвов, и туда свозили на санях штабеля трупов.
Отец мне рассказывал, что он как-то встретил такие сани, а возчику стало плохо от голода, и он попросил девятилетнего мальчишку помочь довести лошадь до рвов. Отец помог. Все трупы, естественно, были раздеты, и никаких бирок на ногах не было – сваливали в братскую могилу, и все. Никто эти трупы не собирался потом выкапывать и идентифицировать, так что известный стереотип относительно бирок весьма сомнителен.
Отец говорил, что возчик его попросил помочь и сгрузить эти трупы, но он настолько устал по дороге в гору, что отказался. Никакого страха в отношении трупов у девятилетнего ребенка уже не было, и просьба возчика о помощи была вполне в порядке вещей. Мы сейчас можем сколько угодно ахать и охать по поводу вредного воздействия на детскую психику горы голых мороженых тел, но это были воркутинские будни. Трупы возили, ничем их не укрыв сверху.
И не только трупы и не только в 1942 году. В течение всех сороковых годов посреди города зэков и били прикладами, и стреляли – как в воздух, так и на «поражение». Периодически проходили повальные обыски, в том числе и у ссыльных. По местному радио (через громкоговорители) постоянно сообщали, кому сколько суток карцера дали и за какую провинность. До войны часто бывали сообщения и о расстрелах, но потом их стало меньше – «рабсилу» стали экономить.
А в зиму 1941–1942 годов голод был незабываемым. Это был единственный год, когда и отец, и бабушка от голода плакали – так это было мучительно. Для поддержания жизни пайки хватало, но субъективно эти скупые граммы пресного и склизкого хлеба ощущались лишь как «растравливающий» фактор.
Столь жестоко страдали от голода женщина-машинистка (с малоподвижной работой) и маленький ребенок, а каково было зэкам вкалывать в забое на гораздо меньшей пайке? Вот и гибли тысячами.
Летом на Воркуте голод был не настолько страшен, так как можно было ходить в тундру ставить силки на куропаток, чем большинство «бесконвойных» и промышляло. Да и в последующие годы продуктов не хватало, так что отец с детства постоянно охотился. И яйца собирал.
Стало легче в 1943 году, когда на Урале заработала эвакуированная промышленность и ей понадобился уголь, а Печорский угольный бассейн после потери Донбасса остался единственным в стране. Тогда и снабжение существенно улучшилось, и появилась американская «ленд-лизовская» тушенка.
С фронта на Воркуту иногда привозили бушлаты для зэков. Пробитые пулями, залитые кровью… «Гувернер» отца, писатель, герой войны в Испании, «бесконвойный» заключенный Алексей Владимирович Эйснер, получив такой бушлат с бурым пятном крови на спине, рассказывал ребенку, куда попала пуля, как вытекает кровь при том или ином попадании, и все это было вполне в порядке вещей.
Эйснер, кстати, был великолепным «гувернером», да и школа, где учился отец, была неплохой – в ней преподавали ссыльные и зэки, то есть цвет российской интеллигенции. Даже директором была весьма культурная еврейская дама с «вечной ссылкой» – парадокс сталинской системы, которая загнала в лагеря умнейших людей. И, несмотря на обилие детей НКВД-шников, атмосфера в школе была такой, что за десять лет отец запомнил только одну (!) драку двух старшеклассников, причем не просто так, а из-за девушки.
В конечном итоге это принесло свои плоды в плане образования отца. Но в войну из-за постоянной необходимости, а потом и привычки, охотиться далеко в тундре (бывало, уходил на несколько дней) он стал весьма слабым учеником. Его «поднял на ноги» только Моисей Наумович Авербах, второй муж бабушки, в будущем ставший моим «настоящим» дедом.
Моисей Наумович родился 30 декабря 1906 года в Москве. Он был сыном преуспевающего еврейского коммерсанта, купца первой гильдии («нетитулованным» евреям до революции не разрешалось жить вне «черты расселения»).
Дед закончил некую Коммерческую академию, до революции весьма элитную по купеческим меркам. Прекрасное образование он получил и дальше, закончив престижный по тем временам «Институт народного хозяйства имени Плеханова». По профессии он стал горным инженером и в 1933–1934 годах строил Московский метрополитен.
В это время выпускники студенческой группы, в которой учился Моисей Наумович, решили создать некую «общественную кассу» для взаимопомощи нуждающимся однокашникам. Вскоре какой-то «доброжелатель» сообщил в НКВД, что деньги собираются на нужды троцкистского движения.
Первый срок деда, несмотря на «литеру КРТД» («контрреволюционная троцкистская деятельность», гораздо хуже, чем просто «КРД»), был даже и не срок – три года ссылки в Туле. В этом городе дед три года благополучно проработал в некой строительной конторе. Женился он еще в Москве, а в «тульские» времена у него родился сын Юрий. Но пообщаться с сыном Моисей Наумович практически не успел – закончилась ссылка, и он вернулся в Москву, где его немедленно посадили. Для бывших ссыльных это происходило автоматически – на дворе был 1937 год.
Моисей Наумович просидел под новым следствием больше двух лет, попал под печально известное разрешение «физического воздействия», его били и сломали палец, который сросся криво (шину непрофессионально наложили в камере). Дали ему восемь лет, и он, побывав в нескольких лесоповальных лагерях Коми АССР, в 1943 году попал на Воркуту. Стране был нужен уголь, и горного инженера не могли не использовать по назначению.
Дед стал начальником вентиляции 40-й шахты и на этом посту проработал много лет. Звучит гладко – «проработал», но на самом деле Моисея Наумовича, когда у него закончился срок, «судили» еще два раза. Но и под новым следствием, и получив очередные сроки, а потом очередную «вечную ссылку», он оставался «бесконвойным» начальником вентиляции шахты.
Справедливости ради отметим, что «бесконвойных» заключенных на Воркуте было множество – весь город был одной огромной зоной, вокруг – «зеленый прокурор», то есть бескрайняя тундра, и бежать все равно было некуда. Даже для многих зэков-шахтеров передвижение по городу было относительно свободным, а для специалистов и подавно.
От начальника вентиляции зависели сотни жизней – и забойщиков, и обслуживающего персонала, и «вооруженной охраны» (от НКВД-шников иногда тоже требовалось спускаться в шахту). Примечательно, что Моисей Наумович остался начальником вентиляции и после реабилитации, а в 1961 году, после выхода деда на пенсию, его преемник оказался настолько некомпетентен, что в шахте взорвался метан, и погибло несколько десятков человек. В сталинское время гибель людей для НКВД-шного начальства сама по себе значила немного, но ЧП на угольной шахте означало срыв плана и возможное разжалование, так что, видимо, дополнительные политические «лагерные» дела в отношении Авербаха преследовали единственную цель – крепче привязать незаменимого специалиста.
Свою незаменимость дед не стеснялся использовать, но очень специфически – спасал людей. В буквальном смысле. Это были и евреи, и просто интеллигентные люди, для которых работа в забое означала либо верную смерть, либо инвалидность.
Скольких всего он спас – не знаю. Лично помню пять–шесть человек, а понаслышке – еще нескольких. Например, профессора Иликона Георгиевича Лейкина (в будущем известного неофициального аналитика советского строя, писавшего под псевдонимом Зимин) дед поставил «табакотрусом» – следить, чтобы в забой не проносили табак. Это входило в компетенцию начальника вентиляции – а ну как кто-нибудь в шахте закурит и взорвется метан?
После войны Моисей Наумович Авербах женился на Елене Александровне Кавельмахер, моей бабушке, которая незадолго до того разошлась с Вольфгангом Альфредовичем. Весьма, как говорится, «положительный» Моисей Наумович стал крайне серьезно относиться к своим обязанностям главы семьи.
Мой отец учился в школе достаточно плохо, к тому же ему было тринадцать лет – так называемый «переходный возраст». Дед, несмотря на естественное сопротивление ребенка (кто же любит въехавшего в квартиру отчима и не ревнует к нему мать?), немедленно взялся за его «дисциплинирование». В итоге отец получил самое блестящее образование, которое только можно было себе представить в то время.
И бабушка Елена Александровна, пообщавшись с воркутинским «коллективом» и с Моисеем Наумовичем, стала живо интересоваться искусством и литературой. И, наконец, стала антисталинисткой. До этого она, хотя интуитивно Сталина и недолюбливала, но в репрессиях ни в коем случае не винила, просто, как и миллионы других, считала, что только с ней и еще с несколькими произошла трагическая ошибка…
Мой отец Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина не любил с детства. Вольфганг Вольфгангович и в комсомоле не был – детей ссыльных туда не особо звали, и он как-то обошелся.
В 1950 году он окончил школу. Институтов в Коми АССР не было, и встал вопрос: что делать дальше? Оставаться на Воркуте означало ждать посадки: все «уголовные дела» его родителей были у местного НКВД, и оно не преминуло бы привязать к себе лишнюю бесплатную трудовую единицу. Надо было поступать в высшее учебное заведение, и все решили, что это должна быть Москва. Главное было – выехать с Воркуты, а там уже неважно, куда, да и в большом городе было проще «затеряться».
Впрочем, на «семейном совете» было решено, что на случай будущего ареста Вольфганг Вольфгангович должен поступать в строительный или архитектурный вуз – в лагерях профессиональному строителю было легче выжить.
Как отец получил паспорт и вырвался из Коми АССР – об этом можно было бы написать детективный роман. Сталин-то был еще жив.
Были «подняты» все связи и Моисея Наумовича, и бабушки, и в итоге Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер собирался в Москву с «чистой» характеристикой и «чистым» паспортом, то есть нигде не было указано, что отец и мать – ссыльные. Это был шанс, но оставался сам факт жизни на Воркуте. Все знали, что это такое. А кроме вступительных экзаменов, во всех институтах тогда было «собеседование» – фильтр для отсеивания «неблагонадежных».
И вот тут вспомнили, что Елена Александровна работает в лагерной адмчасти, то есть в системе НКВД! И она получила для Вольфганга именно такую справку, в которой было сказано, что его мать работает в этой системе.
Откровенная казуистика, все заключенные тоже «работали» в системе НКВД, но эта справка спасла отца при поступлении в Московский инженерно-строительный институт. На собеседовании он ее предъявил, и вопросов больше не было. А через год отец перевелся в Архитектурный.
Как трудно было отцу в Москве на первых порах! Жил он сначала у гимназической подруги бабушки, причем семейная легенда гласила, что он, приехав, два часа стоял под дверью, ибо стеснялся позвонить. Да и каково было юноше, всю жизнь прожившему среди северных лагерных зон, оказаться в огромном городе со столичными правилами и нравами?
Кстати, отец всю жизнь (даже находясь «на постоянном месте жительства» в Германии) ел только черный хлеб, потому что привык к нему с детства. А вот ни бабушка, ни дедушка черный хлеб не ели – как выражалась Елена Александровна, «наелись». Вот такие психологические парадоксы.
После реабилитации в 1956 году Моисей Наумович и Елена Александровна доработали на Воркуте до пенсии, за это время выхлопотав себе двухкомнатную квартиру в Москве, на Калужской заставе. В столицу они в итоге переехали только в 1961 году, но до этого, еще на Воркуте, у них появился полный трудовой стаж и, соответственно, большие северные надбавки. Они высылали отцу достаточно приличные суммы, на которые он покупал книги, а стипендию платил за снимаемую комнату.
«Пенсионерскую» жизнь в Москве ни дед, ни бабушка вести не стали. Закалившись в борьбе с НКВД, Моисей Наумович Авербах оказался неплохо подкован юридически и это использовал. После двадцати лет лагерей он никого и ничего не боялся и, числясь в какой-то «комиссии народного контроля», фактически подрабатывал адвокатом.
А еще Моисей Наумович писал (еще с воркутинских времен) большой автобиографический роман. Стиль и язык у него были неплохими, спокойно-реалистичными, но, по моему мнению, ему не хватало умения вовремя останавливаться. Роман охватывал времена сталинского террора, назывался «К вящей славе Господней» и составлял более девятисот машинописных страниц (бабушка их многократно перепечатывала, что само по себе было героизмом). Все попытки опубликовать хотя бы первую часть романа во время хрущевской «оттепели» 1956–64 годов натыкались на вежливые отказы редакций. Впрочем, в этих отказах политическая конъюнктура тоже играла роль – и Гроссмана, и Солженицына публиковали выборочно, потом и «оттепель» кончилась, а роман Моисея Наумовича был «лагерным» и антисталинским.
Недавно я сделал для отца Интернет-сайт (www.kawelmacher.ru). На этом сайте есть и раздел, посвященный моему деду. Туда же я выложил и отсканированный мною роман. Кто захочет, до конца дочитает…
Параллельно с романом, в последние годы жизни на Воркуте, дед написал несколько очень неплохих рассказов, опубликованных после его смерти (уже в «перестройку») в местной газете. Они тоже есть на сайте.
А бабушка, профессиональная машинистка (при этом интеллигентнейший и образованнейший человек) печатала историку Рою Медведеву, профессору Иликону Лейкину (Зимину), Варламу Шаламову, Василию Гроссману и многим другим.
Завершая рассказ о родителях отца, скажу, что Моисей Наумович умер в 1982 году, а Елена Александровна – в 1992-м.
В 1959 году отец женился на Инне Михайловне Заграевской, моей матери. 20 августа 1964 года у них родился сын, то есть автор этих воспоминаний. Сначала наша семья жила в однокомнатной квартире на Ломоносовском проспекте, а в 1970 году мы переехали в двухкомнатную квартиру в высотном доме на Ленинградском шоссе, недалеко от Речного Вокзала. Тесть и теща Вольфганга Вольфганговича жили в том же доме этажом ниже, и большую часть времени я проводил там: и отец, и мать (поэт и драматург, а до 1978 года – доцент химии) уходили из дома рано утром и возвращались поздно вечером.
Конечно, нельзя сказать, что моим родителям было «не до ребенка», но людьми они были крайне занятыми. Впрочем, некаждодневность общения имела и свои плюсы: я прекрасно помню и все разговоры с отцом и матерью, и все то, чему они меня учили – и в плане психологическом, и в плане профессиональном (речь идет о литературе, живописи и истории архитектуры, так как химию моя мать ненавидела и бросила ее немедленно по выслуживании «пенсионного стажа»).
Вольфганг Вольфгангович, окончив в 1957 году Архитектурный институт, устроился в «Республиканскую научно-производственную реставрационную мастерскую», причем не архитектором, а белокаменщиком – возможно, по младости лет польстился на большие заработки (бабушка Елена Александровна в связи с этим прислала ему с Воркуты характерную телеграмму: «хождение народ было модно прошлом веке каменщиком можно быть не закончив семилетки твои намерения не отличаются мудростью»).
Тем не менее, очень скоро, в течение пары-тройки месяцев, Вольфганг Вольфгангович получил пятый разряд из шести возможных, и это приносило немалые деньги (много десятилетий спустя отец вспоминал, что никогда потом столько не зарабатывал). Да и, наверное, дело было не только и не столько в деньгах, – это был ценнейший опыт практического познания основ реставрационного дела.
А тесал он белый камень для Кадашей – тогда как раз шла реставрация Воскресенской церкви под руководством Галины Владимировны Алферовой. Помню эпизод, весьма полно характеризующий Вольфганга Вольфганговича: когда Алферова в книге о реставрации храма, перечисляя свою «команду», назвала отца архитектором, он устроил скандал (!), что на самом деле он был рабочим. И это при том, что у него уже был институтский диплом, то есть формальное право называться архитектором он имел.
А во всех экземплярах книги Алферовой, хранившихся у нас дома, было зачеркнуто «архитектор В.В.Кавельмахер» и подписано: «Это неправда! Я был белокаменщиком». Не знаю, может ли порядочность быть гипертрофированной, но если да, то отец – как раз такой случай.
И стоит ли говорить, как раздражал Вольфганг Вольфгангович свое советское начальство резкими «диссидентскими» высказываниями и демонстративным пренебрежением всяческими политинформациями, профсоюзными собраниями и прочей советской ерундой? Неудивительно, что из любой мало-мальски престижной конторы его быстро «просили». Насколько я понимаю, и с Алферовой у него отношения оказались безнадежно испорченными – она-то, когда назвала его в книге архитектором, хотела как лучше…
Сменив пару «архитектурных» мест работы и нигде надолго не задержавшись, отец поступил в аспирантуру Института истории искусств по специальности «литературоведение» и стал готовить диссертацию о Блоке.
В принципе, ничего удивительного в такой смене профессии нет. Даже в начале семидесятых годов отец относился к своей реставрационной работе как к некой рутине, а его подлинной любовью была поэзия. Когда его «захватила» история архитектуры, ему уже было за сорок.
А в середине шестидесятых с диссертацией получилось вполне в духе Вольфганга Вольфганговича: он ее полностью написал, и оставалось только обязательное «марксистско-ленинское» вступление. На нем-то он и «сломался», и отказался от защиты. Еще один «штрих к портрету».
Пару лет после аспирантуры отец проработал инженером в институте… «Центрогипрошахт». И только в конце шестидесятых он, наконец, «зацепился» за должность архитектора в незадолго до того созданном тресте «Мособлстройреставрация». Работа была с объектами по всей Московской области, уезжать из дома приходилось рано утром, возвращаться – поздно вечером, но это для отца оказалось куда более привлекательным, чем «протирание штанов» в конторе.
Трест «Мособлстройреставрация» вряд ли можно было называть «захудалым» – даже по советским меркам это была достаточно масштабная контора, ведущая реставрационные работы по многим десяткам, если не сотням памятников архитектуры. Приоритет всегда отдавался «физическому» восстановлению памятников (начальство треста любило напоминать архитекторам, что они – «придатки производства»), но параллельно в минимально необходимом (а по современным понятиям – весьма значительном) объеме велись и исследовательские работы.
Впрочем, несмотря на «производственные приоритеты», по непонятным причинам трест никогда не выполнял советский «план». Соответственно, сотрудникам не платились премии. У отца был оклад 160 рублей (лет пятнадцать спустя, когда отец стал «завотделом», оклад дошел до двухсот – опять же, безо всяких премий). А исключительная порядочность не позволяла ему «входить в долю» с вороватыми строителями-подрядчиками.
Супруга – доцент химии – получала 320 рублей, да и мои дедушки с бабушками имели вполне солидные 120-рублевые пенсии, то есть отец был периодически попрекаем за «безденежность». А когда Инна Михайловна в 1978 году бросила химию, возникла обратная ситуация: на 180-рублевый заработок Вольфганга Вольфганговича стали жить трое – отец, мать и я.
Словом, сначала Вольфганг Вольфгангович получал меньше всех в семье, а потом стал получать больше всех, но все равно очень мало. Возможно, именно это (конечно, в сочетании с приобретенным на Воркуте аскетизмом) определило его абсолютное «бессребренничество». Показательный пример: с тех пор, как сын вырос, стал самостоятельно зарабатывать и сравнялся с отцом в габаритах (это произошло в середине 1980-х), у отца не появилось ни одной новой вещи. Весь мой «секонд хенд» (одежда, обувь, портфели, фотоаппараты и пр.) переходил в порядке «обратного наследства».
Чем питался Вольфганг Вольфгангович – вспомнить очень легко. Бульон из говяжьих костей, черный хлеб и чай с сахаром, летом иногда яблоки – вот вся его еда на протяжении и шестидесятых, и семидесятых, и восьмидесятых годов. Как ему с его весьма солидной комплекцией удавалось при таком рационе не только «таскать ноги», но еще и обладать огромной физической силой, – можно только гадать.
И ведь речь о бульоне из костей шла только по вечерам! Утром (а вставал отец всегда в шесть утра, так как у него не было будильника, а по радио в это время громко играли гимн) – чай, кусок хлеба, и на вокзал. Час–два в электричке, полчаса–час на автобусе, полчаса–час пешком – и реставратор на объекте. Днем – тяжелый физический труд (в условиях вечной нехватки «рабсилы» архитекторы-реставраторы сами и пробивали шурфы, и раскапывали фундаменты, и клали кирпич), на обед – буханка хлеба с водой (иногда с «сивухой-бормотухой» – чудовищным советским портвейном), вечером – обратная дорога, столь длинная, что если даже что-то днем пили, то до дома успевали полностью протрезветь. Во всяком случае, несмотря на многочисленные воспоминания и самого отца, и его коллег о постоянных «возлияниях» на объектах, я отца пьяным не видел ни разу в жизни.
Вольфганг Вольфгангович даже рассказывал, что иногда его после раскопок не хотели пускать в метро – грязный, оборванный, еще и «поддатый»… Выручало ярко-красное трестовское удостоверение с солидно выглядевшей должностью – «старший архитектор», «зам. нач. отдела», «нач. отдела». Именно такой «трудовой путь» отец прошел в тресте «Мособлстройреставрация» за двадцать лет работы в нем.
А в середине семидесятых годов из производственника-реставратора отец стал превращаться в историка древнерусской архитектуры.
К чертежам архитектурных деталей и реконструкций храмов, которыми был заполнен наш дом, прибавились горы рукописей: все выходные дни Вольфганг Вольфгангович безвылазно сидел дома и писал. Как ни парадоксально, несмотря на легкий, «летящий» литературный стиль (особенно это заметно в эпистолярном жанре), отец писал очень тяжело. Горы «полевых заметок» и фотографий, один–два невообразимо исчерканных черновика, два–три «чистовика» с многочисленными правками – так создавалась любая из отцовских статей. Даже личные письма он сначала писал начерно, а потом правил и перепечатывал.
Огромной психологической нагрузкой для Вольфганга Вольфганговича были научные доклады. Во-первых, он всегда испытывал неловкость при публичных выступлениях (возможно, негативную роль играли «воркутинские» комплексы). А во-вторых, занимаясь московским зодчеством XV–XVI веков, он попал в одну «экологическую нишу» с облеченными чинами и учеными званиями Львом Артуровичем Давидом, Борисом Львовичем Альтшуллером и Сергеем Сергеевичем Подъяпольским. А они, к сожалению, постоянно давали понять «производственнику» Кавельмахеру, что он – историк архитектуры «второго сорта», и если его вообще терпят на конференциях, то только из уважения к его практическому опыту реставратора. И, по всей видимости, любое его историко-архитектурное открытие воспринималось ими с удивлением, переходящим в раздражение.
А уж ожидать «сглаживания острых углов» со стороны Вольфганга Вольфганговича, всю жизнь «резавшего правду», и вовсе не приходилось. В итоге дружеские (и то не вполне) отношения у отца из его поколения историков раннемосковского зодчества сложились только с Всеволодом Петровичем Выголовым.
Конечно, ни в коем случае нельзя забывать о том, что к отцу очень тепло относился Петр Дмитриевич Барановский. К примеру, отец рассказывал, что, когда он был прикомандированным к Барановскому молодым специалистом, Петр Дмитриевич привязывал его к стулу. Отец якобы часто выходил прогуляться, подышать воздухом, а Барановский хотел, чтобы он сидел и чертил, и однажды неожиданно взял толстую веревку, довольно крепко обвязал отца вокруг пояса и привязал к стулу, и тот чертил привязанным, пока Петр Дмитриевич не решил, что научил молодого специалиста усидчивости.
Конечно, привязывание к стулу сильно похоже на легенду (хотя эксцентричность Петра Дмитриевича хорошо известна). Но и безо всяких легенд ясно, что Барановский в свое время фактически стал учителем отца и передал ему множество «профессиональных секретов».
Но в конце 1970-х–начале 1980-х Петр Дмитриевич уже был очень стар, и, как ни прискорбно это констатировать, с ним мало кто считался.
Соответственно, почти ни один доклад Вольфганга Вольфганговича не прошел гладко, ни одно его научное открытие не было принято без «боя». Лично помню, как отец на докладе о Борисоглебском соборе в Старице дискутировал с весьма агрессивным и весьма «подпитым» Давидом. Диспут сразу же перешел на уровень взаимных личных выпадов в адрес реставрационного профессионализма обоих оппонентов.
Конечно, отец ни от Давида, ни от Альтшуллера, ни от Подъяпольского, ни от какого-либо министерского или партийного начальства не зависел. И все же, конечно, ему было непросто работать в качестве историка архитектуры, постоянно преодолевая последствия негласно принятого решения «не пускать Кавельмахера в науку».
Неудивительно, что за всю жизнь отец не «удостоился» никаких ученых званий и степеней. Его единственной государственной наградой была медаль «Ветеран труда», которую выдали в 1986 году по представлению треста «Мособлстройреставрация» (отец в шутку называл эту медаль «Станиславом третьей степени»).
А в начале девяностых отец получил весьма почетное, но уже абсолютно не нужное ему удостоверение «реставратора высшей категории» – по представлению того же, к тому времени уже почти распавшегося, треста. В «Мособлстройреставрации» отца искренне любили, несмотря на все его «острые углы». Макс Борисович Чернышев, Станислав Петрович Орловский, Николай Дмитриевич Недович, Аркадий Анатольевич Молчанов, ныне покойный Николай Николаевич Свешников, – этих коллег отца я помню с детства. И какие бы реорганизации с трестом ни происходили, чем бы он ни занимался, я не буду поминать его неудобопроизносимое название иначе, чем добрым словом.
Не могу не вспомнить поздравление моего отца коллегами по тресту в связи с его 50-летием в 1983 году. Называлось оно «отрывками из воспоминаний гражданки Пятницкой, уроженки Сергиева Посада, ныне г. Загорск» (естественно, имелась в виду Пятницкая церковь на Подоле).
Я вся дрожу, я меркну, словно тень,
Как только вспоминаю, как когда-то
Ко мне почти что каждый божий день
Ходил разбойник этот бородатый.
Ох, как он пылко на меня глядел,
И на какие выходки решался!
На месте ни минуты не сидел:
Все под Подол забраться покушался!
И вот в один прекрасный день забрался,
И что-то интересное нашел,
И мигом слух до Балдина дошел,
Что тот во мне все время ошибался…
Как Балдин, бедный, это пережил?
Ведь он ко мне неравнодушен был!
А наш герой мгновенно охладел,
И в тот же миг исчез без промедленья,
Исчез тотчас, как только углядел
Другой объект для пылкого томленья…
Он обо мне ничуть не горевал,
Оставив мне в удел одни страданья,
Такой объект в Можайске отыскал
И на него направил все старанья.
При этом, как всегда, от нетерпенья
На месте ни минуты не сидит:
Копает сам и сам руководит,
Пудовые ворочает каменья,
И швец, и жнец, и на дуде игрец…
И молодец… Ей-богу, молодец!
В «свободный полет» отец отправился в конце восьмидесятых годов, еще некоторое время числясь в тресте «главным специалистом», но занимаясь уже исключительно историей архитектуры. В это время началось его тесное и плодотворное сотрудничество с музеями Александровской Слободы, Московского Кремля, собора Покрова на Рву, Истры и Коломны – музейные работники всегда умели ценить бескорыстную помощь исследователей и сами помогали им, как могли. Конечно, бывали досадные исключения, но Алла Сергеевна Петрухно, Татьяна Петровна Тимофеева, Татьяна Дмитриевна Панова, Любовь Сергеевна Успенская, Ирина Яковлевна Качалова и многие другие руководители и сотрудники российских музеев стали настоящими друзьями и коллегами отца.
В середине–конце девяностых годов «подросло» новое поколение археологов, реставраторов и историков, у которых имя Вольфганга Вольфганговича Кавельмахера уже ассоциировалось с высочайшим профессионализмом, широким кругозором, глубокой проработкой каждого вопроса, скрупулезностью в изложении фактов и, наконец, с порядочностью, бескорыстием и самоотверженностью.
Но, к сожалению, нельзя сказать, чтобы отец оказался окружен восторженными почитателями и внимательными учениками, – историков архитектуры и было, и осталось очень мало, и все слишком заняты собственными проблемами выживания в «рыночной экономике». Два-три случайных студента-дипломника (отец из-за отсутствия ученой степени даже не имел права официально называться их научным руководителем), одна-две лекции, трое-четверо «младших коллег», периодические консультации, когда историей архитектуры серьезно занялся родной сын, – вот, пожалуй, и все общение Вольфганга Вольфганговича с «племенем младым, незнакомым». И это при том, что на любой вопрос он в любой момент был готов дать самый развернутый и квалифицированный ответ, причем делал это с плохо скрываемым удовольствием.
Ну, а любое возражение против позиции отца означало с его стороны долгую полемику с полной самоотдачей – привлечением всей возможной аргументации, ссылок на соответствующую литературу, иногда разговор на повышенных тонах с множеством личных выпадов, обвинений в поверхностности, дилетантизме, невнимательности и прочих «смертных грехах». Итоги полемики могли быть самыми разными, но важно то, что Вольфганг Вольфгангович в любой момент, по выражению Алексея Ильича Комеча, «готов был броситься в бой с открытым забралом».
Принято говорить, что до самой старости человек был… Фактически отец до старости не дожил (разве в наше время 71 год – это старость?), поэтому скажем так: всю жизнь он был физически очень сильным, невероятно выносливым человеком. Высоким (примерно 180 см), широкоплечим, с прямой спиной и великолепной осанкой. Вряд ли к Вольфгангу Вольфганговичу было применимо слово «статный» – скорее у него была фигура отставного тяжелоатлета средних весовых категорий. Определенную «наукообразность» его облику придавали только очки, борода и типичная (увы!) для большинства советских и российских научных работников дешевая застиранная одежда. Впрочем, слава Богу, в науке бедность не считалась и не считается пороком.
И, конечно, нельзя не вспомнить голос Вольфганга Вольфганговича: мягкие, обволакивающие интонации буквально завораживали слушавших его доклады (справедливости ради заметим, что в полемике он часто переходил и на весьма повышенный тон). А еще отец потрясающе читал стихи. Пожалуй, нигде больше я не слышал столь профессионального и при этом интеллигентного чтения.
Женским вниманием такой интересный и неординарный мужчина, как отец, никогда не был обойден, но при этом он был, как говорится, «образцовым семьянином», очень любил жену и, когда в 1996 году она переехала в Германию, уехал с ней. В конце девяностых Вольфганг Вольфгангович некоторое время ездил туда-сюда, но все реже и реже. В 2001 году он в последний раз провел раскопки (на Городище в Коломне), в 2002 приехал в Москву примерно на неделю, и больше в России не был.
В это время Вольфганг Вольфгангович, наконец, стал общепризнанным «патриархом истории древнерусской архитектуры» (как он выражался, «пережил всех оппонентов»). Что же произошло, почему он перестал приезжать?
Скорее всего, «сошлись» несколько факторов.
Во-первых, «семейный»: отец боялся оставлять мать одну, тем более с собачками – Инна Михайловна периодически подбирала на улице бездомных животных.
Во-вторых, «научный»: Вольфганг Вольфгангович был без первичного археологического материала как рыба без воды, а возможность проведения зондажей и раскопок практически исчезла – памятники архитектуры в массовом порядке стали передаваться Русской православной церкви.
В-третьих, «семейно-научный»: историей архитектуры профессионально занялся сын, и отец, видимо, решил, что «передал дело» (хотя и шутливо интерпретировал эту ситуацию как то, что из науки его вытеснил «новый русский»).
В-четвертых, «комфортный»: каким бы аскетом всю жизнь отец ни был, он был в восторге и от красоты Баварии, и от ее быта, и от ее климата, и от доброжелательности и любезности ее граждан. Он часто вспоминал тютчевские слова про «края, где радужные горы в лазурные глядятся озера», а как-то раз, прогуливаясь мимо кладбища, мы признались друг другу, что хотели бы оказаться похороненными не где-нибудь, а в этой изумительной земле.
Словом, Вольфганг Вольфгангович «осел» в Германии и начал учиться у супруги немецкому языку и вождению автомобиля. Последнему он обучиться так и не смог, но на поездах объехал и Баварию, и Северную Италию. Как ни парадоксально, эти годы можно назвать апофеозом его работы как историка архитектуры – подтвердились все его предположения о связях древнерусского и западноевропейского зодчества.
Иногда, когда я на неделю-другую приезжал в Германию, мы ездили смотреть соборы Баварии и Франконии вместе, и надо было видеть выражение лица Вольфганга Вольфганговича, когда он говорил что-нибудь вроде: «Посмотри, какая консоль!»
В Германии отец вставал по утрам еще раньше, чем в России – в четыре–пять. Вставал и писал. О Преображенской церкви в Острове, «Тверских вратах» в Александровской Слободе, Благовещенском соборе в Московском Кремле, храмах с «пристенными опорами» (последнее, насколько я понял по черновикам, должно было стать отзывом на мою докторскую диссертацию «Зодчество Северо-Восточной Руси конца XIII–начала XIV века). И еще – отец вернулся к литературоведению. Множество статей о поэзии моей матери, которые он написал для разных немецких издательств, вновь пробудили в нем интерес к этой научной дисциплине. Впрочем, он не раз говорил (и это правда), что знает и чувствует поэзию не хуже, а то и лучше, чем историю архитектуры.
В семь–восемь утра отец на час засыпал, а когда просыпался, начинался немецкий быт. Сад, розы, магазины, выгул собачек, ремонт дома… Его стараниями дом принял вполне «бюргерский» вид: Вольфганг Вольфгангович органически не умел что-либо делать плохо. Он или принципиально отказывался делать, или делал с полной самоотдачей.
«Надорвался» – термин не научный, но, по всей видимости, наиболее применимый к тому, что произошло. Еще с воркутинских времен обладая «северной» закалкой, отец никогда ничем не болел. Единственное, что его беспокоило на протяжении нескольких десятилетий, – повышенное давление и «отложение солей» в суставах. В благодатном баварском климате и эти проблемы возникали нечасто. А ночью с 28 на 29 мая 2004 года он заснул и не проснулся. Обширный инфаркт.
Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер похоронен на «Северном кладбище» («Nordfriedhof») в Мюнхене.
Ровесник моего отца Александр Моисеевич Городницкий когда-то написал в своей знаменитой песне:
И жить еще надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках.
Время идет. Ушло из жизни то поколение «атлантов истории древнерусской архитектуры», к которому принадлежал Вольфганг Вольфгангович. Нет П.Д.Барановского, Н.Н.Воронина, М.К.Каргера, Л.А.Давида, П.А.Раппопорта, Б.Л.Альтшуллера, С.С.Подъяпольского, В.П.Выголова, А.И.Комеча… Нет и В.В.Кавельмахера. Но настоящие ученые не умирают, они живут и в своих учениках, и в своих научных трудах. И долг нашего поколения – встать рядом с ними и помогать им держать это очень нелегкое небо.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

В.В.Кавельмахер на раскопе в Александровской Слободе. 1980-е годы.

В.В.Кавельмахер делает доклад о раскрытом им западном портале Троицкой (ныне Покровской) церкви. 1 ноября 2000 г.

Покровский (ныне Троицкий) собор. Общий вид.

Покровский собор. Западный портал с Тверскими вратами.

Покровский собор. Васильевские врата.

Троицкая (ныне Покровская) церковь. Общий вид.

Распятская колокольня. Общий вид.

Успенская церковь. Общий вид.
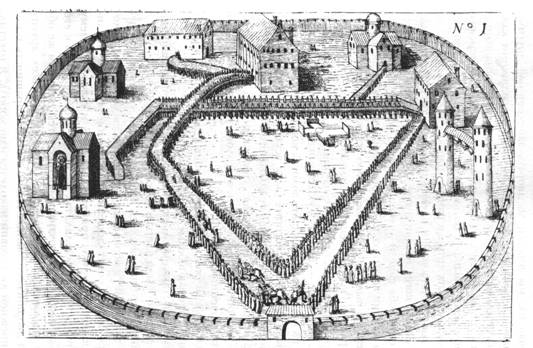
Я.Ульфельдт. Александровская Слобода. Гравюра № 1.
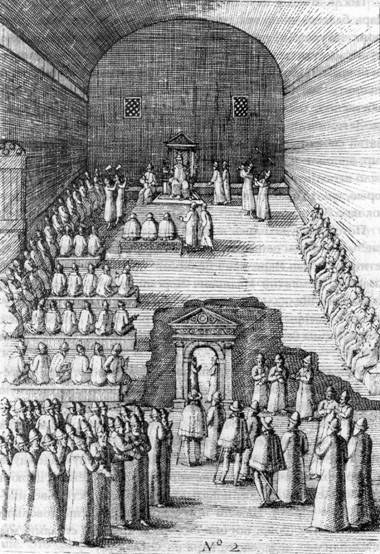
Я.Ульфельдт. Александровская Слобода. Гравюра № 2.

Я.Ульфельдт. Александровская Слобода. Гравюра № 3.

Я.Ульфельдт. Александровская Слобода. Гравюра № 4.
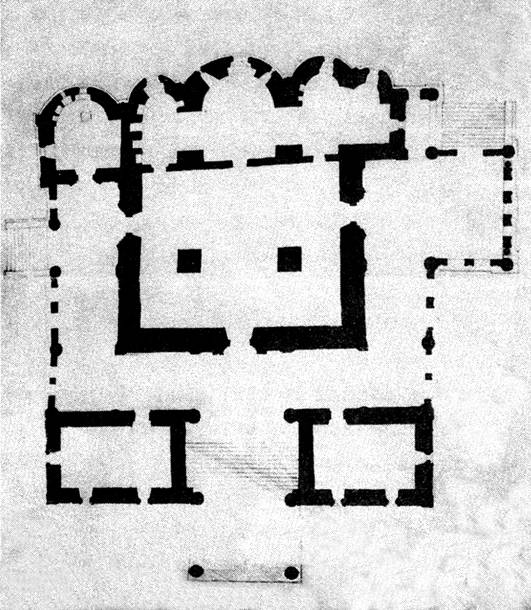
Покровский собор. План. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
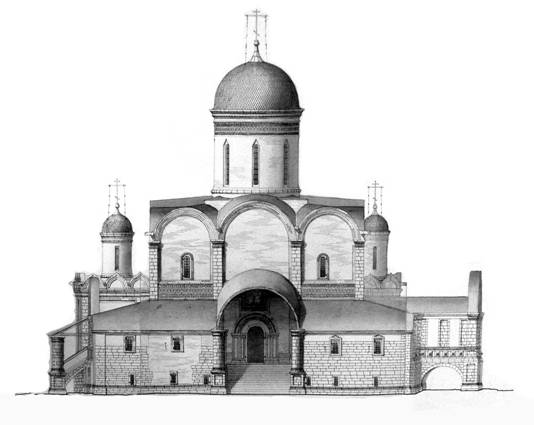
Покровский собор. Западный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
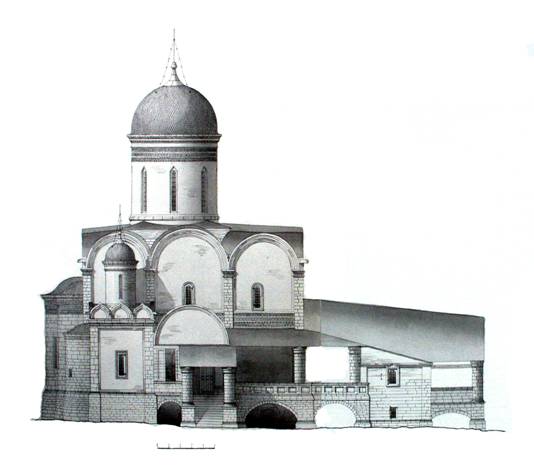
Покровский собор. Северный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Покровский собор. Восточный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
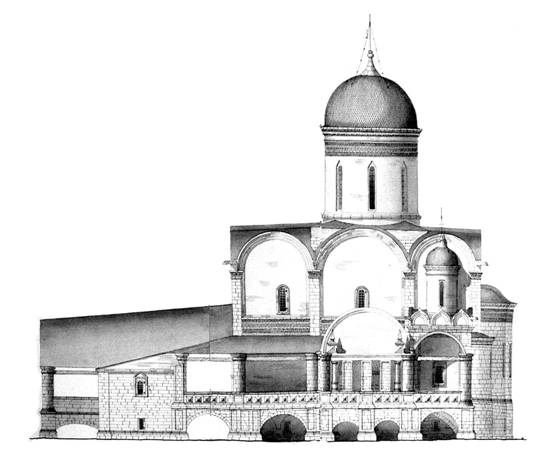
Покровский собор. Южный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
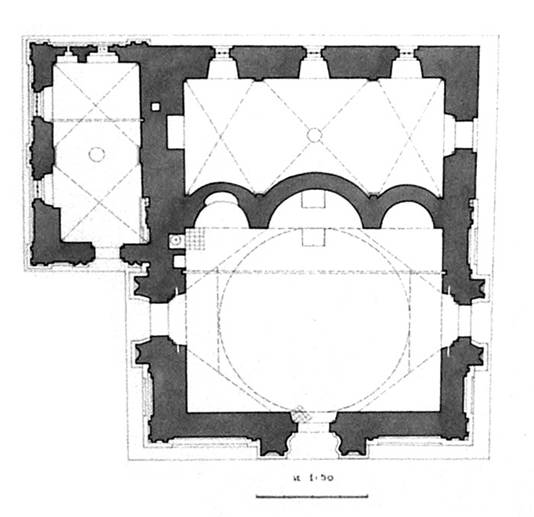
Троицкая церковь. План. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
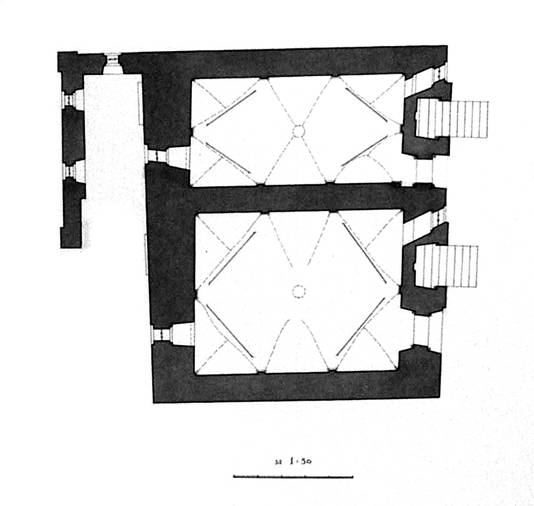
Троицкая церковь. План подклетов. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
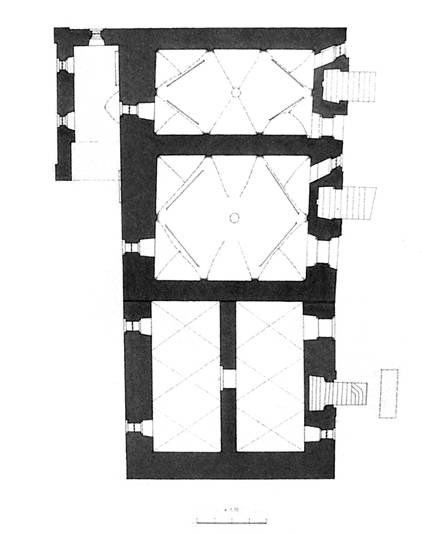
Троицкая церковь. План подклетов с пристройкой 1570-х годов. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
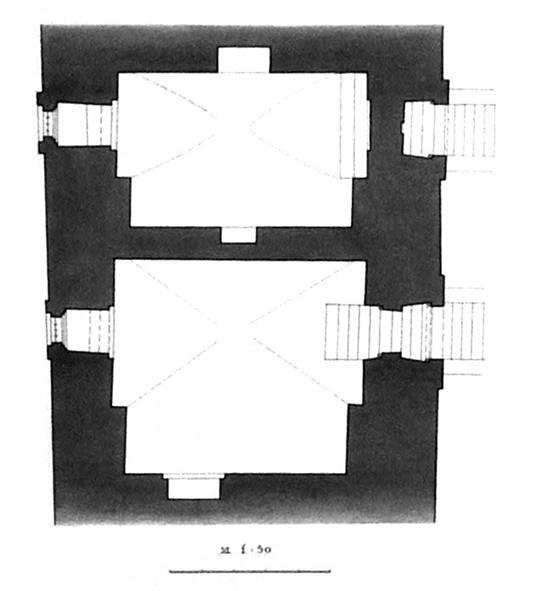
Троицкая церковь. План погребов. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Троицкая церковь. Западный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
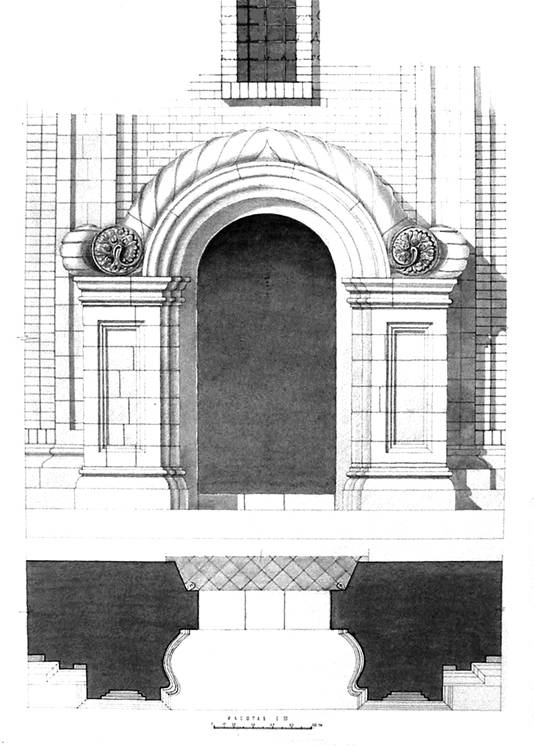
Троицкая церковь. Западный портал. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Троицкая церковь. Северный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
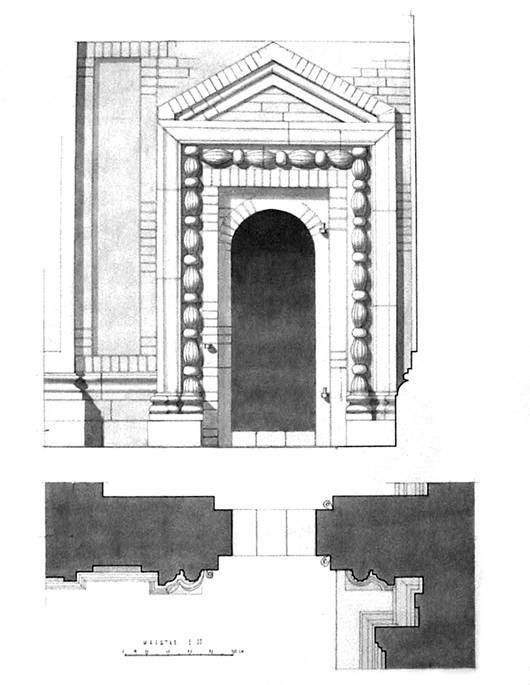
Троицкая церковь. Портал Федоровского придела. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
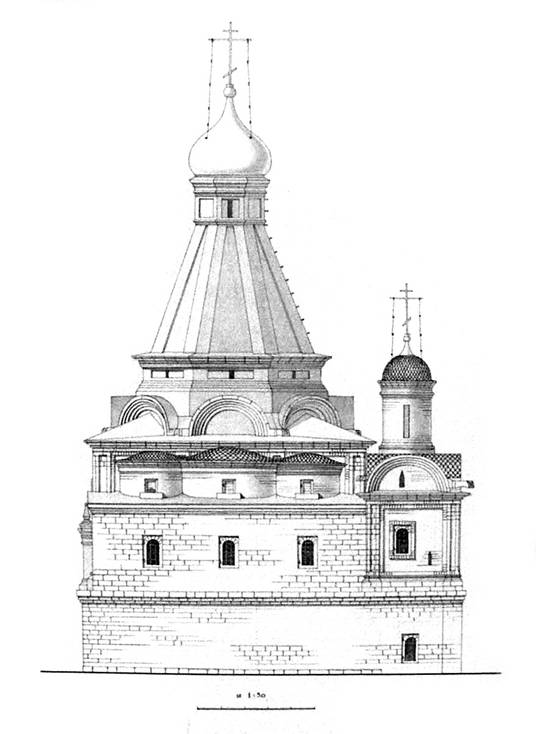
Троицкая церковь. Восточный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
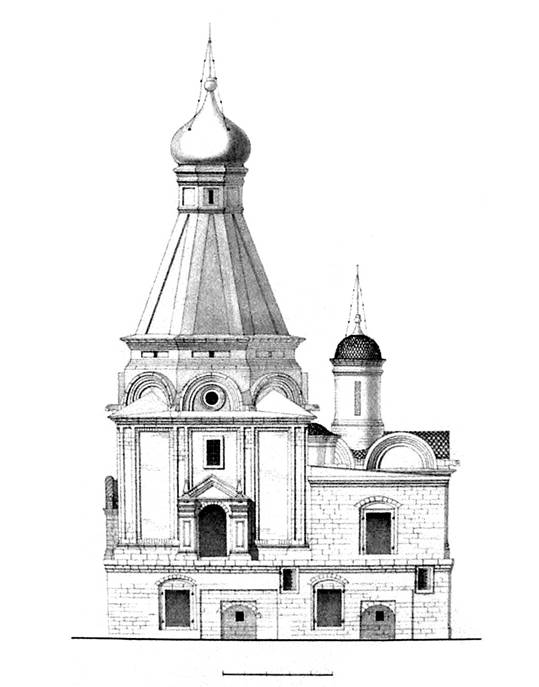
Троицкая церковь. Южный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
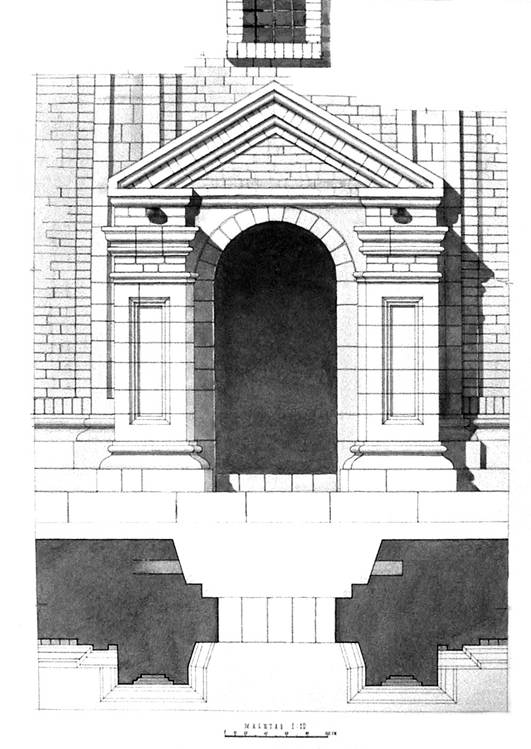
Троицкая церковь. Южный портал. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Троицкая церковь. Разрез по линии запад-восток. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
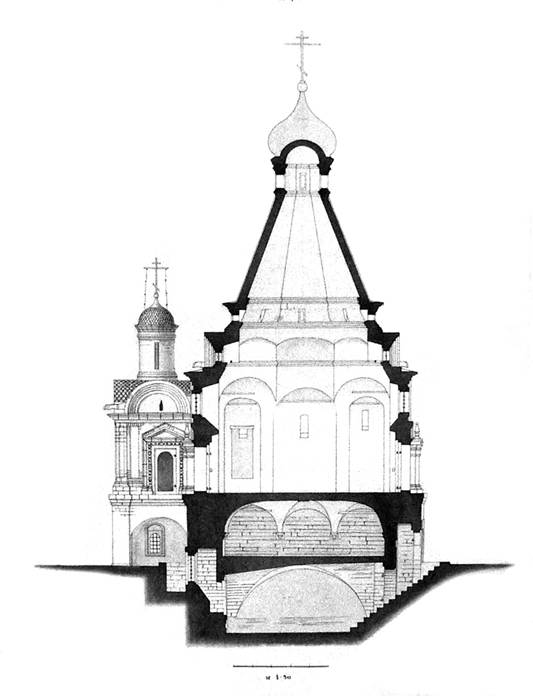
Троицкая церковь. Разрез по линии север-юг. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
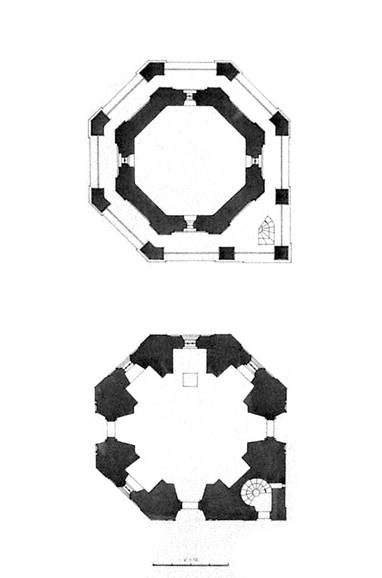
Церковь Алексея митрополита 1510-х годов. Поярусные планы (условно изображены без прилегающей звонницы). Реконструкция В.В.Кавельмахера.
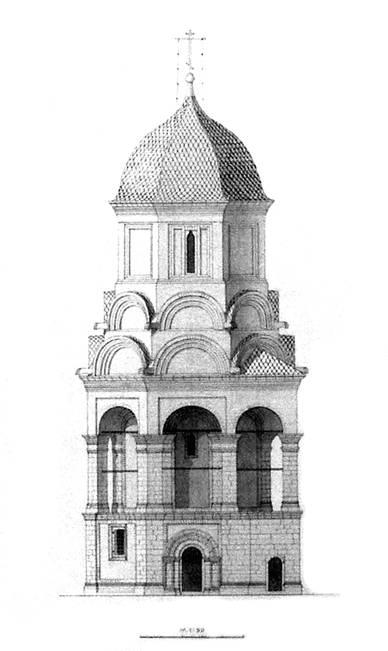
Церковь Алексея митрополита 1510-х годов. Западный фасад (условно изображен без прилегающей звонницы). Реконструкция В.В.Кавельмахера.
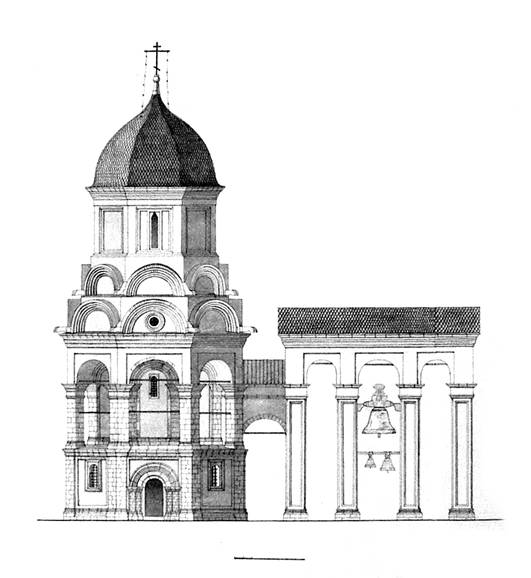
Церковь Алексея митрополита 1510-х годов. Северный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Распятская колокольня (ранее церковь Алексея митрополита) 1570-х годов. Западный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Распятская колокольня (ранее церковь Алексея митрополита) 1570-х годов. Северный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Распятская колокольня (ранее церковь Алексея митрополита) 1570-х годов. Восточный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Распятская колокольня (ранее церковь Алексея митрополита) 1570-х годов. Южный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
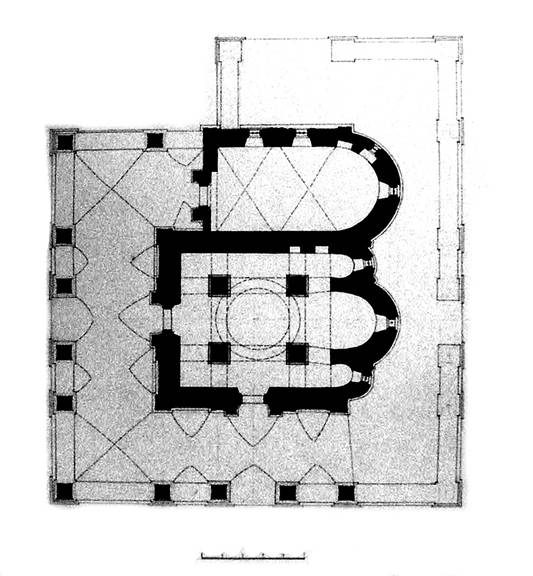
Успенская церковь. План (условно показан без крылец и переходов). Реконструкция В.В.Кавельмахера.
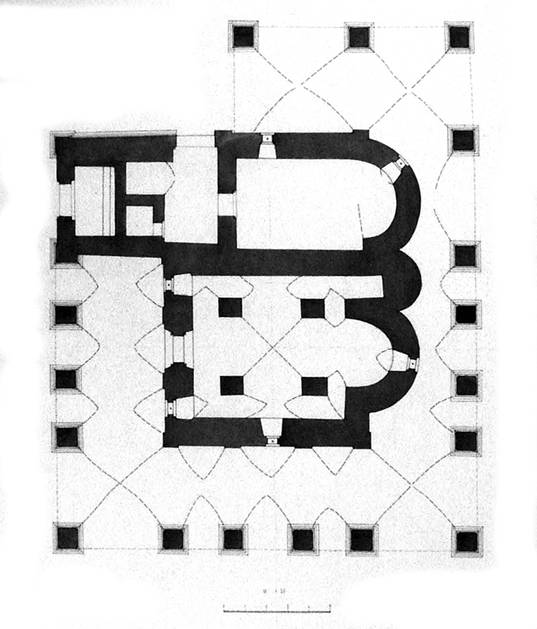
Успенская церковь. План подклетов. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
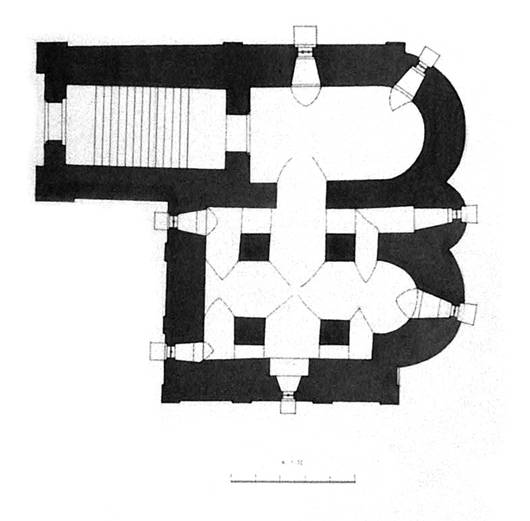
Успенская церковь. План погребов. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Успенская церковь. Западный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Успенская церковь. Северный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
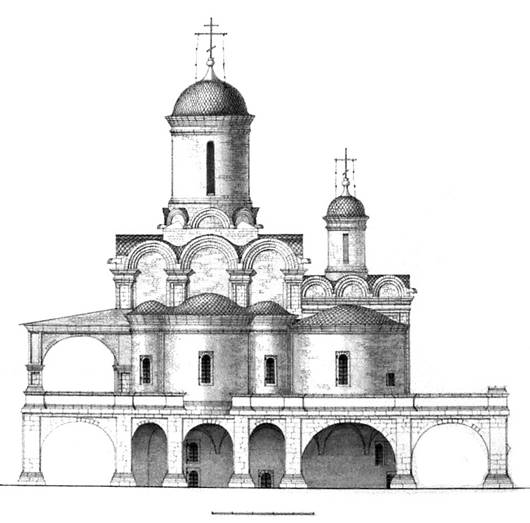
Успенская церковь. Восточный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
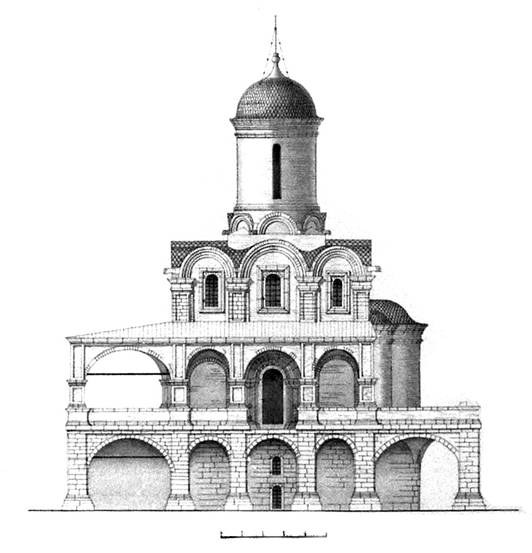
Успенская церковь. Южный фасад. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
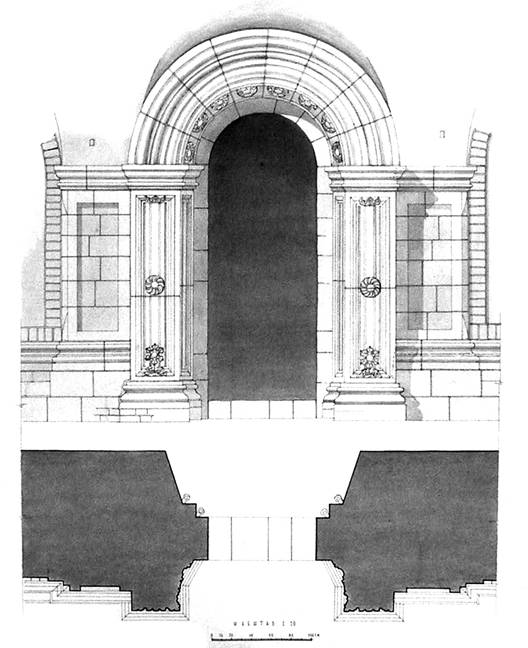
Успенская церковь. Южный портал. Реконструкция В.В.Кавельмахера.

Варианты кирпичных облицовок прясел четырех церквей слободского дворца 1509–1513 годов. Реконструкция В.В.Кавельмахера.
Подписи к чертежам (слева направо и сверху вниз):
Покровский собор. Южный фасад.
Придел Сергия Радонежского. Северный фасад.
Церковь Троицы на Дворце. Западный фасад.
Церковь Успения в Буграх. Южный фасад.
Придел Федора Стратилата. Восточный фасад.
Церковь Алексея митрополита. Восточный фасад.
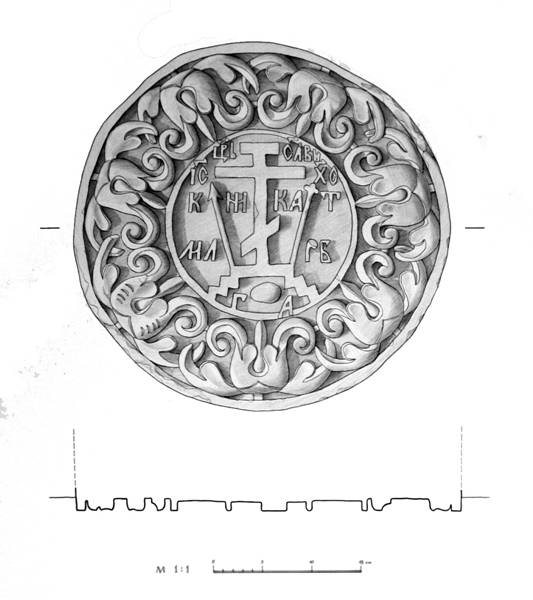
Замковая розетка свода 9-й (с запада) кельи Успенского монастыря. Чертеж В.В.Кавельмахера.
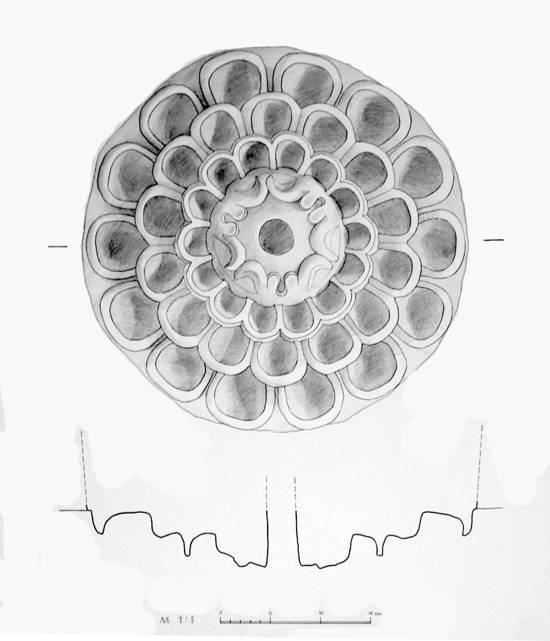
Замковая розетка свода 7-й (с запада) кельи Успенского монастыря. Чертеж В.В.Кавельмахера.
Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.
Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.
Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.
Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.
Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.
Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,
доктор архитектуры, профессор
Сергей Вольфгангович Заграевский