|
РусАрх |
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
|
Источник: Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. Все права сохранены.
Сканирование материала и размещение
его электронной версии в открытом доступе произведено: www.booksite.ru.
Все права сохранены.
Размещение в библиотеке «РусАрх»:
М.Г. Рабинович
Очерки материальной культуры русского феодального города
Монография посвящена развитию материальной культуры русского феодального города
за тысячу лет – с IX по середину XIX в. Охарактеризованы жилище, одежда и
питание различных слоев горожан. В трех очерках – «Двор и дом», «Городской
костюм», «Стол горожанина» – показаны изменения, произошедшие в этой сфере
быта, а также прослежены взаимосвязи русского населения с соседними и
отдаленными народами. Являясь продолжением книги «Очерки этнографии русского
феодального города», книга дает яркую картину городского образа жизни русских.
Издание богато иллюстрировано.
Для историков, этнографов, археологов, преподавателей,
учащейся молодежи.
ВВЕДЕНИЕ
На современном уровне знаний мы не можем
представить себе русскую народную культуру – духовную или материальную – иначе,
как синтез культурных достижений деревни и города, как результат многовековой
совместной деятельности всего народа – горожан и сельских жителей. Попытки
рассматривать народную культуру в целом или отдельные ее разделы как достижение
одной только части населения, одного только класса (например, крестьянства, как
это свойственно народнической литературе) были, как известно, подвергнуты
критике В. И. Лениным еще в конце прошлого столетия (Ленин В. И. ПСС, т. 2, с.
223). «Города, – писал он позже, – представляют из себя центры экономической,
политической и духовной жизни народа и являются главными двигателями прогресса»
(Ленин В. И. ПСС, т. 23, с. 341).
В современном городе активно развиваются
контакты различных народов, этнокультурных и этнических групп, различных
вариантов бытовой национальной культуры, приводящие к усилению культурной
однородности нации (Бромлей, 1983, с. 354). И в прошлом, в эпоху феодализма,
город был как бы огромным котлом-ускорителем этнических и этнокультурных
процессов, активным участником формирования народной культуры во всем ее
многообразии. Не было, пожалуй, ни одной сколько-нибудь значительной области
народной культуры, в которую не внесли бы вклада горожане. Но если роль города
и городского населения в развитии духовной культуры народа издавна признавалась
исследователями, то материальная культура горожан до недавнего времени не была
еще настолько изучена этнографами, чтобы можно было сделать в этой области
подобные обобщения.
Задумав исследование о русском феодальном
городе, мы предполагали первоначально изложить результаты изучения занятий
городского населения, его материальной и духовной культуры, общественного и
семейного быта в одной книге. Однако по причинам чисто техническим это
оказалось невозможным (Рабинович, 1978а, с. 14). И хотя предлагаемое сейчас
читателю исследование носит даже другое название, оно тесно связано с вышедшим
ранее как общностью замысла и построения, так и источниковедческой базой и
самим содержанием, поскольку рассматриваемая здесь материальная культура
принадлежит городу, городскому обществу, городской семье.
Вместе с тем, как уже сказано, материальная
культура города составляет неотъемлемую часть народной культуры. Город как тип
поселения стадиально более поздний, чем поселения сельские; на протяжении его
существования деревня является во всех отношениях питательной средой города.
Эту живую связь мы старались проследить во всем исследовании, о какой бы
области развития народной культуры, о каком бы отдельном явлении ее ни шла
речь. В большинстве случаев выясняется, что каждое явление уходит своими
корнями в глубокую древность, что оно, хотя бы в зародыше, получено горожанами
от крестьян, но в городе сильно переработано и зачастую возвращено через много
десятилетий в деревню в значительно измененном, усовершенствованном виде. Такой
многократный обмен лучшими достижениями и обеспечивает единство народной
культуры, ее поступательное развитие.
Изучение материальной культуры горожан, пожалуй,
еще в большей мере, чем предшествующие разделы нашей работы, требует системного
подхода, комплексного метода исследования, привлечения разнообразных источников
– вещественных, письменных, изобразительных, литературных. Источники эти столь
богаты и разнородны, что для подробной их характеристики потребовалась бы еще
книга, а может быть, даже не одна. Мы отсылаем поэтому читателя к тому краткому
обзору, который сделан в предыдущей книге, и к тем источниковедческим
публикациям, которые напечатаны со времени ее выхода (Рабинович, 1982, 1986а).
Все же необходимо еще. раз подчеркнуть, что, несмотря на обилие и многообразие
источников, они даже в своей совокупности не дают сплошного материала ни в
территориальном, ни в хронологическом отношении, что и обусловило построение
этой книги, как и предыдущей, в форме очерков, посвященных крупным разделам
материальной культуры горожан: жилище («Двор и дом»), одежда («Городской
костюм»), пища и утварь («Стол горожанина»). Сознавая при этом, что некоторые
разделы материальной культуры – например, городское хозяйство, о котором
написан и опубликован с некоторыми сокращениями очерк (Рабинович, 1976), или
транспорт – могли бы дополнить предлагаемое исследование, мы считаем все же,
что и подробно разработанные здесь разделы дают вместе с тремя очерками
предыдущей книги достаточное представление о городском образе жизни в эпоху
феодализма.
Каждый очерк охватывает весь тысячелетний период
феодализма – со второй половины IX по середину XIX в. Этот огромный путь разбит
нами еще ранее на четыре этапа: 1) IX – XIII вв. – возникновение и рост городов
в составе Древнерусского государства, земель и княжеств периода феодальной
раздробленности; 2) XIII-XV вв. – города в период создания централизованного
Русского государства, в условиях постепенной ликвидации феодальной
раздробленности; 3) XVI – XVII вв. – города феодальной России к началу
формирования всероссийского рынка; 4) XVIII – XIX вв. – русские города в период
позднего феодализма и перехода к капитализму (Рабинович, 1978а, с. 5).
Деление это, с нашей точки зрения, себя
оправдало и остается в предлагаемой книге, хотя более поздние обобщающие
исследования (см., например: Буганов, Преображенский, Тихонов, 1980) дают
несколько иное членение того же периода.
В основном прежней осталась, как сказано,
источниковедческая база исследования. Она лишь несколько расширена появившимися
за последнее десятилетие новыми публикациями источников и новыми исследованиями
по близкой тематике, ссылки на которые читатель легко найдет в тексте книги.
Хочется лишь подчеркнуть еще раз, что намеченные нами этапы развития русских
городов неравномерно обеспечены источниками разных типов. Если для первых двух
этапов (IX – XV вв.) значительную роль играют ежегодно пополняющиеся
археологические материалы в сочетании с относительно скудными данными
письменных источников, то для третьего этапа серьезно усиливается роль исторических
актов, изображений и вещевых коллекций, хранящихся в наших музеях. Четвертый же
этап настолько обеспечен письменными, печатными и изобразительными источниками,
что для сколько-нибудь исчерпывающего анализа их вряд ли хватит относительно
краткого срока жизни одного человека. Поэтому в качестве основного архивного
материала избраны ответы на программы, разосланные в XVIII и первой половине
XIX в. научными учреждениями и обществами. Преимущество этого материала мы
видим прежде всего в том, что он собран по тщательно разработанной учеными –
историками и этнографами – программе, единовременен и охватывает широкую
территорию Европейской России, что он дает разнообразные и в то же время
концентрированные сведения по нашей теме (ср.: Греков, 1960; Рабинович, 19716).
Вместе с тем мы отчетливо сознаем необходимость
в дальнейшем расширения круга источников. Главным резервом для продолжения
работы представляются архивные фонды, связанные с делами совестных и сиротских
судов, спорами о наследстве, опеке и пр., и также дела комиссий по строениям.
Документы эти лишь частично затронуты учеными и еще ждут своего исследователя.
Однако работа над ними затрудняется рассредоточенностью материалов: эти фонды
хранятся теперь в областных архивах и, следовательно, доступны более всего
местным краеведам.
Прежними остаются и территориальные границы
исследования: в основном русские города бывшей Европейской России; для
сравнения привлекаются также материалы о городах Сибири, изучение которых
серьезно продвинулось за последнее десятилетие (Города Сибири, 1978 и др.). Для
третьего и четвертого этапов с той же целью привлекаются города украинские и
белорусские преимущественно древние – те, которые на первом и втором этапах
были русскими (Киев, Чернигов, Полоцк и т. п.).
Учтены в книге и новые исследования по русскому
городу, появившиеся уже после выхода «Очерков этнографии», в частности серия
«Русский город» под редакцией В. Л. Янина (вып. 2 – 5, 1979 – 1982), в которой
для нас особенно важны работы П. Г. Рындзюнского и В. В. Карлова. Отклики на
эти исследования содержатся в опубликованных автором статьях (Рабинович, 1980,
1983), посвященных определению понятия «город» и роли города в различных
областях этнического и этнокультурного развития народов (Рабинович, Шмелева,
1984). Совместно с М. Н. Шмелевой разработана также и общая программа
этнографического изучения города в нашей стране (Рабинович, Шмелева, 1981).
Оживившийся в нашей исторической науке за
последние десятилетия интерес к исследованиям города в прошлом и настоящем,
налаживающаяся постепенно систематическая координация исследований, несомненно,
помогут разрешению многих проблем этнографии города. Предлагаемая книга имеет
своей задачей обобщить накопленные материалы о русском феодальном городе и тем способствовать
развитию советской урбанистики.
Выше уже говорилось, что материалы наши
неравномерно распределены как в хронологическом, так и в территориальном
отношении. Это обстоятельство не позволяет пока составить карты, и читатель
найдет в этой книге лишь отдельные картосхемы. Однако изложение построено с
таким расчетом, чтобы можно было такую карту в общих чертах представить: когда
перечисляются местные особенности какого-либо явления, речь идет сначала о
городах северных и северо-западных, потом и о северовосточных, центральных и
западных, затем о Среднем Поволжье, о южных русских городах, о Нижнем Поволжье.
Словом, мы двигаемся от Архангельска к Астрахани как бы по строкам книги. В
хронологическом отношении изложение ведется в рамках намеченных четырех этапов
развития городов от IX к XIX в. В некоторых случаях удалось даже посвятить
каждому этапу особый раздел.
Привлечение широкого круга разнообразных
источников обусловило обилие фактического материала. Но материал этот настолько
рассеян, что иногда бывает трудно найти и собрать разнородные сведения, важные
для общей картины развития города. Одну из своих задач мы видим поэтому в
фиксации внимания исследователей даже на отдельных упоминаниях нужных для
изучения городского быта фактов. Но в целях сохранения четкости характеристики
различных явлений в основном тексте дается по возможности обобщенный материал,
а отдельные частные сведения вынесены в приложения, с тем чтобы исследователи,
которые заинтересуются более подробной характеристикой явлений, их местными
особенностями, могли получить в книге нужный материал и хотя бы указания, как
его найти в море источников.
1
ДВОР И ДОМ
Городская усадьба, как и сельская, называлась
«двор». Это была замкнутая территория, изолированная в древности от улицы
высоким забором и сообщавшаяся с внешним миром через ворота, которые, однако,
держали всегда на запоре. Во дворе, включавшем жилой дом, производственные и
хозяйственные постройки, сосредоточивалась фактически вся жизнь семьи. Мы
рассмотрим состав городского двора, материал, конструкцию и основные функции
всех построек, в особенности жилого дома, их эволюцию за тысячу лет.
ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
IX – XIII вв.
XIII-XV вв.
XVI-XVII вв.
XVIH-XIX вв.
ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Приступая к изучению городского двора и
городского дома, мы должны исходить из того, что город в целом является типом
поселения более поздним, чем поселения сельские, и генетически с ними тесно
связан. В очерке, посвященном происхождению городов (Рабинович, 1978а),
охарактеризованы различные пути их возникновения. Сейчас для нас важен тот
весьма частый в древней Руси случай, когда городом становилось сельское
поселение. Здесь наиболее ясна и прямая генетическая связь городского жилища с
сельским, происхождение первого от второго. Ясно и то, что дома рядового
населения образующегося города должны в большинстве своем иметь характерные
черты, свойственные сельскому жилищу данной местности и определяемые как
особенностями местного ландшафта (климат, наличие тех или иных строительных
материалов и пр.), так и этническим и социальным составом населения. Короче, в
этом случае город получает тип массового жилища непосредственно от местной
деревни, чтобы в дальнейшем приспособить его к своим нуждам, которые также
выявляются не сразу. Происходя от сельского жилища, городское должно было на
первых порах мало от него отличаться. Для того чтобы проверить это положение в
отношении древнерусских городов, необходимо обратиться к археологическим
материалам.
Древнерусское жилище археологически изучено не
сплошь, но все же достаточно для того, чтобы вполне ясно представить себе его
общий характер и главнейшие типы. Крупные археологические монографии и сборники,
посвященные как городам, так и целым княжествам или землям, содержат обычно
специальные разделы или статьи, посвященные жилищу (Каргер, 1958; Толочко,
1980; Монгайт, 1955, 1961; Засурцев, 1963; Рабинович, 1964; Борисевич, 1982; и
др.). Имеются и обобщающие работы, главной из которых является «Древнерусское
жилище» П. А. Раппопорта (Раппопорт, 1975). Исследование это содержит как
наиболее полный каталог всех изученных к тому времени жилищ (их учтено около
2000 в 308 населенных пунктах), так и карты размещения их типов, дающие
представление об общем ходе развития древнерусского жилища с VI по XIII в.
К интересующему нас периоду – IX – XIII вв. –
относятся примерно 1500 жилищ на 239 поселениях. Из них около 2/3 – в больших и
малых городах (в чем сказалось направление археологических исследований за
последнее столетие), но для проверки высказанного положения имеется достаточный
материал и с сельских поселений. Так, к VIII – первой половине X в. относятся
82 поселения – 40 городских (в том числе 6 упоминаемых летописями) и 42
сельских; ко второй половине X – XI в. – 48 поселений – 28 городских (16
упоминаемых летописями) и 20 сельских; к XII – XIII вв. – 109 поселений – 84
городских (43 упоминаемых письменными источниками) и 25 сельских (Раппопорт, 1975,
с. 27 – 111). Заметим еще раз, что приведенные цифры отражают не подлинное
соотношение типов поселений, а лишь состояние исследований. Но важно, что как
раз для самого раннего периода (IX – начала X в.) археологический материал
позволяет судить как о городском, так и о сельском жилище.
Уже давно выяснено, что жилище рядового
населения Древней Руси было в ту пору двух типов, имевших вполне определенные
ареалы. В северной лесной зоне господствовали наземные срубные дома, в южной,
преимущественно лесостепной, – дома, немного углубленные в землю, – так
называемые полуземлянки. Подавляющее большинство исследованных археологически
жилищ VIII – первой половины X в. представляет собой полуземлянки; ареал этого
типа простирается даже несколько севернее лесостепи, заходя в бассейне Днепра в
подзоны лиственных и смешанных лесов. Наземные срубные дома открыты в подзоне
темнохвойных южнотаежных лесов – в Новгородской и Псковской землях.
Сравним жилища рядовых горожан и крестьян в
обоих ареалах. На юго-западе, в древнем городе Галиче, открыты полуземлянки IX
– X вв. В с. Миткове, к юго-востоку от Галича, было такое же жилище; на
городище Подгорцы, к северу от Галича, также полуземлянки VIII – первой
половины X в., на селище Баламутовка – тоже. Таким образом, город, села и
какое-то укрепленное поселение (погост или двор феодала) имели жилища, в общих
чертах сходные, отличавшиеся лишь в деталях (в данном случае – однокамерные
полуземлянки с печами-каменками) (Раппопорт, 1975, № 34, 36, 38, 39).
На юго-востоке, на Дону, подобную же картину
можно наблюдать в г. Белая Вежа и с. Ближняя Мельница. Впрочем, в городе были и
единичные наземные жилища (Раппопорт, 1975, № 91, 92). На северо-западе, в
лесной зоне, – города Псков и Рюриково Городище близ Новгорода, села Прость,
Георгий, Золотое Колено и Съезжее имели только срубные наземные дома (Раппопорт
1975, JY° 110 – 112; Носов, с. 31 – 32). Число подобных сравнений можно
увеличить. Но уже из приведенных примеров ясно, что ко времени начала роста
древнерусских городов дома рядовых горожан принадлежали к тому же типу, что и
крестьянские дома в той же местности.
А какова была картина в тех случаях, когда город
вырастал в одной местности, но пополнялся значительными группами населения из
других местностей, даже из других природных зон? Известно, что такие случаи в
эпоху феодализма, когда феодал мог попросту переселить зависимых от него людей
из одного места в другое, не так уже редки. Переселенцы приносили с собой свои
бытовые и культурные традиции, в том числе и традиции домостроительства.
Археологические материалы отражают иногда и эти обстоятельства. Так, при
раскопках городка Ярополча Залесского во Владимирской земле М. В. Седова
открыла два типа жилища. Внутри укреплений были наземные срубные дома, а на посаде
– полуземлянки. Исследователь предполагает, что в город, где господствовал
северный тип жилища, переселилась значительная группа населения из какой-то
южной безлесной области. Очутившись на земле, богатой лесом, переселенцы скоро
поняли преимущества местного типа строительства, и полуземлянки были оставлены
(Седова, 1978, с. 66 – 67). Недавно открытые в Киеве, где прежде находили
только полуземлянки, срубные дома в районе Подола вызывают среди археологов
споры о преобладавшем в городе типе жилища. По-
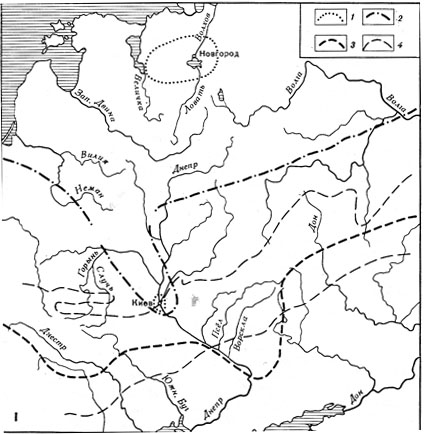
1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРУБНОГО НАЗЕМНОГО ДОМА В IX
– XIII ВВ..
лемика эта еще не закончена, и вопрос остается
весьма сложным (Толочко, 1981, с. 63, 65; Раппопорт, 1975, с. 127, 160). Но
одно из возможных его решений – это предположение о том, что северный тип
жилища перенесен в Киев переселившимися туда новгородцами (а такие переселения
и, в частности, Новгородскую божницу на Подоле отмечают письменные источники).
В таком случае привнесенный тип жилища мог удержаться наряду с южным, поскольку
неподалеку от города имелся значительный массив соснового леса.
О значении строительных традиций – с одной
стороны, и об их обусловленности – с другой, дают представление более поздние
источники, в частности некоторые описания городов, сделанные по заданию
Географического общества в Астраханской губ. в середине XIX в. Описывая город
Черный Яр, корреспондент отмечает, что дома там одноэтажные, деревянные, причем
у горожан победнее – зачастую «снаружи обмазываются и белятся»
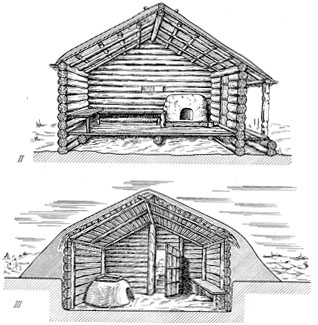
(АГО 2, №
Иногда материалы раскопок позволяют проследить
даже единичные вкрапления жилищ другого типа, связанные с переселениями. Так
нами интерпретирован открытый в Москве А. Ф. Дубыниным дом XVI в.,
первоначально имевший южный тип внутренней планировки с печью, обращенной
устьем ко входу, и перестроенный затем так, как было удобнее в местном, относительно
суровом климате: вход был устроен с другой стороны и печь оказалась
расположенной устьем от входа, как и бывало обычно в северных домах.
Переселенец, видимо, построился по своей традиции, а потом вынужден был
переменить планировку дома (Рабинович, 1964, с. 221).
Подобные явления отмечены и в городах Западной
Европы. В. Радиг писал, что переселившиеся в немецкие города крестьяне
первоначально застраивали свои дворы так, как принято было в деревнях их
местности, но в дальнейшем условия городской жизни приводили к перестройке, и в
XIII – XIV вв. только в маленьких городках или предместьях оставались еще
усадьбы и постройки, планировка которых была сходна с деревенской (Radig, 1950,
с. 50).
Тип жилого дома не оставался неизменным. Он
изменялся по мере развития строительного дела, транспорта, экономики в целом.
Нам уже случалось писать, что такие важные черты типа жилища, как материал и
конструкция, зависели прежде всего не от этнических особенностей населения, а
от наличия строительного материала. В частности, северный русский тип жилища
требовал леса с прямым ровным стволом. Старались строить из сосновых, во вторую
очередь – из еловых бревен (Рабинович, 1975, с. 242 – 243). Возможности
добывания и транспортировки таких бревен со временем, видимо, расширялись.
Если в IX – X вв. наземные срубные дома
прослежены преимущественно в северо-западной части Древнерусского государства –
Новгородской и Псковской земле, то уже в X – XI вв. они распространились на юг
и юго-восток, заняв почти всю лесную зону Европейской России, до границы
лесостепи, а в XII – XIII вв. перешагнули эту границу, в особенности на
юго-западе, заняв в Галицкой земле и на Волыни почти всю лесостепную зону (Рис.
1). Полуземлянки сохранялись преимущественно в безлесных местах в бассейне
Днепра и на некоторых опольях (например, к югу от Москвы), куда по каким-то
причинам труден был подвоз леса. Выборочная проверка показывает, что и в селах,
в особенности вблизи городов, начался тот же процесс. Например, в Галицкой
земле селища Мартыновка и Онут по соседству с Галичем были застроены также
наземными срубными домами, в то время как городок Звенигород и сел. Болшев
имели еще полуземляночные жилища. Процесс смены типов домов, стало быть, еще не
завершился. А в Смоленской земле как сам Смоленск, так и расположенные к югу и
к западу от него села Дросенское и Яново имели срубные дома. Небольшой ареал к
югу от Москвы, где в XII – XIII вв. сохранились еще полуземлянки, включает
городок Перемышль Московский и села Битяговку и Федоровское. В некоторых
городах (как в лесной, так и в лесостепной зоне) процесс смены типа жилища
также еще не был завершен, и раскопки открыли как наземные срубные дома, так и
полуземлянки. Таковы жилища Городца на Волге, Суздаля, Ростова, Мурома, Рязани,
Серенска, Воиня, Трубчевска, Борисова, Плеснеска. Подобное же явление
прослеживается и на поселениях (как видно, переходного типа), от которых
остались городища: Донецкое, Слободка и др., и на селищах Пребыковцы, Лука
Врублевецкая и др. (Раппопорт, 1975, карта, рис. 36, с. 126).
Однако наличие двух типов жилищ может быть
следствием не только незавершившегося процесса их смены, но и переселения
значительных компактных групп населения, как это было, например, в г. Ярополче
Залесском. Возможно, что на сельских поселениях вообще смена типов жилищ шла
медленнее, чем в городах.
Процесс распространения наземного срубного
жилища интенсивно шел и в XIII в. Это удалось проследить и археологически,
например, в Суздале (Дубинин, 1945, с. 94), где в это время полуземлянки были
окончательно вытеснены. Начиная с XIV в. в русских городах все дома были
срубными, наземными. Но навык строительства землянок долго еще держался в
народе. При каждом случае, когда трагически нарушался привычный образ жизни
(например, при неприятельском разорении), обращались к старым приемам и легко
строили временные жилища – «землянки».
Рассмотрим теперь русский городской дом и двор в
их изменениях на протяжении намеченных нами ранее четырех этапов развития
городов.
IX-XIII вв.
Срубный дом и полуземлянки.
Дворовые постройки.
Интерьер.
Дома ремесленников.
Богатые дома
СРУБНЫЙ ДОМ И ПОЛУЗЕМЛЯНКА
Итак, древнерусские города знали два основных
типа жилища – наземный срубный дом и полуземлянку. У обоих типов при всех их
различиях имелись и важные черты сходства: это были небольшие дома рядовых
горожан, состоявшие, как правило, из одного только квадратного или почти
квадратного в плане помещения, служившего всей семье и для работы, и для
приготовления пищи, и для еды, и для спанья. Размеры их были различны, но в
целом обычно изба была около
Первый и, по-видимому, древнейший (восходящий к
славянским жилищам середины I тысячелетия, когда восточные славяне еще не
расселились в лесной зоне) тип городского жилища представлял собой
полуземлянку. Сам этот термин не древнеславянский, а привнесен исследователями,
назвавшими так жилище, немного (на 0,3 –
Таким образом, простой дом-полуземлянка снаружи
имел вид небольшого, правильной формы всхолмления, по-видимому, без каких-либо
украшений. Но бывали и двухэтажные дома этого типа. Археологически их можно
выделить с достоверностью только в том случае, когда в яме полуземлянки найдены
остатки печи, рухнувшей с верхнего этажа (а такие случаи встречаются крайне
редко). Верхний этаж должен был при этом также иметь каркасно-столбовую
конструкцию. В тех же, гораздо более частых случаях, когда в яму опускали сруб,
присыпая его стенки снаружи землей, по мнению исследователей, можно говорить о
доме на высоком или низком подклете. Такой дом, по сути дела, не отличался
существенно от наземного срубного жилища, нижние венцы которого также нередко
утеплялись завалинкой (Раппопорт, 1975, с. 132, 133; Толочко, 1980, с. 70-71).
Он возвышался над землей довольно значительно и завершался двускатной (по
большей части деревянной) кровлей, увенчанной коньком. Украшения (конек,
резьба, детали кровли) были видны с улицы и в том случае, если дом стоял (как
это и бывало чаще всего) в глубине двора, за забором. Меньшие ямы без печей
исследователи считают остатками хозяйственных построек.
Наземные срубные дома строились из хвойного леса
(предпочтительно сосны, реже – ели). Углы сруба соединялись всегда в «обло»,
причем чашки и продольный паз вырубались в нижнем бревне (Рис. 1, 2). Такая
конструкция сруба с выступающими наружу концами бревен была удобна в
особенности в северных областях, где суровая зима: углы дома не промерзали даже
в сильные морозы, что вполне компенсировало больший расход леса, тем более что
в рассматриваемый период срубные дома строили обычно в лесной зоне, где не
ощущалось недостатка строительного материала. Сосна и ель имеют прямой ровный
ствол и дают прекрасные смолистые бревна, которые не требуют больших усилий для
конопатки стен (не создают значительных щелей) и обеспечивают в избе сухость
насыщенного смолой воздуха, т. е. отличные гигиенические условия. Пол в срубных
домах всегда был дощатый. В северо-западной части ареала, даже если не было
подклета, пол врубался, как и в полуземлянке со срубом, во второй-третий венец
так, что был приподнят над землей. В юго-восточной части лесной зоны дощатый
пол устраивался Ниже, на лагах, положенных непосредственно на землю или на
специальную глиняную прокладку. Вдоль стены дома, где находилась входная дверь,
зачастую устраивалась под свесом кровли, край которой опирался на столбы,
открытая галерея с дощатым полом; для поддержки столбов и пола параллельно
стене клали ряд или два бревен. Срубной дом был выше полуземлянки, чаще имел
второй этаж (а, как увидим ниже, иногда и больше этажей). Его стены и
украшенные резьбой детали производили сильное эстетическое впечатление.
Был еще один (относительно редкий) тип жилища
рядовых горожан – клети в городнях городского вала. Конструкция
деревянно-земляных укреплений города, при которой насыпь вала закрывали срубы –
городни, позволяла оставлять часть этих срубов незасыпанными и использовать их
в качестве жилых (с печью) или хозяйственных помещений. Жилища эти по площади
несколько меньше описанных выше (
ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ
Одна из особенностей города как поселения – его
относительно большая людность и вследствие этого плотность застройки, что
приводило к уменьшению двора (особенно в укрепленном центре города). Но нам уже
случалось писать (Рабинович, 1978а, с. 23, 289), что в русских городах в эпоху
феодализма дворовые участки всех сословий были значительно больше, чем
соответствующие участки, например, в Западной Европе; застройка и хозяйственное
освоение их были разнообразны. При срубном наземном доме и хозяйственные
постройки двора по большей части были срубными, хотя зачастую и не из хвойных
пород дерева. Ценилась, например, механическая прочность дуба, не имевшего
такого ровного ствола (Рабинович, 1964, с. 237). Хозяйственные постройки были
обычно меньше по размерам, чем жилой дом.
О характере хозяйственных построек на рядовом
городском дворе в IX – XIII вв. данных немного. Краткая редакция Русской
Правды, которую летописец считал созданной для Новгорода и которая отражает как
сельский, так и городской быт X – XI вв., называет клеть (хранилище различного
имущества) и хлев, где содержат скот (Р. Пр., ст. 20, 29, 38). Археологическими
раскопками на дворах горожан открыты также производственные сооружения –
зольники и чаны для обработки и дубления кож, гончарные и металлургические
горны и пр., а то и целые мастерские (Рабинович, 1964, с. 195 – 197). Возможно,
были и постройки для обработки урожая зерновых – овин и гумно, о которых мы еще
будем говорить в связи с развитием городской усадьбы в XVI – XVII вв. Вероятно,
не все эти надворные постройки были во всех городах. Например, баня (мовница)
как отдельная постройка характерна преимущественно для лесной зоны (в более
южных городах мылись в домашней печи).
Если на севере хозяйственные постройки были, как
уже сказано, срубными, то в центральной части и на юге тогдашней Руси их стены
могли быть столбовой конструкции или даже плетневые. Уже в этот период двор
горожанина включал зачастую и сад. Такой сад конца XII в. обнаружен в Новгороде
в Неревском конце. В нем было не менее пяти фруктовых деревьев (найдены корни
четырех яблонь и одной груши). Около других домов и во дворах усадеб XI – XII
в. встречены отдельные корни и пни яблони, груши, рябины, ели, дуба, кусты роз
(Колчин, Янин, 1982, с. 27).. Горожане, стало быть, заботились о
благоустройстве своих участков – о тени, приятном виде, запахе цветов.
Двор был окружен забором с воротами. Конструкция
забора соответствовала характеру жилища: на юге это чаще бывал плетень или
дощатый забор, на севере – обычно частокол из врытых. в землю не очень толстых
кольев.
ИНТЕРЬЕР
В интерьере жилища было, пожалуй, меньше
различий, чем в его конструкции и внешнем виде. В большинстве случаев это была
комната с деревянными стенами (бревенчатыми, если дом был наземным срубным, или
полуземлянкой, крепленной срубом, дощатыми или брусяными – при других способах
облицовки полуземлянки) и лишь изредка – со стенами, обмазанными глиной (в
классической полуземлянке), по-видимому без привычного нам потолка, перекрытая
непосредственно опирающимися на стропила скатами кровли*. Интерьер
дома-полуземлянки отличали при этом столбы, укреплявшие облицовку стен и
поддерживавшие кровлю, а зачастую и лестница в несколько ступенек (деревянная
или вырезанная в грунте); окон в таком доме, по мнению исследователей, не было
вовсе. В наземном срубном доме было, по-видимому, несколько маленьких волоковых
окошек, которые лучше известны по более поздним материалам и о которых мы
расскажем в своем месте. Деревянная дверь в одну створку закрывала вход,
ориентированный обычно на юг, чтобы в комнату попадало больше тепла и света
(особенно в летнее время).. Главную роль в интерьере любого русского жилища
играла печь.
____________________
Это предположение Ю. П. Спегальского вызвало
возражения Г. В. Борисевича. Однако определенных данных о наличии в IX – XIII
вв. потолка им не приведено (Борисевич, 1982, с. 273).
____________________
Недаром и все помещение, где была печь,
называлось истопкой (от слова «топить») или избой. К началу рассматриваемого
нами периода, в IX – X вв., это была по большей части каменка – печь, сложенная
из камней, реже (преимущественно в среднем Поднепровье) – глинобитная,
прямоугольная в восточной и круглая – в западной части этого района (Раппопорт,
1975, с. 149). Открытый очаг и печь типа камина в древнерусских жилищах не
встречались вовсе; хотя более ранние славянские дома имели иногда очаги,
расположенные в центре дома.
В X – XI вв. прямоугольные глиняные печи были
постепенно вытеснены круглыми, которые распространились и в наземных жилищах. В
XII – XIII вв. печи-каменки сохранились лишь в Новгородской (наряду с
глинобитными и глиняно-кирпичными) (Борисевич, 1982, с. 286) и Псковской
землях, кое-где в верховьях Волги и на западе, в верховьях Немана. На остальной
территории Древней Руси как в полуземлянках, так и в наземных жилищах в это
время господствовала круглая глинобитная печь (Раппопорт, 1975, с. 150, 153).
Все упомянутые выше типы печей были беструбными (курными, как их называли
впоследствии), так что дым шел прямо в избу. Этим и объясняется отсутствие
потолка: когда дым поднимался кверху, под крышу, можно было все же как-то
находиться в нижней части избы. Чтобы выпустить дым, открывали дверь и
волоковое оконце, обычно находившееся на фронтоне избы. «Горечи дымные не претерпев,
тепла не видати», – гласит древняя пословица.
Положение печи определяло всю внутреннюю
планировку избы. Обычно печь ставили в одном из углов*, при этом важно было,
куда печь была обращена устьем – ко входу или от него. Видимо, еще в начале
рассматриваемого нами периода сложились те четыре основных варианта планировки,
которые сохранялись потом в течение целого тысячелетия и были характерны для
разных областей расселения восточных славян. Так, печь могла находиться справа
или слева от входа, устьем к нему (вариант 1); в одном из дальних от входа
углов, устьем ко входу (вариант 2); в дальнем углу, устьем к боковой от входа
стене (вариант 3); наконец, справа или слева от входа, устьем к противоположной
входу стене (вариант 4). Древнейшей, по-видимому, была планировка по варианту
2. До X в. она преобладала (Раппопорт, 1975, с. 139). В дальнейшем большее
распространение на Юге и Юго-Западе получил вариант 1, на Севере же и в
центральных русских землях – вариант 4. Это объясняется прежде всего климатическими
условиями: положение печи устьем к противоположной входу стене больше
способствует сохранению тепла и создает лучшие условия для хозяйки, кото-
______________________
* Все случаи расположения печи в центре избы
относятся к северным русским землям. П. А. Раппопорт предполагает, что,
возможно, такие жилища по происхождению не были славянскими.
______________________
рая обычно готовит пишу у печного устья и при
таком расположении печи не страдает от холодного воздуха, врывающегося каждый
раз, когда открывают дверь.
Судя по позднейшим этнографическим материалам, к
положению печи приспособлялась вся планировка избы: угол по диагонали от печи
был парадной частью избы – здесь ставили стол, устраивали лавки, здесь ели,
сюда сажали гостей. Угол этот позднее назывался красным (от древнего значения
этого слова – «красивый»). Трудно сказать, имел ли этот угол и какое-то
сакральное значение. В рассматриваемый нами период там, вероятно, еще не было
икон: христианство, как известно, распространялось медленно, и иконы, столь
характерные для всякого городского и деревенского дома в более поздние периоды,
еще не проникли так глубоко в быт каждой семьи. Но возможно, что какие-то
изображения дохристианских божеств – «идолы» – могли здесь помещаться.
Деревянные, зачастую художественно выполненные изображения таких божеств,
называемые условно исследователями «домовыми», довольно часто находят в древних
горизонтах культурного слоя русских городов (включая XIII в.), в частности в
Новгороде (Колчин, Хорошев, 1978, с. 171). Угол напротив печного устья, где
женщины обычно стряпали и пряли, так и назывался позднее – бабий кут или
середа. Такое значение он должен был иметь и в древности. Наконец, четвертый
угол предназначался для мужских работ. Вообще устойчивость функционального
распределения частей избы неоднократно подчеркивалась этнографами (наиболее
полно см.: Бломквист, 1956, с. 212). О меблировке древней избы почти ничего не
известно, можно думать, что, как и позднее, в ней были, кроме стола,
неподвижные лавки и подвижные скамьи, на которых сидели и спали. Для спанья
служили позднее также полати, располагавшиеся обычно рядом с печью, с боковой
ее стороны. В зависимости от типа планировки они устраивались высоко, над
дверью (на Севере), или низко (такие полати у украинцев в XIX в. назывались пiл
– «пол»).
В тех редких случаях, когда печь ставилась в
середине избы, планировка должна была быть иной, но вопрос этот ни археологами,
ни этнографами пока не разработан (Борисевич, 1982, с. 277). Мы вернемся к нему
в разделе, посвященном XVIII – XIX вв.
Таков в общих чертах интерьер древнейшего
русского деревенского и городского жилища, восстанавливаемый нами со
значительной долей гипотетичности.
Украшения в курной избе вряд ли имели смысл,
поскольку вся верхняя часть избы была обычно покрыта копотью. Можно думать
лишь, что какие-то эстетические элементы (например, резные детали) были в самой
мебели, в опечке, в ограждении полатей (Борисевич, 1982, с. 278) и т. п.
Украшением могла служить также нарядная посуда – керамическая, деревянная, или
реже Металлическая.
ДОМА РЕМЕСЛЕННИКОВ
Для жилища рядового горожанина, к какому бы из
описанных выше типов оно ни принадлежало, характерно то, что почти каждый дом
был одновременно и мастерской ремесленника. Приведем несколько примеров. В
Киеве М. К. Картером среди многих .других жилищ исследована полуземлянка XIII
в. (разрушенная при взятии Киева монголо-татарами в
В Москве интересен дом кожевника XII – XIII вв.,
открытый при раскопках в Зарядье (на древнем Великом посаде). Почти квадратная
изба площадью немного меньше
БОГАТЫЕ ДОМА
Будучи поселением более .сложным по социальному
составу, чем деревня, город уже в рассматриваемый нами период должен был иметь
и более разнообразное по величине и планировке жилище, чем обрисованное нами до
сих пор. Археологическими раскопками открыты городские дома, имеющие не одну, а
две или несколько жилых комнат (Археология СССР, с. 143). Как предполагают
исследователи, это были дома зажиточных горожан (Раппопорт, 1975, с. 142 – 143).
Определить более точно социальное положение владельца дома по большей части
невозможно поскольку археологическая наука не разработала еще критериев,
которые позволили бы различать, например, дома купцов и феодалов. Лишь в редких
случаях, на которых мы еще остановимся, это возможно сделать по находкам
особенно характерных вещей или берестяных грамот. Можно лишь выделить дома
более состоятельных ремесленников.
В ХII – ХШ вв, относятся двухкамерные
полуземлянки, открытые в Киеве, Белгороде, Городске. Это были большие дома,
шириной как обычные, но большей длины (до 7 –
В.XII – XIII вв. были в городе уже и
трехкамерные дома – две избы или изба и клеть – срубы, соединенные постройкой
более легкой конструкции. Мы не будем здесь останавливаться на проблеме
развития русского городского жилища в целом, которое, на наш взгляд, не может
быть представлено просто как постепенное увеличение числа помещений (одно – два
– три). Этот важный вопрос удобнее решать на более поздних материалах,,
сохранивших древние названия частей жилища. Отметим лишь, что трехкамерные
срубные наземные дома в рассматриваемый период были редки. Они известны в
основном по новгородским раскопкам. Но дома феодальной знати были в ту пору уже
многокомнатными. Древнейшая русская летопись упоминает в составе боярских и
княжеских дворцов, кроме избы или истопки, также палаты (видимо, приемные
помещения), терем, сени, ложницу или одрину – спальню, медушу – нечто вроде
винного погреба (ПВЛ I, 24, 40, 74; ПСРЛ I, 8, 398; II, 128, 369).
Некоторые из этих названий говорят и о
высотности дома. Так, сени в то время не прихожая, как мы привыкли думать, а
парадная терраса, расположенная на втором этаже. Обычно сени поддерживались
столбами и снабжались красивыми деревянными решетками. Именно о таких сенях
поется в старинной песне: «Ах, вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые,
кленовые, решетчатые!» (Розанов, 1944, с. 48). Понятно, что именно с высокого
места выпускает молодая женщина сокола, чтобы тот летел на родимую сторонку.
Былина «Соловей Будимирович» рассказывает, как князь дал герою задачу построить
в одну ночь дворец и к утру уже стояли «три терема златоверховаты, да трои сени
косящатыя, да трои сени решетчатыя» (КД 1977, с. 12). Древнейшая летопись
содержит повествование о некоем варяге-христианине, жившем в Киеве в конце X в.
В
Ю. П. Спегальский предполагает, что сени были
отдельной постройкой (Спегальский, 1972, с. 239). Но другой летописный текст
говорит, что сени тесно примыкали к дворцу, и лестница снизу на сени вела и во
внутренние помещения дворца. Ведь под лестницей сеней своего дворца был в
Мы помним, что Соловей Будимирович построил для
князя не только сени, но и терема. Терем, по-видимому, был непременной частью
дворца феодала. Он завершал ансамбль, составляя его третий (или второй) этаж, и
шатровая (по большей части) кровля терема была видна издалека. Термин
«златоверхий», применявшийся к терему издавна, подчеркивал нарядность этой
кровли. Впрочем, терем и в самом деле мог быть покрыт, например, медными
листами, дававшими иллюзию золота. На миниатюре Радзивилловской летописи,
иллюстрирующей первое мщение княгини Ольги древлянам (
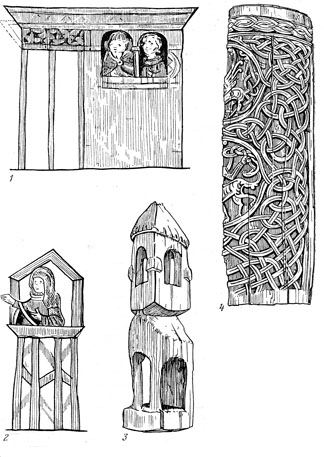
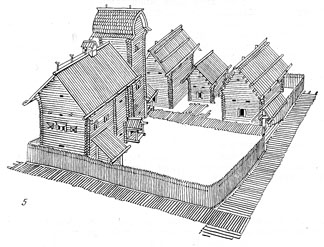
2. БОГАТЫЕ ГОРОДСКИЕ ДОМА X – XII ВВ.:
1 – дом с сенями. Киев, X в.;
2 – терем княгини Ольги. Киев, X в.;
3 – деревянная модель терема. Новгород. X в.;
4 – часть резной колонны. Новгород;
5 – усадьба художника в Новгороде, XII в.
(реконструкция Г. В. Бо-рисевича)
но помыться. Для них «пережьгоша истопку и
влезоша древляне цача ся мыти; и запроша о них истопку и повелеша зажечи я от
дверий ту изгореша вси» (ПВЛ I, с. 41).
Ансамбль княжеского дворца, обычно
расположенного на высоком месте в центре, играл большую роль в создании
архитектурного облика города. Венцом такой архитектуры в рассматриваемый нами
период был упомянутый уже белокаменный замок Андрея Боголюбского – один из
лучших образцов владимирского зодчества, близкий и к господствовавшему тогда в Европе
романскому стилю.
В южнорусских княжеских городах Киеве,
Чернигове, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Гродно, Звенигороде и Холме
раскопками открыты также остатки кирпичных дворцовых построек XIII в., к
сожалению не позволяющие представить себе ни плана зданий в целом, ни их
архитектурного облика (Раппопорт, 1975, с. 112, 115). Исследователи все же
полагают, что большинство из них были двухэтажными. Некоторые из киевских
каменных дворцовых помещений определяют как гридницы – залы для парадных приемов
и размещения дружинников – гридей (Липец, 1969, с. 175-182).
В Новгороде, в Троицком раскопе (на углу улиц
Пролетарской и Мерецкова), была открыта целая усадьба, построенная в 50-х годах
XII в. и просуществовавшая до
Рядом с этим зданием, ближе к воротам,
располагалось еще два строения – маленький (3,8X3,5 м) сруб, уцелевший еще от
строительства первой половины XII в. и многократно ремонтировавшийся, и сруб
побольше (площадью не меньше
* * *
Каковы были основные направления развития
городского жилища на первом этапе существования русских феодальных городов в IX
– первой половине XIII в.? Как уже сказано, возникнув в сельской среде, города
поначалу имели тот же тип жилища, что я села в данной местности. В дальнейшем в
городе, как и в деревне, возобладал второй тип жилища – наземные срубные дома.
К XII – XIII вв. он преобладал почти повсеместно. Может быть, темп его
распространения в городах был несколько выше, чем в деревнях. Однако
конструкция и планировка жилищ рядовых горожан были такими же, как в
крестьянских жилищах. «К сожалению, нет никаких данных для суждения о времени,
когда появилась разница между городскими и сельскими жилищами. Неясно также, в
чем эта разница выразилась, каковы были первые отличия городских домов от
деревенских», – пишет П. А. Раппопорт (1975, с. 161). Думается, что специфика
городского дома и даже двора не могла создаться сразу. Ведь рядовым горожанам
на протяжении нескольких веков не были чужды и сельскохозяйственные занятия,
включая хлебопашество, и двор горожанина включал поэтому, например, такие
сельскохозяйственные постройки, как овин и гумно. Все же попытаемся проследить
возникновение специфических черт городского жилища. Первую из них отмечает П.
А. Раппопорт на той же странице: совмещение функций жилища и мастерской
ремесленника. Мы не согласимся с ним только в том, что это не повлияло на
развитие плановой структуры дома и в особенности двора. Дело не только в
наличии специальных печей (для плавки металлов, для обжига керамики и т. п.), о
котором он говорит (с. 161). Добавим от себя, что это могли быть и другие
производственные сооружения (например, зольники и чаны для выделки кож). Но
дело этим не ограничивалось. На московском материале мы показали, что занятия
ремеслами вели к созданию пристроек к дому (сначала более легкой конструкции,
например столбовых к срубному дому). Да и во внутренней планировке самой избы
место ремесленных занятий обозначается, как мы видели, достаточно четко.
Дальнейшее развитие городского жилища связано, по нашему мнению, с теми
процессами, которые протекают в городе: усложнением социального состава
населения, углублением имущественного неравенства. Часть ремесленников, чья
продукция находит лучший сбыт, становится зажиточной и может себе позволить
строить более обширные дома. Не так ли появляются уже с X в. пятистенки?
Археологически известны случаи, когда можно с достаточной определенностью
выявить ремесленные занятия хозяина пятистенка (Рабинович, 1964, с. 84 – 86,
201) и то, что по крайней мере часть своей работы он производил в избе, хотя на
Дворе были и специальные производственные сооружения. С появлением зажиточных
горожан, принадлежавших к разным социальным категориям, связано, на наш взгляд,
и дальнейшее Усложнение жилища – трехкамерный и многокомнатный дома, а также
повышение этажности – от домов на подклете к двух- и трехэтажным жилым домам.
Последнее характерно для жилищ горожан, принадлежавших к господствующим
классам. Недаром пока все археологические находки домов усложненного плана и
дворцовых зданий относятся только к городам (Раппопорт, 1975, с. 142-143,
112-115).
Теоретически возможны еще открытия подобных
домов и в сельских поселениях. В частности, развитие феодальных отношений
знаменуется, как известно, возникновением укрепленных замков – резиденций
феодалов, позднее известных под названиями сельцо, большой двор, но
археологически они исследованы слабо (особенно IX – XIII вв.). Однако, даже
если бы на этих памятниках и были обнаружены многокомнатные дома, это мало
повлияло бы на наш вывод. Ведь и в XVIII – XIX и даже в XX столетии в
помещичьих имениях были дома, резко отличавшиеся от крестьянских, со всеми
доступными в данный период удобствами и зачастую с немалыми архитектурными
достоинствами. Но никто не относит их к сельской архитектуре, поскольку чаше
всего это – произведения зодчих-профессионалов, испытавших чрезвычайно большое
влияние города.
Итак, включение в усадьбу-двор производственных
сооружений, использование избы для ремесленных работ, увеличение камерности и
этажности дома, особенности домостроительства, связанные с углублением
социальных различий, – вот основные черты развития городского жилища. На первом
этапе существования городов, в IX – XIII вв., они сказываются не так резко, как
на последующих этапах, что мы и покажем в дальнейшем.
XIII-XV вв.
Двор. Жилой дом. Интерьер.
Дворовые постройки. Богатые дома
Русское жилище XIII – XV вв. изучено, пожалуй,
меньше, чем более раннее (домонгольского периода) и более позднее (XVI – XVII
вв.). Археологические материалы, дающие прочную основу для изучения
древнерусского жилища, освещают XIII – XV вв. гораздо слабее. Здесь сказалась
многолетняя направленность археологических работ преимущественно на
исследование памятников более ранних. Но в городах археологи все же фиксировали
слои XIII – XV вв., поскольку их нужно было пройти, чтобы добраться до ранних
горизонтов. Имеется и ряд публикаций, на которые мы будем ссылаться. Что же
касается письменных источников, то они для XIII – XV вв. очень бедны. Русские
летописи освещают в основном политические события и содержат довольно мало
сведений о народном жилище. Тем важнее эти косвенные упоминания, проливающие свет
на состав усадьбы и устройство жилища различных классов. Гораздо больше
материала дают акты, в особенности частные акты (духовные грамоты – завещания,
купчие, меновные. кабальные и т. п.). В них можно найти довольно подробные
описания дворов и домов с перечислением основных построек, иногда даже с
указанием их материала и конструкции. Однако от XIII – XV вв. до нас дошло
очень мало таких актов. Подавляющее большинство их относится к XVI и особенно к
XVII в. Писцовые и переписные книги появились только в конце XV – начале XVI в.
и могут быть привлечены нами лишь ретроспективно – постольку, поскольку
описывают поселения, сложившиеся в XV в.
Пожалуй, еще беднее источники изобразительные.
Достоверные изображения поселений и жилищ этого периода встречены лишь на
нескольких иконах (на которые будут даны ссылки в соответствующих местах),
Радзивилловская (Кенигсбергская) летопись, как и Тверской список хроники
Георгия Амартола, хотя и иллюстрирована в рассматриваемый нами период, но текст
ее посвящен событиям гораздо более ранним, а иллюстрации в ряде случаев
перерисованы с каких-то более древних оригиналов (Подобедова, 1965). К тому же
условный характер изображений зданий весьма затрудняет использование их для
Реконструкции. С большим успехом эти рисунки использовались Для восстановления
деталей построек (например, заборов, ворот и т. п.) (Маковецкий, 1962, табл.
3.)
Скудные данные разнообразных источников мы
попытались обобщить в статьях, помещенных в «Очерках русской культуры XIII – XV
вв.» и в сборнике «Древнее жилище народов Восточной Европы» (Рабинович, 1970,
1975). В настоящем разделе вводятся некоторые уточнения.
ДВОР
Основной единицей застройки в XIII – XV вв.
оставалась усадьба-двор с жилым, домом и хозяйственными постройками. Городской
двор в центральных и южных землях можно представлять похожим на сохранившуюся
до наших дней в южновеликорусских и североукраинских селениях застройку с жилым
домом, стоящим несколько поодаль от улицы (за забором), с хозяйственными
постройками, рассредоточенными по усадьбе и не связанными непосредственно с
домом. На севере Руси, в Старой Ладоге и Белоозере, дома с примыкавшими к ним,
по всей вероятности крытыми, хозяйственными дворами существовали еще в
домонгольское время. В Белоозере такая постройка с глаголеобразным двором была
возведена не ранее XII в.; стало быть, она могла существовать и в XIII в.
(Голубева, 1960, с. 81). В Новгороде встречены сени-хлев столбовой конструкции,
соединявшиеся с домом; в Москве в одной усадьбе XV в. к избе непосредственно
примыкал столбовой, покрытый соломой скотный двор (Засурцев, 1963, с. 52;
Рабинович, 1964, с. 212). Однако у большинства московских усадеб хозяйственные
постройки с домом не были связаны.
В городах значительные участки земли
принадлежали крупным феодалам-боярам и монастырям, которые не использовали их
целиком под свой собственный двор, но устраивали слободы, заселяя свои земли
ремесленным и торговым людом. Двор самого феодала занимал все же большую
площадь. Его окружал крепкий и высокий частокол – тын. Массивные ворота
(шириной, по-видимому, несколько больше
Крупная усадьба середины XIII в., открытая при
раскопках в Новгороде, включала двенадцать строений, среди которых было три
жилища, две мастерские и семь служебных построек (Колчин, 1957, с. 281).
У феодала была челядь – мужчины и женщины,
которых нужно было разместить. Он должен был явиться по зову князя «конным,
людным и оружным», поэтому на своем городском дворе держал много скота –
лошадей для службы и выезда,. коров, свиней, овец и коз для хозяйственных
надобностей. Конюшни, хлева, следовательно, были в усадьбе необходимы.
Пропитание боярина и его дворни должно было обеспечиваться, продуктами, которые
в большинстве привозили как натуральный оброк из многочисленных деревень. Для
хранения всей этой снеди нужны были погреба. О хорошо оборудованных погребах в
усадьбах московской знати, в которых хранились «меды господьскые», говорит
летопись (
Во дворе были и добротные амбары для хранения
разного рода запасов, а также бани, у крупных феодалов – иногда и своя домашняя
церковь. Почти каждый двор имел огород и фруктовый сад.
Археологическими раскопками пока не вскрыто ни одной усадьбы,
которую можно было бы бесспорно определить как. усадьбу купца. Возможно, что
богатые купеческие дворы по характеру своему приближались к усадьбам феодалов,
имели множество жилых и хозяйственных построек.
Большинство участков в городах было по-прежнему
занято ремесленниками. Дворы ремесленников имели гораздо меньшие размеры,
меньшее число построек и обязательно – производственные сооружения. Жилой дом
нередко служил и мастерской. На дворе были и другие производственные помещения
и хозяйственные постройки – хлев, конюшня, баня. Запасы и готовую продукцию
хранили в погребе и сарае.
Характерна усадьба ремесленника, открытая в
Москве, в Зарядье, в слоях конца XIV – начала XV в. На Великую улицу выходил
большой жилой дом-пятистенок, к которому примыкал с двух сторон частокол. Во
дворе, позади дома, находились небольшая плавильная печь-домница, хозяйственная
постройка (по-видимому, хлев) и колодец (Рабинович, 1964, с. 200 – 202). Хозяин
занимался добыванием железа из руды и литьем бронзовых украшений. Работал он на
дворе возле горна и в доме.
Другая усадьба, относящаяся к середине XV в.,
принадлежала сапожнику. Она тоже была окружена частоколом; здесь открыты
остатки жилого дома, погреба и рядом с погребом – остатки углубленного в землю
рабочего помещения под навесом (Рабинович, 1964, с. 201).
Внутренняя планировка дворов зависела от многих
обстоятельств. В усадьбе феодала господский дом находился в глубине двора, а на
улицу выходили глухие стены хозяйственных построек, тын ограды и ворота. Такая
планировка подсказывалась замкнутым характером хозяйства феодала; она
обнаружена как в археологически изученных усадьбах XVI в., так и в
сохранившихся планах усадеб XVII в. В ней можно видеть корки традиционного плана
застройки дворянских владений .XVIII в. с почетным чистым двором перед домом,
хозяйственным двором и садом позади него.
Для дворов ремесленников, купцов и приказных по
мере развития рыночных отношений становилось все более типичным положение жилого
дома в ближайшем к улице ряду построек. Раскопки в Новгороде показали, что от
этого, в общем, верного положения, имеются отклонения. Жилые дома на
перекрестке Великой и Холопьей улиц располагались в XI – XVII вв. и вдоль улиц
и в глубине участка. Среди исследованных раскопками усадеб обнаружено владение
бояр Жабиных, многие из которых были знаменитыми новгородскими посадниками.
Единственный на этой территории каменный боярский дом как раз выходил на улицу
(Колчин, 1956, с. 57 и ел.). Раскопки в Москве, в Зарядье, в районе улицы,
которая также носила название Великой, показали, что на усадьбе кожевника XII –
XIII вв. жилой дом стоял в глубине двора; на усадьбе литейщика-ювелира XIV – XV
вв. он выходил на улицу; на усадьбе сапожника XV в. стоял во дворе (Рабинович,
1964, с. 226 – 228).
При выборе положения жилого дома имели значение
и многие случайные обстоятельства, о которых мы сейчас можем лишь догадываться.
Так, в мастерской литейщика естественно было домницу поместить во дворе, в
мастерской сапожника нахождение дома в глубине двора не мешало мастеру
принимать заказчиков, так как его рабочее помещение (по крайней мере летом)
было у самых ворот, под навесом.
Говоря о планировке усадеб, нужно отметить еще
одну деталь: колодцы зачастую располагались внутри усадьбы. Но уже в XV в. они
обслуживали иногда несколько владений. Так, между двумя московскими усадьбами,
сгоревшими при пожаре
Очевидно, и ремесленники имели небольшие огороды
и фруктовые деревья, как об этом сообщают некоторые источники.
Приведенные материалы показывают, что городские
усадьбы XIII – XV вв. представляли замкнутые хозяйственные единицы, содержавшие
в себе все необходимое для жизни и производства. Однако усадьбы ремесленников
были более связаны и с соседскими усадьбами, и с городским рынком по всему
укладу жизни своих владельцев. По-видимому, не случайно, что именно в Новгороде
с его чрезвычайно развитыми торговыми отношениями и боярский дом в XV в. мог
выходить на улицу.
ЖИЛОЙ ДОМ
Рассматриваемый нами второй этап развития
городов характеризуется господством наземных срубных домов. Можно думать, что в
восстанавливавшихся после монголо-татарского разорения городах строились в
основном такие дома. Если во второй половине XIII в. в городах юго-западной
Руси еще встречались полуземлянки, то уже с XIV в. и до конца изучаемого нами
периода – XVIII – XIX вв. – подавляющее большинство домов горожан были
срубными. Жилой дом рубился из добротных (обычно сосновых или еловых) бревен и
имел подклет высотой на юге чаще всего в несколько венцов, а на севере выше (но
не более
Высокие крыши домов крыли тесом или, как
показали раскопки в Новгороде и Москве, дубовой дранью (лемехом). В Новгороде
преобладали, по-видимому, дома на подклете; в Москве были и такие дома, и избы
с завалинкой; в Переяславле открыты дома без подклета с деревянным полом. В
Белоозере и Ста-»рой Ладоге дом без подклета ставили на подсыпке из глины.
Срубы в XIII – XV вв. рубили еще исключительно в обло. Некоторые постройки
опирались на своеобразный фундамент из горизонтально положенных обрезков
бревен. Их углы иногда •ставились на вертикально врытых в землю столбах
(стульях) |или на камнях.
Основой дома рядового горожанина по-прежнему
являлась рубленная из бревен, примерно квадратная клеть, образовывавшая нередко
единственную жилую комнату (от 3,5X3,5 до 6X6 м).
Дальнейшее развитие жилого дома шло по линии
увеличения числа помещений. Большую давность имеют, как уже сказано,
цельнорубленные двухкамерные срубы, в которых капитальная бревенчатая пятая
стена разделяла дом на две части. Функциональное назначение этих частей жилища
зажиточных горожан до сих пор точно не выяснено. П. И. Засурцев, исследовавший
их в Новгороде, высказал мнение, что большая камера, где обычно находят остатки
печи, – изба в собственном смысле слова (истобка), а меньшая, где печь не
прослеживается, – сени. Возражая ему, Ю. П. Спегальский выдвинул иную гипотезу:
помещение с печью – это повалуша, а без печи – подклет горницы – верхнего
помещения, где устраивались теплые спальни, которые обогревались поднимавшимся
из повалуши дымом (Засурцев, 1963, с. 52, 57; Засурцев, 1967, с. 59;
Спе-гальский, 1972, с. 107 – 113). Нам представляется, что в этом споре Ю. П.
Спегальский не прав. Его положение, что при этом «бревна верхней части сруба и
его перекрытия можно уподобить нашим батареям центрального отопления» (с. 111),
необоснованно с точки зрения элементарных физических законов*. Однако спорно и
безоговорочное определение неотапливаемого помещения как сеней. В московском
доме-пятистенке XIV – XV вв. это была, скорее, «чистая» неотапливаемая
светлица, в которую проходили с крыльца через избу с печью. Размеры избы и
светлицы были в этом случае примерно одинаковы (Рабинович, 1964, с. 202).
В Новгороде такие срубы преобладали уже в XI –
XII вв., а позже их, кажется, стало меньше. В XIII – XV вв. наряду с
однокамерными и двухкамерными жилищами распространяются и трехкамерные
постройки, обычно из двух срубов, соединенных сенями, но даже в Новгороде
Великом они не составляют большинства построек.
В других поселениях трехкамерные постройки
редки, но все же встречаются. В частности, трехкамерное жилище открыто в г.
Орешке (Гуссаковский, 1956, с. 14; Кирпичников, 1971, с. 28; Колчин, 1956).
Видимо, жилища, состоящие из двух комнат (или жилой комнаты и кладовой –
клети), соединенных сенями, распространились широко в русских городах и
деревнях только в XVI – XVII вв., о чем речь будет ниже.
_______________________
* Теплопроводность и теплоемкость дерева весьма
низки, что делает его хорошим теплоизолятором, но не позволяет уподобляться
«батареям центрального отопления».
_______________________
ИНТЕРЬЕР
В жилых комнатах и сенях пол настилали большей
частью из толстых, тесанных топором деревянных досок, причем направление их
обычно было от входа к противоположной стене помещения. В южнорусских жилищах
мог быть и плотно утрамбованный земляной пол. Потолок в курной избе, как и в IX
– XIII вв., обычно отсутствовал (Спегальский, 1972, с. 61-^90). В богатых
городских домах потолок делали из брусьев или плах, опиравшихся на стену и
центральную балку – матицу. По некоторым данным, над потолком насыпали землю
для сохранения тепла. Окна в домах с курной печью делали маленькие, волоковые,
а в бедных домах и вовсе обходились без окон, экономя тепло (Спегальский, 1972,
с. 61 – 90). В комнатах, где печь была с трубой или где жили только летом,
можно было делать и косящатые окна современного типа. Массивные рамы этих окон
закрывали пузырем, слюдой, изредка стеклом, во дворцах даже цветным. Раньше,
чем в других городах, оконные стекла появились в Новгороде и Москве – с XIV в.
(Колчин, 1957, с. 280; Засурцев, 1963, с. 43). Это была роскошь, доступная
только очень богатым людям. Но и стекла того времени, не говоря уже о слюде или
пузыре, пропускали только свет и не позволяли ничего видеть на улице.
Даже и в богатых домах, где печь была с трубой,
а в окнах – слюда или стекло, большую часть суток нужно было пользоваться
искусственным светом. Для освещения служила чаще всего лучина, пучки которой
вставляли в специально откованные фигурные светцы. Такие светцы,
приспособленные для вбивания в стену, часто находят при раскопках. Иногда
употребляли масляные светильники – небольшие плошки с загнутыми вверх краями с
кольцеобразной ручкой. В эти плошки, очевидно, опускали фитиль. Люди побогаче
могли позволить себе такую роскошь, как сальные, а то и восковые свечи.
Сохранившиеся металлические и глиняные подсвечники позволяют установить, что
толщина свечей сильно колебалась (от 1 до
Печь, служившая рядовому горожанину как для
отопления, так и для приготовления пищи, помещалась по-прежнему обычно в одном
из углов. Но в жилище начала XIV в., открытом в русском квартале г. Болгар,
глинобитная печь стояла у противоположной входу стены, примерно по середине ее
(Ефимова, Хованская, Калинин, Смирнов, 1947, с. 107 – 109). Подавляющее
большинство печей были глинобитными, сводчатыми, с плоским подом; в начале
рассматриваемого периода встречаются изредка каменки, а в конце его – кирпичные
печи. Печь ставилась на опечке, который чаще всего представлял четыре (реже –
три или два) вертикально врытых в землю столба, и не была конструктивно связана
со срубом избы. В избах ремесленников печь не имела трубы и дым выходил прямо в
комнату, а оттуда – через дверь или окно на улицу. Могли быть и дымники,
известные по поздним этнографическим материалам (см.: Бломквист, 1956, с. 120,
256).
Вход в избу был через порог: дверной проем
прорубали не До низу, так что нижний венец предохранял от поддувания холодного
ветра. Дверь делали из толстых пластин дерева, соединенных деревянными брусьями
или фигурной железной планкой – жиковиной; вставляли дверь в обойму дверного
проема на деревянных или железных шпеньках, а иногда и навешивали На железных
петлях. Положение входной двери и печи по-прежнему определяло всю внутреннюю
планировку избы.
ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ
Надворные постройки так же, как и жилые, были
рубленными из бревен клетями. Пол в хозяйственных постройках делали земляной
или из неоструганных (а иногда и неошкуренных) тонких бревен и жердей. В
погребах из таких бревен нередко устраивали накат поверх подземной части погреба,
которая имела обычно земляной пол. Иногда самый сруб погреба делали не из
цельных бревен, а из расколотых на несколько частей. Выброшенную при рытье ямы
землю присыпали снаружи к стенкам и на крышу погреба, как прежде устраивали
полуземлянку. Встречаются и совсем маленькие погреба в виде врытой в землю
бочки, выдолбленной целиком из большого пня (Рабинович, 1964, с. 250), или
крупного глиняного сосуда (Потапов, 1963, с. 149). Беднота, у которой не было
больших запасов, могла обходиться и такими «погребами». В зажиточных усадьбах
погреб, если он стоял отдельно от дома, имел нередко еще напогребицу, служившую
для хранения различного имущества.
Бани были во многих севернорусских дворах. Их
строили также из бревен, но иногда на постройку бань шли отходы от других
строений. Так, в Москве, в Зарядье, была открыта баня, сгоревшая при большом
пожаре
Наружный забор, окружавший усадьбу, представлял
частокол из бревен диаметром 15 –
БОГАТЫЕ ДОМА
Дома феодальной знати и других богатых людей,
как и раньше, представляли собой большие, рубленные из дерева постройки, всегда
из нескольких срубов, а по высоте – в несколько этажей. Хоромы обычно строили
теперь в три этажа: нижний – нежилой подклет, второй, где, собственно, и
располагались основные помещения – как жилые, так и парадные, и третий, куда
выходили лишь светлицы и терема со своеобразными площадками – гульбищами –
вокруг них (Забелин, 1918, с. 25 – 28). Указания письменных источников
позволяют заключить, что дворцы в XIII – XV вв. были примерно такими же, как и
в более ранний период. Они включали множество комнат, находившихся в разных
этажах и служивших как для личного обихода, так и для парадных приемов, пиров и
увеселений. В личном пользовании феодала находилось обычно несколько комнат, из
которых главной была по-прежнему теплая изба. Летописи XV в. указывают среди
княжеских слуг истопника – истобничишко (ПСРЛ, XXV, с. 269).
Из парадных помещений известна горница. Таких
горниц и повалуш в княжеском дворце, по-видимому, было несколько, так как
упомянутая в
В XIV в. слово «сени» (в применении к дворцовым
постройкам) обозначало еще, как и раньше, крытую галерею верхнего этажа, а не
прихожую (в этом значении оно встречается позднее). Летописец, повествуя о
восстании в Твери против татарского баскака Чолхана в
По-прежнему дворец увенчивался богато украшенным
теремом. Когда в
Иногда в источниках упоминаются светлицы – как
видно из самого названия, специальные светлые помещения, предназначенные для
женских тонких работ: вышивания, художественного тканья и иных рукоделий. И. Е.
Забелин полагал, что светлица в отличие от других помещений, имевших окна
только на одной стене, располагалась так, чтобы окна были в трех, а то и в
четырех стенах (Забелин, 1918, с. 30).
Нижний этаж богатых хором – подклет – большей
частью служил, как и в домах простонародья, для разных хозяйственных нужд.
Вероятно, там не было помещений для приготовления пищи, которые вообще ставили
отдельно от барских хором, чтобы уменьшить опасность пожара, хотя и это плохо
помогало при тогдашней тесной застройке. Летопись под
Дворцовые помещения воздвигали по мере
надобности в разные сроки, поэтому дворцы русской знати, как и повсюду в то
время – в Европе и на Востоке, не были построены по какому-то единому, заранее
продуманному плану. Каждую новую «палату» пристраивали к другим там, где
находили нужным, и либо соединяли с ними переходом или дверью, либо делали
отдельный вход с наружной или внутренней лестницей.
В XV в. крупные феодальные сеньоры стали строить
себе каменные палаты, которые поначалу включали в общий комплекс с остальными
деревянными помещениями дворца. Пожалуй, больше всего таких зданий известно в
Великом Новгороде. При строительных работах там обнаружили остатки нескольких
каменных домов XV – XVI вв. (Засурцев, 1963, с. 68 – 69), по-видимому
принадлежавших крупным боярским фамилиям. Один каменный дом, открытый
раскопками А. В. Арциховского, несомненно, принадлежал новгородскому посаднику
Юрию Онцифоровичу Жабину. Он был построен в начале XV в. и просуществовал почти
100 лет – до конца XV – начала XVI в. От дома сохранился мощный фундамент,
заложенный на глубину почти
На этой же усадьбе был построен примерно в 20-е
годы XV в. и небольшой каменный погреб (6,5X6,5 м) (Засурцев, 1972, с. 257 –
259).
Другое каменное здание, которое исследователи
считают принадлежащим потомкам наместника Двинской земли Феликса, было
расположено на Торговой стороне Новгорода, на Ильинской улице, неподалеку от
церкви Спаса на Ильине. Этот дом был во многом похож на дом Юрия Онцифоровича,
лишь несколько превосходя его по площади (10,4X8,2 м), но имел не деревянное, а
каменное крыльцо (Засурцев, 1972, с. 259 – 260). Его построили также в начале
XV в. Наконец, на Готском дворе в Новгороде в XV в. имелась небольшая каменная
башня, входившая в один строительный комплекс с деревянным амбаром (Засурцев,
1972, с. 261 – 263).
Каменные палаты в середине XV в. стали строить и
духовные иерархи. Так, в
Каменные здания строили также на подклетах, и
основные помещения находились, таким образом, на уровне остальных Дворцовых
построек, с которыми соединялись площадками или переходами. Нижние этажи-подклеты
этих каменных зданий также использовали для хозяйственных целей, а сами палаты,
по всей вероятности, были залами для парадных приемов, как это достоверно
известно о Грановитой палате. Для жилья долгое время предпочитали более
здоровые деревянные помещения.
При строительстве каменных палат использовался
солидный опыт сооружения каменных церквей, оборонительных стен и башен
(конструкция фундаментов, техника кладки и пр.). Строили одни и те же мастера.
Для постройки в XV в. шел естественный камень – известняк. Брали обычно тот его
сорт, который имелся поблизости: в Новгороде – розовый ракушечник, в Москве –
«белый камень» из Мячкова или Дорогомилова. В Москве со второй половины XV в.
вошел в употребление и кирпич.
Внешние украшения домов знати в XIII – XV вв.,
как и раньше, сосредоточивали, очевидно, в верхней части здания, которая лучше
всего видна (особенно в тех случаях, когда дом стоял в глубине двора). Они
выражались как в сложных фигурных формах кровли и даже позолоте теремов, так и
в орнаментации карнизов, фризов, резьбе по дереву и камню, а возможно, и в
устройстве резных колонн на сенях и крыльцах. На крыше были и дымовые трубы с
фигурными резными дымарями (Забелин, 1918, с. 25). Резьбой украшали также
ворота.
Внутренние помещения, в особенности парадные,
богато убирали. Об этом говорят нередко встречающиеся в летописях упоминания
«разного узорочья», взятого врагами при разгроме княжеских дворцов. Как именно
выглядело это убранство, в точности пока неизвестно.
Вероятно, уже в то время в богатых домах печи
имели трубы и окна были в основном косящатые, со слюдяными оконницами. В XIV в.
в особенно роскошных дворцах были уже и застекленные окна – как в упомянутом
тереме Дмитрия Донского с его «стекольчатым» окном; можно думать, что стекла
были цветные, создававшие игру цветов внутри терема. О том, как выглядело такое
стекло, можно судить по находке в Новгороде в слое второй половины XIV в.
большого стеклянного витража: на сером фоне стекла – синий цветок (Колчин,
Янин, 1982, с. 28). Судя по более поздним материалам, любили и витражи более
ярких цветов, создававшие иллюзию освещения солнцем даже в пасмурный день.
Внутренние помещения дворцов знати были
достаточно освещены и естественным и искусственным светом, чтобы возникла
потребность в их специальном украшении. Источники XIII – XV вв. не содержат
сведений о росписи стен во дворцах, но такой обычай существовал и в более
ранний период, а о росписи внутренних помещений княжеских и царских дворцов в
XVI – XVII вв. имеется множество упоминаний, поэтому есть все основания думать,
что и в XIII – XV вв. стены и потолки богатых комнат украшали росписью, стены
могли также завешивать дорогими материями – «узорочьем».
Кирпичная печь с трубой тоже очень рано должна
была стать не только источником тепла, но и важным элементом украшения
интерьера. Народный обычай белить печи и расписывать их различными узорами и
рисунками на разные сюжеты, по-видимому, весьма древний. Позднейшие изразцовые
печи, получившие широкое распространение, уже в XVI – XVII вв., по всей
вероятности, сменили печи расписные.
«Красный» угол комнаты украшало множество икон,
выложенных золотом, серебром и драгоценными камнями. Среди них были древние
иконы и произведения, принадлежавшие кисти лучших современных художников.
Убранство внутренних покоев дополняла массивная разная мебель – столы, лавки,
коники. «Сказание о Мамаевом побоище» упоминает также стоявшие в княжеском
тереме рундуки (длинные лавки-лари, а по другим мнениям, стулья, украшавшиеся
резьбой). При раскопках в Новгороде найдены резные дверцы шкафов, хотя шкафы,
если судить по материалам западноевропейских городов, появляются несколько
позже. В парадных приемных залах стояли также специальные поставцы с
драгоценной посудой.
Главными чертами развития городского жилища в
XIII – XV вв. были: повсеместное преобладание наземных срубных домов и
хозяйственных построек, исчезновение полуземлянок увеличение камерности жилых
домов, в частности распространение в среде зажиточных ремесленников пятистенков,
появление каменных гражданских зданий – парадных палат в княжеских епископских
и купеческих домах.
Различия в устройстве жилищ богатых и бедных
горожан все углублялись по мере развития товарно-денежных отношений.
XVI-XVII вв.
Источники и исследования.
Материал и конструкция.
Двор и дворовые постройки.
Жилой дом. Богатые хоромы
ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Для этого этапа, столь важного при изучении
социально-экономического, политического и этнического развития русского народа
в целом, собственно археологических материалов (по причинам, которые мы
изложили выше) гораздо меньше, чем для двух предыдущих периодов. Однако этот
недостаток с лихвой компенсируется, во-первых, обилием письменных известий,
во-вторых, – наличием (хотя и немногих относительно) изображений и остатков
подлинных строений того времени. Что же до убранства интерьеров, то в
распоряжении исследователя имеется вполне достаточное количество реалий,
хранящихся в наших музеях.
Из разнообразных письменных источников XVI –
XVII вв. для нас наибольшую ценность представляют акты (Рабинович, 1982). В
данных, купчих, закладных, духовных, рядных, судных грамотах, а иногда и в
переписных книгах содержатся описания дворов, домов и отдельных помещений.
Полнота этих описаний бывает различна: в одних случаях постройки только
упомянуты (зачастую даже не все, что есть на усадьбе), в других кратко
говорится о материале и конструкции этих построек, в третьих находим сведения,
по которым можно восстановить детали конструкции и интерьер жилища. Наконец, в
некоторых актах (например, в наказах воеводам) содержатся косвенные данные о
характере жилища данной местности. Мы постараемся в дальнейшем дать читателю
более или менее полное представление о каждой группе актов, приводя наиболее
характерные их тексты. Однако, чтобы не перегружать изложения цитатами, многие
аналогичные источники – в подлиннике или в изложении – помещаются в приложении
I. Сейчас необходимо отметить, что обилие актового материала XVI и в
особенности XVII в., несмотря на разнообразие его публикаций, не позволяет пока
гарантировать полноту использования этого ценнейшего источника. Для настоящего
очерка использовано более трех тысяч всевозможных актов. В них с большей или меньшей
степенью полноты описано 830 усадеб (213 городских и 617 сельских), в том числе
по европейской части России – 762 (174 городских и 588 сельских) и в Сибири –
78 (39 городских и 29 сельских). Материалы по Енисейскому уезду Сибири,
разработанные В. А. Александровым (Александров, 1964), и все сведения о
сельских жилищах привлекались нами лишь как сравнительные.
Из городских усадеб Европейской России 96
принадлежали рядовым посадским людям, а 63 – феодалам, купцам и иным богатым
людям. Из деревенских усадеб феодалам принадлежало всего 8, а остальные 580 –
крестьянам. Крестьянские дворы в более или менее значительном количестве
описаны (хотя и не всегда полно) в Тверском (399), Кромском (144), Елецком
(31), Воронежском (6), а в Сибири в Енисейском (29) уездах. Городские – в
Новгороде Великом (16), Москве (27), Шуе (10), Угличе (7), Казани (41),
Воронеже (19), а в Сибири – в Енисейске (33) и Мангазее (4). Всего по
европейской части России мы располагаем сведениями о жилищах в 56 городах.
Географически они в силу самого характера источников распределены неравномерно.
Лучше всего представлены центр и юг страны (позднее Тверская, Владимирская,
Московская, Рязанская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская и Воронежская
губернии), слабее – северо-запад (Новгородская, Олонецкая, Псковская,
Смоленская), еще слабее – север (Ярославская, Вологодская, Архангельская,
Пермская); Среднее Поволжье представлено одной Казанью.
Все же и при таком состоянии исследования
письменных источников они дают возможность представить себе в основных чертах
русское городское жилище на обширной территории от Архангельска до Курска и
Воронежа, где проходил в те времена рубеж Русского государства, от Изборска на
его западной границе до Урала и Сибири. Сведения их будут для нас основными.
Впрочем, и археологический, добытый при
раскопках, материал не отсутствует вовсе. В культурном слое городов встречены
остатки домов XVI – XVII вв. не только каменных, но и деревянных. Правда, они
сохранились лишь там, где культурный слой достаточно влажен и хорошо
консервирует. К сожалению, внимание к этим относительно поздним для археологов
материалам далеко не соответствовало значению, которое остатки построек XVI –
XVII вв. имеют для истории развития жилища в целом, и для нашей темы мы располагаем
лишь несколькими усадьбами, раскопанными в Москве, Великом Новгороде, в
некоторых северных городах, в Мангазее. Юг России в этом плане остается пока
неизученным.
Археологические материалы становятся для XVI –
XVII вв. тем важнее, что позволяют широкие сопоставления с письменными
источниками. И если разного рода акты (прежде всего Духовные и купчие грамоты,
а также некоторые переписные книги) содержат достаточно полное перечисление
построек, входивших в состав городской усадьбы различных социальных слоев, если
в довольно многих случаях можно проследить размеры и материал построек и даже
их частей, то вопросы конструкции построек (по крайней мере, их оснований)
приходится освещать в основном по археологическим данным.
Изобразительные источники – планы, рисунки,
чертежи – Для XVI – XVII вв. гораздо более обильны, чем для предыдущих
периодов; некоторые из них (например, миниатюры лицевых рукописей) могут быть
использованы весьма ограниченно в силу специфической манеры изображения, принятой
в те времена. Но к этому времени относятся и более реалистические изображения.
В первую очередь это древние планы – рисунки городов. Тогдашний обычай рисовать
планы не как горизонтальные проекции, а как виды «с птичьего полета» имеет для
исследователя свои недостатки, но и свои преимущества. Эти планы-рисунки не
очень четки, совсем немасштабны, зато позволяют судить не только о планировке
квартала, но и о внешнем виде зданий, сооружений, даже об архитектурном
ансамбле древнего города. Такие планы появляются впервые в 30-х годах XVI в.
(Клепиков, 1965; Рыбаков, 1974). К XVII в. относятся и более подробные планы
отдельных частей городов, выполненные чаще всего для разного рода тяжб и
фискальных дел. Многие из них выполнены в старинной манере и сочетают элементы
плана-рисунка с обмерным чертежом, на котором указаны размеры участков и
построек (Ламанский, 1861). Для нашей работы наибольшую ценность представляют
планы Москвы XVI и XVII вв. (в особенности так называемый Петров чертеж и
Сигизмундов план), план Тихвинского посада XVII в., опубликованный Б. Д.
Грековым план части Новгорода конца XVII в. В то же время приезжими
иностранцами выполнено множество рисунков русских городов и сельских поселений
(назовем, в частности, рисунки из альбома австрийского посла Мейерберга).
В заключение нужно заметить, что вся
совокупность источников если и не позволяет пока точно картографировать
интересующие нас явления, то все же дает общее представление об их
пространственном размещении.
Обобщающие работы по русскому жилищу XVI – XVII
вв. появились около ста лет тому назад. Книга Н. И. Костомарова «Очерк домашней
жизни и нравов русского народа в XVI и XVII столетиях» (СПб., 1860) содержит
главы «Дворы и дома» и «Домашняя мебель и утварь», построенные исключительно на
письменных источниках, известных в то время. Н. И. Костомаров не разделял
городского и деревенского жилища, северных и южных областей. Много материалов
по народному (преимущественно городскому) жилищу содержится и в работах И. Е.
Забелина «Домашний быт русского народа» (Забелин, 1862, 1869) и «Русское
искусство. Черты самобытности в русском зодчестве» (М., 1900). Впрочем,
последняя работа посвящена больше проблемам собственно архитектурным.
Очевидная недостаточность материалов привела в
дальнейшем исследователей к детальному изучению отдельных видов источников и
отдельных областей. Наиболее важной из дореволюционных работ представляется
статья Н. Д. Чечулина «Русские деревянные постройки в XVI в.» (1893),
построенная на материалах писцовых книг Московского государства. В ней
рассматриваются в основном центр и север Европейской России – бывшая Тверская
земля, отчасти Вологодская, на юге – лишь отдельные пункты. В отличие от своих
предшественников Н. Д- Чечулин уделил главное внимание сельскому жилищу. Эта
линия исследования получила дальнейшее развитие в работах советских ученых: Г.
Г. Громова – общий очерк (Громов, 1977а); А. А. Шенникова – по средней и южной
части Европейской России (Шенников, 1962); пожалуй, наиболее важная – И. В.
Маковецкого – по Русскому Северу и Верхнему Поволжью (Маковецкий, 1962);
несколько больше материалов о городском жилище в книге В. А. Александрова – по
Енисейскому краю (Александров, 1964). Более узкой теме – технике строительства
– посвящена работа М. Г. Милославского (1956). Таким образом, русское жилище
XVI – XVII вв. изучено гораздо лучше, чем жилище XIII – XV вв. Приступая к его
рассмотрению, мы постараемся ввести в научный оборот и новые материалы, не
использованные нашими предшественниками.
МАТЕРИАЛ И КОНСТРУКЦИЯ
Основным материалом для строительства в XVI –
XVII вв. было дерево. Значительное увеличение числа белокаменных, а потом и
кирпичных зданий не могло по существу изменить общей картины: русские города
были по преимуществу деревянными. Из дерева рубились постройки, возводились
заборы, мосты, набережные, настилались мостовые. Каменные палаты были теперь не
только в крупных городах – встречались иногда и в деревне. Однако такую роскошь
могли позволить себе только очень богатые люди – феодалы и «гости» – именитые
купцы. Да и у тех обычно каменные постройки сочетались с деревянными. Из камня
и кирпича возводили сначала лишь парадные помещения, о которых уже была речь
выше. В XVI в. число таких построек увеличилось, а в XVII в. стали возводить из
камня и жилые палаты. Но характерной чертой богатой русской усадьбы было очень
тесное сочетание деревянных и каменных построек. Даже во дворце московских
царей, построенном в начале XVI в., на общем белокаменном подклете возвышались
не только каменные, но и деревянные палаты – «брусяные избы». А хозяйственные
помещения, например поварни, стоявшие отдельно, были деревянными сплошь
(Бартенев, 1916). Боярская усадьба если и имела один небольшой каменный дом, то
остальные постройки были рублеными. Часто даже и эта каменная палата не
представляла собой отдельного здания, а была как бы встроена в деревянный Дом.
Археологические и архитектурные исследования в Москве, Пскове, Великом
Новгороде дают именно такую картину (Спегальский, 1963; Рабинович, 1952). И
гораздо позднее – в XVIII – XIX вв. – в больших и малых русских городах совсем
не редки были дома смешанной конструкции (низ каменный, верх деревянный),
причем деревянные части далеко не всегда Штукатурили. Еще в XVI в. посетивший
Россию иностранец – англичанин Д. Флетчер писал: «Деревянная постройка русских,
по-видимому, гораздо удобнее, нежели каменная или кирпичная, потому, что в
последних больше сырости и они холоднее, чем деревянные дома, особенно из
сухого соснового леса» Флетчер, 1906, с. 18 – 19). Это свидетельство человека,
приехавшего из страны каменных замков, особенно ценно. В конце
XVI и особенно в XVII в. распространились уже и
целиком каменные жилые дома, которые сохранились в некоторых городах (Москве,
Новгороде, Пскове, Смоленске, Вологде, Холмогорах, Владимире, Ростове,
Ярославле, Гороховце, Рязани, Калуге и др.). Это были царские терема, хоромы
других крупных светских и духовных феодалов и богатых купцов. И в самом конце
столетия посетивший Москву И. Корб писал: «Дома частных лиц по большей части
деревянные... одни только вельможи и богатые купцы живут в домах, выстроенных
из камня» (Корб, 1906, с. 223).
В связи с развитием каменного строительства
расширяются разработки естественного камня и производство кирпича. В частности,
усиливается эксплуатация знаменитых Мячковских каменоломен, из которых брали
камень еще в XIV в. для строительства Московского Кремля. Сохранились рядные
записи XVII в. на поставку мячковского известняка митрополиту рязанскому и
муромскому для строительства в Переяславле Рязанском (нынешняя Рязань) (АЮБ II,
№ 255, с. 781 – 782). Строятся казенные («государевы») и частные кирпичные
мастерские, появляется первый русский государственный стандарт кирпича
(Воронин, 1934, с. 96 – 97; Раппопорт, 1949, с. 294 – 295). Развивается, хотя и
в небольших масштабах, производство кровельной черепицы и отделочных материалов
– изразцов, плитки, даже керамических печных труб (Рабинович, 19496, с. 97).
Наши источники зафиксировали некоторые зональные
различия материала для возведения стен и кровель деревянных построек. Лесная
зона Европейской России, как уже говорилось, давала наилучший строительный
материал – прямые и ровные сосновые и еловые бревна. В письменных источниках
зачастую даже не указывается порода дерева, из которого срублена «бревенная»
постройка. Вероятно, в подзоне хвойных лесов при отсутствии конкретных указаний
на породу леса можно предполагать применение сосны или ели. На это указывают
материалы археологические. Открытые при раскопках новгородские жилые постройки
XVI – XVII вв. в основном срублены из сосновых или еловых бревен (Засурцев,
1959, с. 264). В Москве преобладали сосновые, но встречались и дубовые жилые
срубы, а в хозяйственных и оборонительных сооружениях дуб применялся чаще
(Рабинович, 1964, с. 218 – 219). В Витебске около 60% построек XII – XVIII вв.
были рублены из хвойного дерева (преимущественно сосны) и 40% – из лиственного
(по большей части дуба) (Колединский, Ткачев, 1983, с. 22). Авторы не выделяют
жилых и хозяйственных построек, так что нельзя заключить, какую породу леса
предпочитали в Витебске для тех или других. На кровлю шли тес (тесницы), дрань
(драницы), лемех из сосны или дуба. В Москве лишь однажды были найдены остатки
соломенной кровли хозяйственной постройки.
Следует думать, что в центре и на юге
Европейской России, в лесостепной зоне, а в пределах лесной зоны в подзоне
широколиственных и даже елово-широколиственных лесов рядовое сельское и
городское население не могло обеспечить себя нужным строительным материалом. На
это указывают и письменные источники, сведения которых, впрочем, довольно
отрывочны. Так, на севере, в лесной зоне, в Олонце в
А вот в областях более южных зачастую специально
оговаривали породу дерева, из которого возведена (или должна быть возведена)
постройка. Например, в Калуге в 50 – 60-х годах XVII в. для воеводы были
сооружены постройки из «елового леса... бревенные и дощатые», крытые дранью.
Бревна были «в от-рубе пяти и шести вершков», т. е. диаметром около
Для сравнения отметим, что в сельской местности
даже во дворе, принадлежавшем в XVI в. самому царю (с. Борисовское
Боголюбовского стана), могла быть плетеная конюшня и вокруг двора плетень.
Ближе к Москве, на Дмитровской дороге, на р. Уче в
Итак, в XVI – XVII вв. на севере европейской
части России в зоне хвойных лесов основным строительным материалом был хвойный
лес, кровля делалась тесовая или из драни, заборы в большинстве случаев
представляли собой частокол (тын, тын стоячий, тын вострой, колье). В
центральной части, где близко подходит подзона широколиственных лесов, наряду с
сосной и елью применяли дуб, но в основном для хозяйственных (реже для жилых)
построек; кровля господствовала драночная, но встречалась (особенно на
хозяйственных постройках) и соломенная. Заборы – по-прежнему частокол, но уже
попадаются и пластины, и замет (о конструкции его речь будет ниже), и даже
плетень. На юге в подзонах елово-широколиственных и широколиственных лесов и в
лесостепной зоне, сосну и ель применяли, когда была к тому возможность; на
срубы шли и дуб, и липа, и ольха, и осина, и береза, при нужде собирали срубы
из «разного» леса, иногда в хозяйственных постройках применяли не срубную, а
столбовую или даже плетневую конструкцию, на кровли шла менее качественная
дранка – лубье и дор, а также солома; дворы старались огородить частоколом, но
городили и заметом, и плетнем.
Конструкция срубных строений в основном
по-прежнему была с выступающими концами бревен – в обло (реже – в крюк), но для
хозяйственных построек с XVI в. стали применять рубку углов в лапу. Такое
крепление углов неоднократно прослежено при раскопках в Москве, причем
московские плотники освоили и самый сложный вариант этого крепления – в лапу с
зубом (Рабинович, 1964, с. 215). Самый термин «в лапу» был, видимо, известен,
по крайней мере, с XVII в., поскольку документ
Сруб покоился, как и в предыдущий период,
непосредственно на земле или на невысоких подпорках – естественных камнях (на
севере), деревянных столбах. Подпорки эти, в частности столбы, не обязательно
ставились под самый угол, чаще – на некотором расстоянии от него. Отмечены и
случаи, когда сруб подпирала вымостка из плах (Засурцев, 1963, с. 265). В
безлесных местностях и в XVI в. фундамент делали из мелких камней, не
скрепленных раствором. Такую субструкцию, предназначенную для деревянного
здания, удалось проследить в Перемышле Московском.
В зависимости от многих обстоятельств сруб жилой
постройки был высокий или относительно низкий. На этих особенностях конструкции
домов мы остановимся ниже. Здесь отметим, что в XVI – XVII вв. не только в
богатых домах, но и в домах рядового населения зачастую был высокий («жилой»,
как отмечают источники) подклет, что у домов без подклета археологически
прослежена завалинка, что и надворные постройки нередко были высокими – погреб
имел напогребицу, на амбаре могло быть сушило, или сенница.
Кровля жилых домов рядового населения, судя по
сохранившимся изображениям, была преимущественно двускатной. Чертежи и рисунки
XVI – XVII вв. в подавляющем большинстве изображают такие кровли*. Приведенные
выше упоминания куриц и тесниц говорят, скорее всего, о «самцовой» конструкции
тесовой кровли, опиравшейся на положенные в торцевых стенах здания бревна –
самцы. Дранки, лубье, дор крепились, видимо, также на двускатной самцовой
кровле. О стропильной конструкции кровли наши источники не упоминают.
Хозяйственные постройки могли иметь как двух-, так и односкатную кровлю (в
частности, упоминаемые источниками «навесы»).
Дома же богатых людей и культовые здания имели
кровли гораздо более разнообразные. Церковь, о которой говорилось, что она
построена клетски, представляла собой обыкновенный, несколько удлиненный сруб с
двускатной кровлей, на гребне которой, в восточной части здания, ставилась
маленькая, крытая дранкой главка с крестом. Но уже в XVI в. широко
распространились церкви, называемые источниками вверх, т. е. с шатровой
кровлей. Шатровые же верхи (высокие или низкие) имело и большинство крепостных
башен. Общеизвестно, что деревянные шатровые здания стали прототипом для
каменного шатрового зодчества, так пышно расцветшего в XVI – XVII вв.
(Раппопорт, 1949). Хоромы богатых людей и дворцы феодалов поражали
современников обилием и разнообразием кровель. Каждый сруб или каменная палата
имела свою кровлю, как правило, затейливой формы – в виде килевидной бочки или
многогранного шатра. Сочетание всех этих кровель, которых, таким образом, в
богатом доме было множество, придавало ему вид целого городка (Забелин, 1900).
Представление о таких домах дают изображения царского дворца в Коломенском или
хором Строгановых в Сольвычегодске, к рассмотрению которых мы еще вернемся.
В заключение краткого обзора материала и
конструкции русского городского жилища XVI – XVII вв. нужно сказать, что это
был период весьма оживленного нового строительства. И каждый раз, когда
московское правительство строило или ремонтировало какой-либо город, для этого
отводились участки строевого леса. «Указали мы, великий государь, на Дедилове
починити город, – гласит грамота
________________
* См., например, планы-рисунки Москвы, в
частности план
________________
его постройки отвели лесные порубки в Угличском
уезде, в вотчине князей Шуйских-Ушатых. Стены, башни и даже церкви будущей
крепости рубили и собирали под Угличем, затем разбирали, спускали на барках
вниз по Волге и вновь быстро возводили уже на месте – в устье Свияги (ПСРЛ
XIII, с. 163).
Такое развитие приемов строительства требовало
участия специалистов-плотников, которых и было в русских городах множество.
Плотники объединялись в артели.
Об обрядах, выполнявшихся при закладке нового
дома в XVI – XVII вв., сведений почти нет. Единственное и притом косвенное
указание на такие обряды можно увидеть в записи расходной книги вятского
земского старосты (1678 – 1680 гг.) о том, что при закладке горницы на
воеводском дворе воеводе подарен калач и ржаной хлеб, не купленный у калачника.
Не было ли это ритуальным печением? При закладке воеводский поп отслужил
молебен (ТВятУАК V – VI, с. 98).
О древнем обряде строительной жертвы говорит археологическая
находка (Седов, 1957, с. 20 – 28) под досками пола дома, построенного в
Новгороде в начале XIII в., деревянного ковша, который поставили, видимо, с
каким-то ритуальным питьем. Больше данных о том, что при постройке в жертву
приносился конь или петух – животные, связанные у славян еще с культом
Святовита. Под углом дома или вблизи входа в X – XIV вв. зарывали теменем
кверху конский череп (иногда без нижней челюсти, а иногда одну только нижнюю
челюсть) или голову петуха. Исследователи считают, что эта жертва имела
значение оберега от злых духов самого дома и тех, кто в нем жил, и служила
выкупом за срубленные деревья (Зеленин, 1937, с. 20).
ДВОР И ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ
Городской двор, как и в предыдущий период, чаще
всего ограждал тын, т. е. частокол из бревен, обычно не очень толстых – 12 –
Другой вид усадебной ограды – замет из прясел.
Прясло представляло собой деревянную конструкцию из двух вертикально врытых в
землю довольно толстых (диаметром 15 –
Наконец, третий вид наружного забора – плетень
из тонких, вбитых (или врытых) в землю жердей, оплетенных прутьями.
Эти приемы применяли и при строительстве
второстепенных частей жилого дома или хозяйственных построек. Выше были
упомянуты и сени кольем, и конюшня заметом, или плетневая, и т. п.
Забор должен был надежно ограждать усадьбу не
только от случайных нежелательных посетителей, но и от нередких в те времена
преднамеренных нападений. Общеизвестно, что во время восстания против занявших
Москву поляков в
Иногда горожанам приходилось обороняться и
против русских дворян и «лихих людей». Так, дворяне Сухотины обвинялись в
Для входа и въезда в усадьбу в заборе
устраивались ворота, иногда – ворота и калитки, изредка – двое ворот
(«передние» и «задние», см. выше). Ворота состояли из вертикально врытых мощных
(диаметром 30 –
По-видимому, непременной деталью ворот в богатом
и в бедном доме была подворотня – широкая доска, прислонявшаяся к полотнищам
ворот, чтобы не образовалась щель, в которую из двора могла бы выскочить
какая-нибудь живность, и во двор никто не пролез. В Повести о Шемякиной суде
убогий брат, взяв у богатого лошадь, «привезе ко двору своему», но забыл
выставить подворотню, «и ударив лошадь кнутом. Лошадь же изо всей мочи броскся
через подворотню с возом» (РДС, с. 20).
Сам двор мог быть разделен на несколько участков
дополнительными внутренними заборами. Например, его хозяйственная часть
отделялась от «чистого» двора перед самим домом, сад и огород отделялись от
собственно двора. Эти внутренние заборы бывали значительно облегченной по
сравнению с наружной оградой конструкции (и притом ниже человеческого роста),
поскольку назначение их было иным – они должны были препятствовать проникнуть в
сад, огород и на чистый двор скоту и птице. Раскопками обнаружены плетень и
легкая изгородь из жердей (или слег, как их называют в некоторых областях).
Горизонтальные жерди клались в два ряда на вбитые в землю опоры.
О том, как располагались на территории усадьбы
отдельные постройки, у нас довольно мало сведений. Все же сохранившиеся чертежи
усадеб XVII в. и некоторые археологические данные, приведенные нами выше,
позволяют предположить, что преобладала (в особенности в центре и на юге
России) свободная планировка усадьбы с несомкнутыми, не связанными с домом
дворовыми постройками. Описания дворов, как мы видели, особо отмечают связь
построек, если она присутствует, а в большинстве случаев ограничиваются простым
их перечислением. Можно все же думать, что в XVI – XVII вв. развитие планировки
городской и крестьянской усадеб шло по линии связи отдельных срубов жилых и
хозяйственных построек. Именно в этот период (см. приложение I)
распространяются появившиеся ранее типы трехкамерного и двухкамерного дома, а
на севере, в частности в Новгородской земле, и однорядная связь дома с
надворными постройками.
Археологические раскопки в Москве показали, что
линия ограждавшего усадьбу забора нередко прерывалась постройками по большей
части хозяйственного и производственного назначения – погребами, сараями,
мастерскими. За редким исключением это были добротные сосновые и дубовые срубы,
выходившие, как нужно думать, на улицу своими глухими стенами, что не нарушало
замкнутости усадьбы. Жилой же дом располагался обычно на некотором расстоянии
от забора и этих построек; перед ним образовывался участок «чистого» двора,
иногда даже вымощенный. Известен старый обычай вежливости, согласно которому
гость должен был обязательно оставить повозку или лошадь у ворот и пройти к
дому пешком. Постройки для скота – хлева, конюшни – располагались позади дома,
образуя хозяйственный двор, еще далее, в глубине усадьбы, были и сад, и огород.
В некоторых, особенно богатых, усадьбах было даже несколько дворов, например
передний, задний и конюшенный, или псарный.
Усадьба ремесленника не могла быть столь
замкнутой, как Усадьба феодала. Б течение XV – XVII вв. мастерская, а затем и
Жилой дом (нередко это было одно и то же) выдвигаются непосредственно на улицу,
так как работа ремесленника на заказ требовала, чтобы к нему был свободный
доступ (Гольденберг П., Гольденберг Б., 1935, с. 49 – 51). Впрочем, уже отмечалось,
что эта тенденция не господствовала абсолютно. В Москве и Новгороде отмечены
случаи, когда дом ремесленника располагался в глубине двора, а как раз боярские
хоромы выходили прямо на улицу. Все же уже в XVI в. так много городских домов
стало выходить непосредственно окнами на улицу, что понадобились специальные
узаконения, чтобы охранить прохожих, например, от злых собак. Судебник
О застройке городской усадьбы дают представление
части планов XVII в. Эти планы-рисунки, как уже сказано, неполны. Однако в
общих чертах характер планировки можно установить. На рис. 3 представлен район
Рождественки (ныне ул. Жданова) в Белом городе. Большой участок на северной
стороне улицы (65X24 – 28 сажен, почти
Больше данных о погребах, ледниках и
напогребицах. Они неоднократно встречены при раскопках. Судя по приведенным
выше текстам, различали погреб «теплый», т. е. без льда, и ледник. В первом
случае это была четырехугольная яма, закрепленная срубом (размер колеблется от
3x3 до 5,5x5,5 м) из относительно тонких бревен, а иногда и из пластин, с
земляным полом. Глубина такой ямы метра полтора. Но сама постройка была
значительно выше, причем к стенкам сруба присыпали землю, выброшенную прежде,
при рытье ямы. Примерно на уровне присыпки устраивался пол, отделявший
собственно погреб от напогребицы; в полу устраивалось отверстие, от которого
деревянная лестница вела вниз. В напогребице хранили также продукты или
различное имущество, не требовавшее какого-либо определенного температурного
режима. Так, в московских погребах найдены, видимо, упавшие сверху из
напогребиц предметы упряжи, части саней и телег, не бывшие в употреблении
кровельные драницы, печные изразцы. Ледник отличался от «теплого» погреба тем,
что имел специальное устройство для охлаждения. Пол исследованного в Зарядье
ледника был выложен кирпичом, причем у одной стены вымостки не было, и
специальный желоб вел от этого места к поглощающему колодцу. В стене погреба
имелось отверстие – отдушина. В таком погребе можно было соблюдать не только
температурный, но и влажностный режим, отводя воду, образовавшуюся при таянии
льда, и вентилируя камеру. Здесь было прохладно, но не сыро. Ледник имел такую
же напогребицу, как и погреб. Но размеры его были больше, материал – добротнее
(зачастую дуб). Ледник имелся только на богатой усадьбе.
Нужно сказать, что погреба вообще бытовали,
по-видимому, не во всех русских землях, а преимущественно в тех, где жилье было
поземным или на невысоком подклете. Это естественно, так как подклет при
холодном климате может заменить погреб. П. И. Засурцев считает, что повышенная
влажность почвы в Новгороде затрудняла устройство погребов и пользование ими
(Засурцев, 1963, с. 78). Думается, что дело не во влажности почвы (новгородцы
отлично умели отводить воду от своих построек), а как раз в распространении
подклетов, которые делали погреба ненужными. Погреба в Новгороде все-таки были,
но Далеко не в каждой усадьбе. Из приведенных в приложении I материалов видно,
что на шестнадцати усадьбах было всего шесть погребов и один каменный ледник,
видимо специально приспособленный для хранения свежей рыбы. А на московских
Усадьбах бывало по два и по три погреба (Рабинович, 1975, с 208). О постройке в
начале XVI в. нового великокняжеского Дворца в Москве «с погребы и с ледникы»
уже говорилось.
Относительно устройства и конструкции других
хозяйственных построек – клетей, амбаров, сараев, житниц, мшаников, сушил и
поветей, курников, сенников (или сенниц), конюшен и хлевов – у нас нет никаких
сведений. Из контекста их упоминаний (см. приложение I) явствует, что мшаник,
или омшаник, по всей вероятности, разновидность хозяйственного подклета,
проконопаченного мхом. Сушила же, сенники, повети, вероятно,
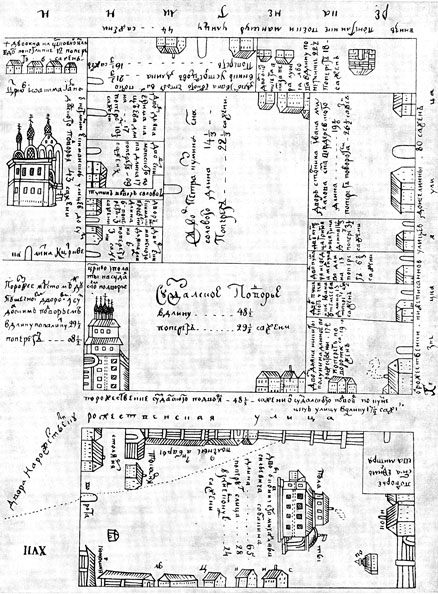
3. ПЛАН РАЙОНА РОЖДЕСТВЕНКИ (МОСКВА, XVII В.,
ЧЕРТЕЖ ПРИКАЗА ТАЙНЫХ ДЕЛ)
и курники – хозяйственные постройки,
располагавшиеся относительно высоко – на других сооружениях (Даль III, с. 154;
IV, с. 377), как это можно наблюдать в позднейших деревенских усадьбах. Что
касается мельников, то это были помещения для размола зерна, оборудованные,
по-видимому, поставом – парой ручных жерновов, а также деревянными ступами. Назначение
хлевов, конюшен, овинов и гумен не требует пояснений.
Вот какое представление об использовании
хозяйственных построек в богатой городской усадьбе дает Домострой. В житницах и
закромах хранится в бочках и коробах «всякое жито» – различное зерно, крупы,
мука, отруби, высевки, а также печеный хлеб, сухари, масло, соль, вино, квас и
«кислые шти». Но скоропортящиеся продукты держат в погребах и ледниках, реже –
в напогребицах; для дорогих «фряжских» вин рекомендуется иметь особый погреб.
Сушеные и вяленые («ветреные») мясо и рыбу держат в сушиле. Сено хранится в
сеннике. В клетях, подклетах и чуланах размещаются хозяйственные предметы,
одежда, материи, ковры и полсти, пологи; упряжь, сани, дровни, телеги, колеса и
пр. – тоже в подклетах, подсенье или в амбаре, а «в ыном амбаре» – разная тара
(бочки, бочонки), посуда и другие хозяйственные предметы, наконец – «ветшаный
всякий запас, и обрески, и обломки». Скот – в хлевах и конюшнях, которые перед
сном обходят с фонарем, но «оу сена и оу соломы однолично из фонаря огня не
вымати», и вообще «двор бы был... везде крепко горожен или тынен, а ворота
всегды приперты, а к ночи замкнуты, а собаки бы сторожливы, а слуги бы стерегли
же, а сам государь или государыня послушивают ночи» (Д., ст. 45, с. 44 – 45; ст.
65, с. 63 – 54; ДЗ ст. 52 – 54, 56, 63, с. 51 – 61).
Баня (мыльня) и поварня условно отнесены нами к
комплексу жилых построек. Они могут трактоваться и как постройки хозяйственные.
Приведенное выше описание усадебной бани XV в. можно дополнить лишь
соображением, что эта постройка' не всегда имела деревянную крышу; кровля ее
могла быть земляной (вероятно, в таких случаях источник говорит: «Баня не
покрыта»). Для XVI – XVII вв. нельзя твердо говорить об определенной
закономерности в распространении бань как отдельных построек. Города, где
источники указывали бы баню в каждом дворе, составляют скорее исключение.
Например, на территории северных областей бани имела лишь половина описанных
нашими источниками усадеб, на территории северо-западных – четвертая часть,
центра и юга – более трети, в Сибири – треть. Все же на северо-востоке как
будто бы начинает уже формироваться будущий район большего распространения бань
(Vahros, 1966). Наряду с этим бытовали общественные бани, о которых говорилось
в нашей книге об общественном и семейном быте (Рабинович, 1978а, с. 126 – 132).
Поварни как отдельные постройки характерны для
богатых Усадеб, где было множество слуг, обслуживающих господскукухню и стол.
Отделение их от основного сруба дома вызвано, безусловно, соображениями
безопасности от пожаров. Нечто подобное – летние кухни – было и в домах рядовых
горожан. В XVII в. общим местом всех воеводских наказов – этих своеобразных
должностных инструкций по управлению городами – было предписание запрещать жителям
в летнее время топить печи и «сидеть с огнем», т. е. освещать дома лучиной,
свечами или плошками, «чтобы в летнее время в городе, и на посаде, и в слободах
изб и мылен не топили и ввечеру поздно с огнем не ходили и не сидели, а есть бы
варили и хлебы пекли в поварнях и на огородах в печах» (см. напр., АМГ I, №
129, с. 157). Как мы видим (см. приложение I), в некоторых городах, например в
Новгороде, отмечено немного таких печей во дворах (вероятно, в огородах), а
было их, наверное, гораздо больше.
Наконец, важную принадлежность городской усадьбы
составлял колодец. В сельских поселениях колодцы в те времена не отмечены.
Возможно, их и не применяли, добывая воду непосредственно из рек или ключей. В
городах мы тоже не встречаем колодцев до середины XV в. В XVI же и XVII вв.
переписные книги нередко отмечают на усадьбе колодец, иногда – «полколодца» (т.
е. один колодец приходится на две усадьбы). Бывали, видимо, и более сложные
отношения, когда в городах один колодец приходился на несколько усадеб. Так, от
Устройство колодцев ясно по археологическим
находкам и старинным изображениям. Колодец крепился в подавляющем большинстве
случаев четырехугольным срубом из обрезков бревен или брусьев. Есть довольно
много изображений шестиугольных колодцев, но археологически найден только один
в Москве, вероятно XVIII в. Над колодцами устраивали на столбах специальный
навес – сень. Воду доставали ведрами и кувшинами с помощью веревки, ворота или
рычага – журавля. В последнем случае сени над колодцем быть не могло.
ЖИЛОЙ ДОМ
Посмотрим теперь, что представлял собой в XVI –
XVII вв. жилой дом рядового горожанина. Источники (см. приложение I) отмечают обычно
прежде всего, имел ли дом подклет или был поземным. Из описанных домов в
Новгороде было 4 поземные избы и 18 на подклете, а в Воронеже – 18 поземных и 1
на подклете, в Москве – 16 поземных и 13 на подклете, в Шуе – 5 поземных и 5 на
подклете. Можно сказать, что дома на подклете преобладали в городах севернее
Москвы. В Московской и Владимирской землях бытовали как поземные избы, так и
горницы на подклете, южнее преобладали поземные избы.
Нужно думать, что в этом отношении (наличие или
отсутствие подклета, на наш взгляд, диктовалось главным образом условиями
климата) дома крестьян вряд ли намного отставали от домов рядовых посадских
людей: кто мог, строил себе высокий дом на подклете, кто не мог,
довольствовался поземной избой. Проезжавший через северные русские земли (от
Белого моря к Москве) англичанин Флетчер так писал о виденных им домах: «Дома
их деревянные, без извести и камня, построены весьма плотно и тепло из сосновых
бревен... Между бревнами кладут мох... для предохранения действия наружного
воздуха. Каждый дом имеет лестницу, ведущую в комнаты со двора или с улицы, как
в Шотландии» (Флетчер, с. 17). Такое сравнение с северной зоной Британских
островов показательно.
Поземная изба, как и ранее, зачастую утеплялась
земляной Завалинкой. Такую завалинку мы проследили у московского дома XVII в.,
принадлежавшего зажиточному горожанину (Рабинович, 1964, с. 222 – 223). Она
имела конструкцию, отчасти сходную с более древними сооружениями, открытыми в
Старой Ладоге, Торопце и Новгороде, и интерпретировавшуюся некоторыми
исследователями как завалинка * (Засурцев, 1963, с. 16, 123; Спегальский, 1972,
с. 162 – 169). У московской постройки низ завалинки также представлял собой
круглое бревно, но не перевязывался со срубом дома, а был укреплен вертикально
вбитыми кольями.
Подклет же был обыкновенным срубом той же
конструкции, что и жилая часть дома. В XVI – XVII вв. подклет дома назывался
также подзыбица, нутр, щербеть, а такие же срубы под клетью или сенями
назывались соответственно, подклет, подсенье. Нередко источники указывали, что
подклет дома был также приспособлен для жилья («жилой подклет», «нутр жилой»).
Мнение Н. И. Костомарова о том, что термин «жилой подклет» противополагался
«подклету глухому», использовавшемуся якобы лишь в хозяйственных целях
(Костомаров, 1860, с. 36 – 48), на наш взгляд, нуждается в уточнении. Речь
идет, по всей вероятности, о подклете, не имевшем самостоятельного входа,
специально прорубленной двери. В такой глухой подклет нужно было спускаться из
верхнего помещения – сеней или горницы. Н. И. Костомаров прав в том отношении,
что глухой подклет был для жилья не вполне удобен, в особенности если поль-
________________________
* В этом споре, на наш взгляд, прав П. И.
Засурцев. Реконструированное Ю. П. Спегальским сооружение есть не что иное, как
завалинка, но более сложной конструкции.
________________________
зовались верхними и нижними помещениями разные
семьи, что случалось не так уж редко. Глухим мог все же быть и жилой подклет, а
подклет нежилой мог иметь двери. На усадьбе конского целовальника в Шуе был,
например, «анбар с верхним жильем» (АШ, № 125, с. 222 – 224), в который вряд ли
ходили через верх. На то же обстоятельство указывают, по нашему мнению, слова
берестяной грамоты: «А стоять во потклете, кто придет з беростом» (Арциховский,
1954, № 40, с. 39). В доме богатого новгородского вотчинника подклеты могли
использоваться и как канцелярские помещения. Относительно великокняжеских и
царских дворцов это хорошо известно (Векслер, 1971, с. 198 – 206). И. Е.
Забелин отмечал, что иногда целые учреждения назывались так потому, что
занимали соответствующие помещения: «Володимерский подклет», «Дмитровский
подклет», «Рязанский подклет» (Забелин, 1862, с. 23). Впрочем, такое использование
подклетов приближается к использованию их под жилье. Домострой, как мы видели,
называет подклеты преимущественно как складские помещения, но возможно, что в
этих случаях речь идет не о подклетах под жилым домом, но о собственно
подклетах – помещениях под клетями («в клетях, подклетах и онбарах») (Д., ст.
55, с. 53 – 54). Описывая свадебный чин, Домострой называет подклет как
помещение, где молодые проводят брачную ночь («сенник, а по-обычному –
подклет») (ДЗ., ст. 67, с. 53 – 54). Здесь речь идет, по всей вероятности, о
помещении под горницей.
Мы уже говорили выше, что там, где
распространены были дома на подклетах и вообще двухъярусные дома и
хозяйственные постройки, мало применялись погреба. Можно согласиться с
авторами, считавшими, что и домашние подполья были принадлежностью поземных
изб.
В Москве открыты нижние части поземных домов XV
– XVI вв. – врытые в землю срубы, в которые при их гибели упали сверху
находившиеся в горницах печи и некоторые бытовые предметы. Сами же эти погреба
(подполья) служили для хозяйственных нужд. В доме хлебника на Яузе, например, в
подполье стояли бочки с зерном, хотя на усадьбе был и отдельно стоящий погреб
(Рабинович, 1949а, с. 35). Нужно сказать, что дома, имевшие невысокий подклет.
в этом отношении должны быть приравнены к поземным: такой подклет не мог быть
использован как жилое, а в ряде случаев и как хозяйственное помещение и
приходилось рыть еще подполье. Так, недалеко от Великого Устюга в
Если о высотности дома говорят все источники,
многие из них указывают материал, то о его конструкции, как правило, сведений
очень мало. Сруб, углы которого скреплялись в обло или в крюк (лишь изредка – в
лапу), очевидно, завершался двускатной кровлей. Таковы почти все изображения
посадских и крестьянских домов. Судя по упоминаемым в описаниях построек
деталям, это была хорошо известная по позднейшим этнографическим материалам конструкция
– на самцах с желобами и курицами, удерживавшими тесницы (или драницы). Самцы
фронтонов зданий можно увидеть на многих рисунках XVII в., в частности в
альбоме Мейерберга (Аделунг, 1827, № 17) и на чертеже Тихвинского посада
(Сербина, 1951, приложение). Только что процитированная порядная грамота
говорит, что «и мох, и драницы, и желоба, и курицы» плотники поставляли сами
(Д., ст. 56, с. 55). Домострой рекомендует домовитому хозяину иметь всегда на
дворе запас дерева: бревна, доски, драницы, усечки и урубки.
Кровлю, как и в древности, венчало квязевое
бревно, или конек, удерживавший верхние концы тесниц или драниц.
Не много сведений о внутреннем устройстве жилых
помещений. Археологические раскопки в городах обычно открывают жилье с деревянным
полом. Судя по поздним этнографическим аналогиям, доски настилались в
направлении от двери так, чтобы входящий двигался вдоль, а не поперек настила
пола. В упомянутой порядной книге Троице-Гляденовского монастыря говорится об
устройстве двери «на четвертом ряду», а дверь должна была иметь порог,
следовательно, пол врубался между третьим и четвертым венцами поземного дома.
Двери в домах рядовых посадских людей делали так
же, как и в более раннее время, и вставляли в специальную обойму – одверье,
закрепленное в срубе выше пола на один венец, образовывавший порог. В Мангазее
наряду с такой конструкцией порога найден и специально изготовленный вставной
брус с пазами (Мангазея, ч. II, с. 15). «Дверной прибор» – петли, жиковины –
дополняли металлические кольца-ручки, пробои для замков и внутренние замки,
имевшие также фигурные металлические пластины снаружи.
Потолок (подволока) в доме крестьянина или
бедного горожанина, как и ранее, мог вовсе отсутствовать, если печь топилась
по-черному. Однако жилой подклет обязательно имел потолок уже в силу самой
своей конструкции: пол горницы был одновременно потолком подклета. В
помещениях, где печь была с трубой, потолок делали обязательно: иначе пропадал
смысл «белой» печи: тепло уходило бы под крышу. Конструкция потолка с его
центральной балкой (матицей) восходит, по крайней мере, к XVII в.: «...а матица
положить на пятнадцатом бревне подле матки» (Маковецкий, с. 22), – читаем мы в
уже цитированном документе
Потолок нередко присыпали сверху землей для
лучшей теплоизоляции, но между горницей и подклетом этого, вероятно, не делали.
На такую мысль наводит то обстоятельство, что свадебный чин предписывал молодым
провести первую ночь «не под землей». Для этого в княжеском тереме специально
устраивали сенник (Бартенев, с. 121), а в простых домах использовали
«по-обычному подклет» (ДЗ, ст. 67, с. 173 – 174).
Рассмотрев упоминаемые в источниках усадьбы юга
и севера Европейской России мы видим, что повсюду в городах в течение XVI и
XVII вв. идет процесс распространения трехкамерной связи. В подавляющем
большинстве случаев к этому типу жилища переходили от двух или нескольких
несвязанных построек на дворе, соединяя их сенями, но мы назвали (см.
приложение I) четыре случая, когда трехкамерному жилищу предшествовало
двухкамерное типа «изба с сенями»; такой путь стал впоследствии более удобным
для развития деревенского жилища. Трехкамерная связь «изба – сени – клеть»
возникла, как мы видели, много раньше, но лишь у узкого круга зажиточных
горожан, а в XVI и особенно в XVII в. распространилась довольно широко и у
рядовых посадских людей, не вытеснив, однако, полностью однокамерных изб,
которых оставалось еще много. Встречались у горожан и отдельные двухкамерные
дома (типа «изба – сени»). В деревню же трехкамерные и двухкамерные дома только
начали проникать. Большинство крестьянских изб были однокамерными*.
________________________
* О. В. Овсянников (Мангазея, ч. II, с. 22)
предположил, что в других случаях можно говорить о трехкамернои связи, но
несколько иного типа: «изба – сарай – клеть», где сарай заменяет сени (см.
также: Овсянников, с. 125, 129). Но в пользу этого предположения, относя его
притом лишь к крестьянскому жилищу (Мангазея, ч. I, с. 21), он не приводит
никаких доказательств. К тому же описываемое О. В. Овсянниковым под видом сарая
помещение – это не крестьянская хозяйственная постройка. Не доказано О. В.
Овсянниковым и происхождение трехкамернои связи из крестьянского
домостроительства. Это утверждение (Мангазея, ч. I, с. 21) остается
голословным, поскольку не приведено упоминания трехкамернои связи вообще где бы
то ни было в сельской местности в XVI в. Между тем в следующей части тот же
автор утверждает, на наш взгляд обоснованно, что «сибирское домостроительство в
конце XVI – -начале XVII в. являлось своеобразным слепком севернорусского
посадского (разрядка наша. – М. Р.) жилища» (Мангазея, ч. II, с. 23). И далее
(с. 219 – 225) показано, что двор мангазейского.воеводы в первой четверти XVII
в. состоял из не связанных между собой построек и только после перестройки во
второй четверти XVII в. приобрел план трехкамернои связи. Видимо, в города
Севера России, а через них и в Сибирь трехкамерный дом проникал постепенно,
причем, конечно, в первую очередь во дворы зажиточных горожан.
В докладе о приемах домостроительства в городах
Северо-Запада Руси, сделанном в
Названная дата возникновения трехкамерного
городского дома, на наш взгляд, еще должна быть уточнена, но факт широкого
распространения в городах этого типа жилища в XV – XVII вв. бесспорен, тогда
как в сельской местности (кроме домов феодалов) такие жилища неизвестны.
Думается, что с появлением упомянутой публикации
________________________
Изба на подклете называлась обычно горницей –
она была по отношению к подклету «горним» (верхним) помещением. О внутренней
планировке избы XVI – XVII вв. у нас мало сведений. Известно, например, что как
раньше, так и позже жилое помещение характеризовалось в основном типом печи.
Изба, или горница, называлась черной или белой в зависимости от того, стояла ли
в ней курная беструбная печь или печь с трубой. В городах белых изб и горниц
было довольно много, в деревнях почти не было. Зажиточный горожанин всегда имел
печь с трубой. Недаром даже в словарь-разговорник русского языка, составленный
в XVII в. одним немцем, попала фраза: «Заткни трубо ино будет сдесь тепло»
(Хорошкевич, с. 207). Печная труба имела, должно быть, вьюшку, которую можно
было закрыть. Керамическая труба, закопченная изнутри, с фланцем-обоймой для
печной вьюшки найдена при раскопках в Москве в Гончарной слободе, где, видимо,
в XVII в. было налажено довольно широкое производство таких труб. Печь могла
быть глинобитной или кирпичной. Под ее всегда делался кирпичным. Домострой
рекомендовал так ухаживать за печью: «А печи всегды посматривают внутри и на
печи и по сторонам, и щели замазывают глиною, а под новым кирпичом поплатят,
где выломалося, а на печи всегда было бы сметено, ино николи притчи от огня не
страх и оу всякой бы печи над челом был искреник гли-нян или железен и хоти
низок потолок ино не страх от огня» (ДЗ, ст. 61, с. 58 – 59). Здесь описана,
по-видимому, «белая» печь с трубой и специальным противопожарным устройством –
искреником.
Печь ставилась на опечке, устройство которого мы
описали в предыдущем разделе. «Черная» печь могла иметь дощатый дым-ник, или
дымовник, для вывода дыма, но, кажется, чаще дым выходил в одно из волоковых
окон. О положении и ориентировке печи у нас почти нет сведений: письменные
источники ни разу не упоминают направления печного устья. При археологических
раскопках в тех немногих домах, которые датируются XVI – XVII вв., печи были
столь сильно разрушены, что определить устье не было возможности. Единственный
случай, описанный нами в Москве, говорит о перестройке, перепланировке
помещения, причем печь осталась на месте (Рабинович, 1964, с. 221).
Первоначально она стояла по диагонали от входа, устьем к нему. Но это, видимо,
не устроило владельцев, и они вынуждены были пристроить к дому сени у той
стены, у которой стояла печь, прорубить возле печи новую дверь, а старую
заделать. Теперь печь стояла слева от входа, устьем к противоположной стене.
Так восточный вариант южновеликорусской планировки (если употреблять позднейшую
терминологию) (Бломквист, 1956, с. 215; Станюкович, 1970, с. 66 – 67) сменился
северно-среднерусским. Возможно, что в данном случае перед нами результат
приспособления каких-то переселенцев с юга к климатическим условиям Москвы.
Мы видели, что и плотники и каменщики должны
были делать окна «где доведетца», «где понадобитца», т. е. по указанию хозяина,
а не по заранее намеченному плану, На этом основании, казалось бы, можно
подумать, что в расположении окон не было определенного порядка. Однако,
рассмотрев изображения русских домов XVI – XVII вв. на планах, иконах и пр., мы
приходим к выводу, что к этому времени уже сложилась традиция расположения окон
по крайней мере в простейшей «единице жилья» – избе с курной печью. На
большинстве изображений изба показана обращенной торцом к зрителю (если это
рисунок улицы – то на улицу). При этом обычно хорошо виден фронтон,
образованный двускатной крышей, самцы и треугольник волоковых окон,
прорубленных каждое в одном только венце сруба (реже – в двух соседних).
Верхнее окно – посредине, в одном из самцов фронтона, два нижних – на одном
уровне, ближе к углам. Иногда такой же «треугольник» можно увидеть в длинной
стороне избы (например, в трехкамерной связи у передней избы, выходящей
фронтоном на улицу, окна – в торцовой стене, а у задней избы, расположенной
позади нее, через сени, окна – в боковой стене). Встречаются изображения изб с
двумя, а иногда только с одним волоковым окном (в этих случаях – всегда в
торцовой стене). Два окна располагались на одном уровне (Маковецкий, табл. II,
№ 4, 12). Один только раз замечено «беспорядочное» расположение трех окон в
торцовой стене: верхнее – под фронтоном, левое нижнее – у угла, правое нижнее –
у другого угла, но значительно ниже левого. Но, кажется, это не волоковые, а
«красные» слюдяные окна (Маковецкий, табл. V. №1).
Такое устойчивое расположение окон позволяет
говорить и об особенностях внутренней планировки избы. Если признать вслед за
нашими предшественниками, что верхнее окно под фронтоном служило для выпуска
дыма и при отсутствии потолка давало и некоторое освещение всей избы, то два
нижних торцовых окна должны были освещать соответственно устье печи и красный
угол. Стало быть, печь стояла у одной из боковых стен, устьем к выходящему на
улицу торцу, т. е. у входа, а красный угол располагался от нее по диагонали. Наличие
окна в боковой стене позволяет локализировать красный угол (кут) именно у этой
стены, а печь – у противоположной. Тогда второе окно в той же боковой стене,
если оно имелось, могло освещать коник.
Перед нами, стало быть, изба, соответствующая позднейшей
северносреднерусской планировке (Станюкович, с. 66 – 67). На плане Тихвинского
посада мы находим трехкамерный дом посадского человека (очевидно, «горница –
сени – повалуша»). На улицу выходит торец горницы с «треугольником» окон, ее
боковая стена – с двумя окнами, стена сеней – с красным окном и глухая стена
повалуши (см. с. 7). Все части здания – на высоких подклетах; вход в дом,
видимо, со двора, через крыльцо и противоположную от зрителя сторону сеней
(Сербина, прил.). В этом случае дверь в избу была с противоположного улице
торца, печь – слева от двери, устьем к противоположной входу стене, середа
(«бабий кут») и красный угол – у торцовой стены, к улице, коник – направо от
входа. Но при таком расположении окон можно представить себе и другую внутреннюю
планировку: печь – • слева от входа, устьем ко входу; середу – справа от входа;
красный угол – в дальнем правом углу, по диагонали от печи (т. е. позднейшую
западно-русскую планировку, в особенности если учесть географическое положение
Тихвина) (Станюкович, с. 66 – 67). Такая же планировка, вероятно, была и в тех
случаях, когда «треугольник» окон изображен на боковой стене избы. Конечно, обо
всем этом можно говорить лишь предположительно, поскольку в нашем распоряжении
нет ни одного чертежа или словесного описания плана избы. Рисунки, на которых
есть изображения окон, относятся как раз к северным, западным и центральным
областям страны – Соловецким островам, Тихвину, Великому Новгороду,
Троице-Сергиеву монастырю, Москве. На рисунках из альбома Мейерберга изображены
деревни к западу от Москвы. Верхнее окошко зачастую отсутствует, а иногда окна
совсем не видны. Юг тогдашней России в наших изобразительных источниках не
отражен.
В тех случаях, когда на фасаде избы нарисованы и
красные (косящатые) и волоковые окна, косящатое расположено в центре, волоковые
– по бокам; верхнее волоковое окошко тогда отсутствует. Функция «общего»
освещения избы перешла к центральному окну, которое в силу своей конструкции
имеет и большую, чем боковые, высоту. При наличии потолка верхнее волоковое
окошко и не нужно. Для освещения образовавшегося чердака использовали маленькое
окошечко- – светелку. Таким образом, наличие трех окон (сначала волоковых, а
потом красных) по выходящему на улицу торцовому фасаду имеет в русских городах
достаточно глубокие корни и восходит, по крайней мере, ко второй половине XVI
в. «Домик-крошечка в три окошечка» был характерен не только для малых, но и для
средних русских городов едва ли не до наших дней.
О том, каким мог быть дом горожанина, о его
оборудовании и неподвижной мебели говорит порядная запись, заключенная в
Конечно, этот дом строился для воеводы, хотя и
довольно скромного. Но если не говорить пока о повалуше, чулане и пр. и
оставить в стороне большой размер комнат и высоту постройки с подклетом (почти
Интересна прежде всего сама техника сооружения
помещений и неподвижной мебели. Углы горницы рублены в крюк ( с выступающими
концами), потолок брусчатый, стены изнутри «выс-кричены», т. е., очевидно,
выскоблены или затесаны плоско. Двери косящатые, вставлены в брусяную раму –
одверье. Окна красные, т. е. косящатые, и волоковые. Особенно интересно, что
красное окно сделано и в черной избе. Лавки, коники, кутники (угловые лавки в
красном углу), полати в черной горнице делаются одновременно со стенами избы и
снабжаются задвижными ларями – залавками. Тут же производится и «опушка» лавок
– своеобразный декоративный вырез нижнего края. Полы (здесь они названы «мост»)
сделаны не из досок, а из бревен. Подобные полы встречались нам при раскопках в
Москве, но они характерны не для жилых, а для хозяйственных помещений. Нужно
думать, что в данном случае бревна были сверху плоско затесаны. Плотники делали
также опечки и выводную трубу (дымоволок) в черной горнице, но печи клали не
они. Жилой подклет устраивался так же, как горница, но окошки в нем были только
волоковые. В черной горнице была у печки внутренняя лестница в хозяйственный
подклет, как в поземной избе бывала лестница в подполье. А в сени вела наружная
лестница, имевшая какую-то площадку или крыльцо (рундук) со своей кровлей.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
терминология грамоты вполне соответствует более поздней, применявшейся в
русской деревне в XIX в.: «лавки», «залавки», «коник» и т. п.
О соотношении подвижной и неподвижной мебели и
иных предметов меблировки дает представление следующий текст Домостроя: «В избе
или в которых хоромах стол, лавки или скамья» (ДЗ, ст. 65, с. 58 – 60) или «а в
горнице, и в комнате, и в сенях, и на крыльце, и на лестнице всегда бы было
чисто, и рано и поздно, а стол и суды всякие всегда чисто мыти, и скатерть
чиста ... а постеля и платья по грядком и в сундуках, и в коробьях». Образа
должны быть укреплены на стенах «благолепно и со всяким украшением и со
светильниками» (в списке Общества истории и древностей российских добавляется:
«в них же свещи») и снабжены занавеской, которую следует после молитвы задергивать.
Их нужно обметать чистым крылышком, вытирать мягкой тряпкой («губою») (Д., ст.
33, с. 31; ст. 8, с. 8).
Итак, мы видим, что в избе или горнице, т. е. в
жилой комнате среднего горожанина, была печь, находившаяся, по-видимому, иногда
и посредине, но чаще у одной из стен (Засурцев, 1963, с. 38)*.
Полати встречались в городском доме не всегда.
Кроме полатей, неподвижную мебель составляли лавки с залавками, коники, грядки
(полки). Сходство терминологии позволяет предположить, что коник, как это было
в крестьянских избах XIX в., являлся особой лавкой, нередко имевшей украшение в
виде конской головы и служившей местом мужских домашних работ (Станюкович, с.
68 – 71). Лавки с подпушкой и кутники располагались в углу, где висели иконы,
грядки – по стенам, над лавками и коником. Стол стоял, вероятно, как и позже,
«под образами», у лавок, с другой стороны к нему приставляли скамью. Обо всем
этом говорит также описание свадебного чина в Домострое; места на подвижной
скамье считались менее почетными, чем на неподвижных лавках. Когда было много
гостей, к столу подставляли еще один стол, почему-то именовавшийся «кривым»,
также менее почетный, чем основной стол (ДЗ, ст. 67, с. 167 – 188).
Такова была меблировка относительно скромного
жилища. Об убранстве комнат в богатых домах будет сказано несколько ниже.
________________________
* П. И. Засурцев отмечает, что серединное
положение печи в Новгороде встретилось лишь в 4,6% случаев, слева от входа – в
30, справа – в 43, в переднем правом или левом углу (т. е. у противоположной
входу стены) – в 21% случаев.
________________________
БОГАТЫЕ ХОРОМЫ
Как и в предыдущий период, дома богатых людей и
знати мало различались по областям. На севере и юге России богатый дом строился
на подклете и состоял из множества помещений, которые мы рассмотрим ниже.
Любопытны краткие описания домов воевод,
наместников и дьяков в небольших городах XVII в. (Милославский, 1956, с. 89 –
90). Нам известно 23 таких описания или упоминания дворов: в Холмогорах,
Олонце, Изборске, Ростове, Ряжске, Шацке, Кашире, Калуге, Лихвине, Черни,
Севске, Ельце, Курске, Путивле, Острогожске, Чугуеве, Сокольском, Полотове,
Яблокове, Вятке и Енисейске. Археологически исследован воеводский двор в
Мангазее. Однокамерный дом (без сеней) отмечен в двух случаях, двухкамерный – в
одном, трехкамерный – в трех, остальные – многокамерные. Большинство домов
стояли на подклетах, и только пять были поземными. Это тем более интересно, что
две трети перечисленных выше городов расположено в южной части страны (южнее
Москвы).
Дома феодалов и богатых горожан XVI – XVII вв.
многократно были описаны исследователями древнего русского быта и историками
архитектуры (см., например: Забелин, 1862; Забелин, 1900; Бартенев, 1911; 1916;
Потапов, 1902 – 1903; Спегальский, 1972). Мы не будем поэтому подробно
разбирать данные письменных и изобразительных источников. Напомним только, что
дом богатого человека представлял собой совокупность многих помещений, поднятых
на высокие подклеты и соединенных между собой переходами на уровне, как мы бы
сейчас сказали, второго этажа. Дворец крупного феодала был, по сути дела, целым
небольшим городком. В нем выделялось обычно несколько комплексов: прежде всего,
парадные комнаты, служившие для приемов, затем личные хоромы самого феодала,
покои его жены и дочерей, взрослых сыновей, наконец, служебные помещения. Все
это дополнялось по крайней мере одной, а чаще несколькими церквами. Каждый
взрослый член семьи феодала всегда имел в своем личном распоряжении несколько
комнат, дети с их мамками и няньками жили обычно в покоях матери. Рассмотрим
для примера не главный дворец московских царей в Кремле, а их второстепенную
резиденцию – дворец в г. Коломне, выстроенный при Иване Грозном. Там была
церковь Воскресения (в подклете которой оборудована пивоварня), большая
столовая брусяная изба, еще какая-то каменная парадная палата, под парадным же
красным чердаком, большие сени, два красных крыльца, государевы хоромы –
-тройни (передняя, средняя и задняя комнаты), повалуша, двое сеней и через
переходы – санузел (облая столчаковая изба), тоже с сенями, хоромы царицы из
двух комнат, повалуши, сеней и столчаковой избы со своими сенями, наконец,
хоромы царевича – также из двух комнат с сенями и санузлом. Баня была, как
видно, одна для всех членов семьи. Хозяйственные постройки: поварни, ледники,
сытная изба, «палатка, в чем ставят сосуды серебряные», сушило, наконец,
«дьячая изба» (видимо, канцелярия) дополняли комплекс дворца. Он был огорожен
не тыном, а заметом, в котором было двое ворот (ПКМГ I; Милославский, 1962).
Высшая московская знать имела почти такие же
усадьбы, с той лишь разницей, что у некоронованных особ не было обычая выделять
отдельный комплекс хором для «государыни» (хозяйки) и взрослых детей. Их дети,
подрастая, поступали на государеву службу, получали самостоятельные поместья и
вотчины, отселялись от родителей в собственные дворы. Например, в усадьбе князя
Мстиславского в г. Веневе в XVI в. было четыре двора: передний, задний, конюшенный
и псарский. Только половина княжеского дворца была огорожена тыном, остальные
же части оставались «просты». На переднем дворе стоял жилой комплекс самого
владельца – две горницы, две комнаты, две избы и две повалуши соединялись тремя
сенями и имели два крыльца. Переходы вели от них к мыльне. На заднем дворе
стояли хозяйственные избы: поваренные, пивоваренные, скатерные, даже кабацкая,
погреб с клетью; на конюшенном дворе было 57 конюшен, житница и мшаник (на этой
опасной южной окраине Московского государства князь, видимо, должен был держать
целое войско); на псарском дворе были две избы, две клети, чулан, десять житниц
и специальный «медвежий» сруб, где, наверное, держали медведей для излюбленной
потехи тогдашних крупных феодалов – медвежьей травли (ПКМГ II, с. 15).
На дворе коломенского «владыки» (архиепископа)
было двадцать пять построек, в том числе семь жилых.
Один из последних удельных государей в
Московском царстве- – князь Владимир Андреевич Старицкий также имел в Коломне
свой двор, который включал, между прочим, два сада и девять жилых помещений:
две горницы, две комнаты, повалушу, трое сеней, отхожую избу. На дворе князя
жил дворник, у него были изба с пристеном и повалуша (трудно сказать,
трехкамерное это жилье типа «изба – пристен – повалуша» или двухкамерное – изба
с пристеном и отдельно стоящая повалуша), амбар и мыльня.
В северо-западных русских землях дворы феодалов
были в общем такими же. В конце XVI в. у наместника г. Изборска были «горница
столовая на подклете полчетверты сажени, да сени, а в них чюланец полторы
сажени, а из тех сеней другие сени, да повалуша трех сажен, а против повалуши
другая горница на подклете трех сажен, а промеж горницы и повалуши сени
полтрети сажени; да против наместничья двора изба судебная на взмоете, Меж
углов полчетверты сажени, да у судебни, под стрельницею, на которой стрельнице
колокольница, ледник камен полчетверты сажени, да житница полторы сажени, да
погреб камен трех сажен, да у погреба клетка люцкая дву сажен, да против двора
Поварня полчетверты сажени, да за городом (т. е. по внешнюю сторону крепостной
стены. – М. Р.) у Больших Николских ворот мылня меж углов дву сажен с локтем,
перед мылнею сенцы полторы сажени, а делают тот наместнич двор всем городом и
уездом» (МАМЮ, т. V, с. 295). Наместник г. Острова имел на дворе 12 построек,
шесть из них были в двух связях – «изба – сени – клеть» (МАМЮ, т. IV, с. 281).
Вместе с тем некоторые наместники в небольших городах довольствовались, как мы
показали выше, поземной трехкамерной избой или даже отдельно стоящими избой и
повалушей.
В Тверском уезде в XVI в. на великокняжеском
дворе были только «горница столовая, да горница ж с комнатою, меж их повалуша,
двои сени, да ледник завалился». Двор этот был лишь немного богаче рядового
помещичьего двора. В том же уезде на дворе помещика Фомы Исакова были «горенка
с сенями, да повалуша, да житенка, да мыльня, да избишко развалилась» (ПКМГ II,
с. 340 – 341, 365; Там же, с. 8 – 9).
Характерно, однако, что богатый двор в XVI в.
обязательно имел сени, в то время как на дворе, даже принадлежавшем дворянину,
но бедному, могло сеней не быть. Н. Д. Чечулин приводит описание дворов
небогатых детей боярских в Казани в 1566 – 1568 гг. На 41 двор приходилось 86
построек (немногим более двух на двор), в том числе 29 изб, 24 горницы, 4
повалуши, 12 клетей, 4 чулана, 3 подклета, 3 конюшни, 1 поварня, 1 напо-гребица
и 1 пристен (Чечулин, 1893, с. 7 – 8). Но обратим внимание на то, что ни разу
не упомянуты сени, т. е. трехкамерное жилище в Казани в середине XVI в.,
видимо, еще не сложилось. В богатом доме XVI – XVII вв., как мы видели, было
обычно по нескольку сеней. Из контекста видно, что каждый раз, когда
упоминаются сени, речь идет о закрытом помещении, связывающем два жилых или
жилое и хозяйственное помещения. В сенях никогда не упоминается печь, а на
изображениях в них бывает видна не только дверь, но и большое «красное» окно,
иногда несколько окон. Из сеней имеется выход на крыльцо. Можно с уверенностью
сказать, что к XVI в. сени в богатом доме окончательно приобрели значение
передней, прихожей и совершенно утратили значение помещения для приемов –
парадной террасы второго этажа, которое имели в Древней Руси. Это
сопровождалось заменой значения самого термина «сени», которая произошла,
вероятно, не ранее XV в., поскольку и в начале и в конце XIV в. мы встречаем в
источниках, как уже говорилось выше, упоминания княжеских сеней – террасы.
Превращение сеней в прихожую не исключало их
значения парадного помещения в богатых домах. В некоторых случаях прихожая
становилась одним из приемных покоев, в которые попадал гость с красного
крыльца, неотъемлемой частью парадного входа в дом, и потому богато
отделывалась.
В XVI – XVII вв. несколько расширилось
содержание термина «изба». Если прежде наряду с общим его значением – «дом» –
было только одно узкое значение – «истобка» – отапливаемое, теплое помещение,
то в XVI – XVII вв. появляется, например, термин «столовая изба», говорящий о
том, что избой теперь может называться вообще всякое помещение в жилом
комплексе. С другой стороны, наряду с избой для основного отапливаемого
помещения жилого комплекса употребляется термин «горница». Из приведенных выше
примеров видно, что так все же называлось преимущественно помещение на подклете
(что объясняет отчасти и его этимологию – «горнее», верхнее помещение по
отношению к подклету). Определение Ю. П. Спегальским горницы как верхней теплой
(однако без печи) спальни в богатом доме, с нашей точки зрения, необоснованно
(Спегальский, 1972, с. 105 – 129). Более поздние выражения «горница черная» и
«горница белая», бесспорно, говорят о том, что речь идет о комнате с курной
печью или с трубой; избой же чаще называлось жилое поземное помещение.
Наблюдается и смешение этих терминов (например, «горница на подызбице»). В XVI
же веке появляется и столь обычное в наши дни название жилого помещения –
«комната». Впрочем, оно не употреблялось самостоятельно и не имело того общего
значения, которое имеет сейчас. Так называлась, по-видимому, пристройка к
основному помещению, а может быть, его выгороженная часть (в источниках часто
упоминается «горница с комнатою»).
Встречающееся изредка в документах XVI и XVII
вв. слово «светлица» исследователи обычно толкуют как обозначение холодного
(неотапливаемого), но светлого, с косящатыми окнами помещения, используемого
для женских работ. Однако контекст некоторых документов указывает на то, что
иногда светлицей называлась комната вообще – то же, что горница или изба. На
дворе упомянутого уже нами московского подьячего Ивана Григорьевича Колпенского
были «светлица поземная, другая черная, поземная же, промеж ними сени, в сенях
чюлан, на сенях чердак» (АЮБ II, № 126 – XVI, стб. 20 – 21). Здесь светлица не
только отапливалась, но имела даже «черную» печь. В одной росписи приданого
конца XVII в. описана даваемая молодым «квартера», т. е. усадьба, а на ней
строения: «двойная светлица, в ней две печи, одна обросцовая (изразцовая. – М.
Р.), сени перед светлицею, баня новая с предбанником» (АЮБ III, № 238 – IV,
стб. 266 – 267).
Почти непременной частью богатого дома была
также повалуша, по крайней мере в XVI – XVII вв., – высокая, зачастую в
несколько этажей («повалуша о трех житьях») постройка, большей частью
соединенная с другими частями дома сенями или переходами, но иногда и стоящая отдельно.
С точки зрения архитектурной она являлась организующей вертикалью всей усадьбы.
О назначении повалуш в жилом комплексе имеются различные суждения. Ю. П.
Спегальский склонен считать, что повалушей называли вообще всякую комнату с
печью, где можно было и спать («повалиться») (Спегальский, 1972, с. 128, 148 и
Др.). Нам кажется более обоснованной как раз та точка зрения, с которой он
спорит. Повалуша и в домонгольский период и позже была, по-видимому, одним из
парадных помещений и особо украшалась. Нужно, однако, заметить, что в XVI –
XVII вв. она получила более широкое, чем ранее, распространение и, вероятно,
использовалась не только для приемов.
В жилом комплексе богатого дома упоминаются
чердаки – по-видимому, неотапливаемые помещения, располагавшиеся над горницами.
Неотапливаемыми были и чуланы, которые имели окна, двери и неподвижную мебель –
лавки. Они могли быть как жилыми («чулан людской»), так и хозяйственными
помещениями: в них хранили различные вещи, а также спали, особенно в летнее время.
Во дворе Строгановых в Сольвычегодске «чуланы людские» (всего их 52) были на
переднем и заднем дворе, под переходами и лестницами. В них жила многочисленная
челядь, по три – пять человек в каждом чулане. Для семейных на дворе были
особые «челядинные», или семейные, избы. Были также отдельные «людские» баня и
погреб (Введенский, с. 239). Чердаки и чуланы встречались и в небогатых
городских домах.
С распространением повалуш и чердаков из
письменных источников исчезает упоминание теремов – верхних парадных помещений,
обычно увенчивавшихся фигурной, ярко раскрашенной, даже золоченой кровлей. В
XVII в. в Московском Кремле были построены терема, но в этом здании не было
прежней специфики женского верхнего помещения. Название распространялось на
весь трехэтажный дворец. Нужно сказать, что с тех пор слово «терем» все чаще
стало употребляться для обозначения богатого дома вообще и притом
преимущественно не в официальных документах, а в фольклоре и литературе.
«Высокий терем», «златоверхий терем» в русском фольклоре – классическое жилище
красавицы. Нам представляется при этом богатый русский дом, где все помещения
подняты на подклеты и повалуша «о трех житьях».
Косвенно усадьба зажиточного горожанина
обрисована и в статье Домостроя, предписывающей поведение слуг. Слуга,
посланный с поручением, найдя нужный дом, «оу ворот легонько поколотит», а
когда его впустят, должен «оу сеней, или оу избы, или оу кельи... ноги грязные
отерети, нос высмаркати да выкаш-лятся, да искусно молитва сотворити, а толко
аминя не отдадут ино и в другое и в третие молитва сотворити поболши перваго, а
ответа не отдадут, ино легонко поталкатися, и как впустят... вежливо стоять, в
сторону не смотреть, а что сказано, то и исправить» (Д., ст. 35, с. 33). Здесь
ясно виден замкнутый характер усадьбы начала XVI в., в которой ворота и двери
всегда на запоре, дом с сенями стоит в глубине двора, и пришедший, если он
человек вежливый, не должен особенно глазеть по сторонам.
Приведем несколько примеров связи жилых
помещений не очень богатого русского дома XVI – XVII вв. Наиболее
распространенной у зажиточных горожан была, как мы говорили ранее, двух- или
чаще трехкамерная связь. Так, на дворе в Новгороде, принадлежавшем в
Но горожане побогаче в XVII в. имели дома с
более сложной, чем трехкамерная, связью. О дворцах крупных феодалов мы уже
говорили. В
Чертежи XVII в. дают нам и более достоверные
данные о характере связи построек. Дом, изображенный на чертеже (Ламан-ский,
табл. IV) (рис. 4), наверное, описали бы примерно так: «горница с комнатою на
глухих подклетах да третья горенка на подклете же, перед нею сени на подсенье,
над сенями и горенкой чердак, да мылня, перед нею сени же, повалуша о трех
житьях, меж повалушей и горницей двои сени на подсенье, перед передними сенями
– крыльцо переднее да перед задними крыльцо заднее». Чертеж изображает даже
завершение повалуши, окна в горницах, очертания проемов в сенях, на чердаке и
на обоих крыльцах. Реконструкция, сделанная по чертежу Ю. П. Спегаль-ским,
представляется нам убедительной (Спегальский, 1972, с. 101, рис. 48).
Мы говорили выше, что каменные палаты входили
как часть в деревянную застройку усадьбы. И не раз встречали в приведенных
текстах источников указания, например, на деревянный чердак над каменной
палатой (рис. 5). Но интересно отметить, что в XVI и даже в XVII в., когда
только очень богатые люди могли позволить себе роскошь выстроить целиком
каменный дом, такие здания строились большей частью по образцу деревянных и
имели тот же состав помещений. Приведем для примера подряд, по которому в
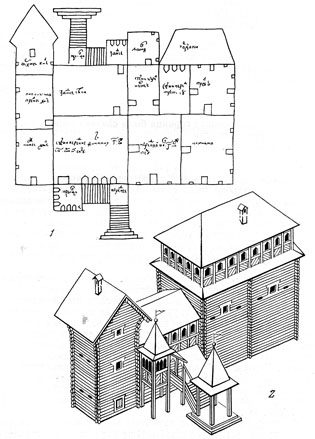
4. ХОРОМЫ В МОСКВЕ XVII В.:
1 – чертеж Приказа тайных дел; 2 – реконструкция
Ю. П. Спегальского
Федору Дмитриевичу Моторину каменный дом: «два
погреба, над ними – две жилые полатки, позади тех полат к улице проходные сени
да два крыльца, под ними выходы из погребов, на перемычке – полатку, чтобы под
нею был проезд... а двери и окна и печюры делать, где пристойно и сколко
понадобитца, а тесна в окнах (наличники. – М. Р.) делать гусенок полукирпишной
да вал полукирпишной» (АЮБ II, № 254 – II, стб. 777 – 780).
Мы видим, что в основе этого каменного дома
лежал старый план трехкамерного жилища – «две избы через сени». Каждая палата
стояла на погребе-подклете, с которого вниз вело крыльцо. Текст подрядной
грамоты не слишком точен; он позволяет два толкования плана. Вероятно, дом
выходил на улицу, и ворота устроены были в нем самом, так что завершающая
здание палатка образовала как бы свод ворот.
Интересно отметить, что именно в договоре о
постройке такого здания мы впервые встречаем упоминания наличников, выступающих
из кладки на полкирпича. Приведенные выше подряды плотников оговаривали и
устройство крыльца, и фигурные кровли, и даже опушку лавок внутренних
помещений, но о наличниках окон в них не упоминалось. Известны археологические находки
части резного полотенца, украшавшего, по-видимому, фронтон двускатной кровли;
не раз упомянуты и нарисованы шатрики, венчавшие рундуки крыльца (например: АМГ
II, № 147, с. 96); бочки, перекрывавшие жилые помещения. Все это лишний раз
подтверждает высказанный нами ранее тезис о том, что украшались прежде всего те
части усадьбы, которые были видны с улицы, – ворота (их вереи, полотнища и
кровли), а в доме – верхи помещений, дымник, фронтон и крыльцо. У дома,
стоявшего в глубине двора, наличников окон, видимо, не делали; их стали делать,
когда дома продвинулись к улице. Эта деталь украшения фасада идет едва ли не от
первых каменных зданий. Недаром и в дальнейшем наличники окон деревянных домов
очень часто воспринимали стиль наличников каменных зданий – в XVIII – XIX вв.
это были барокко, классицизм, ампир.
Каменные дворцы московской знати XVII в. –
Голицына, Троекурова, Волковых – представляли собой дома с целой анфиладой
комнат на хозяйственном подклете – парадных во втором этаже, жилых наверху, где
устраивалось и гульбище – открытая терраса. Фасады украшали затейливыми
наличниками, которые были тем пышнее, чем более парадному помещению
принадлежали окна (в нижнем этаже скромнее, чем в верхних). С подклета вниз
вело нарядное крыльцо, сохранявшее многие черты деревянной архитектуры, как и
фигурные завершения кровель – Шатры, бочки и т. п.
«Черные» печи в богатых домах встречались все
реже – большею частью в подклетах и «людских» избах. «Варистые» русские печи
для приготовления пищи и выпечки хлеба располагались вне дома, в специальных
поварнях и хлебных избах. Внутренние же помещения отапливались «грубами»
(ТВорУАК V, № 308/ 1792, с. 416) – печами с дымоходами, иногда имевшими и
лежанки. Печи в парадных комнатах облицовывали рельефными изразцами: в конце
XVI – начале XVII в. – терракотовыми (красными), позднее- – поливными
муравленными (зелеными) или ценинными (многоцветными). Узор на изразцах мог
покрывать печь, как ковром, единым рисунком, но были и изразцы, каждый из
которых представлял собой как бы отдельную картину в рамке со своим собственным
сюжетом (Рабинович, 19496, с. 80 – 93), иногда взятым с современного лубочного
листка. О жаркой топке печей в Московии, которая «иностранцу сначала, наверное,
не понравится», писал и Д. Флетчер (Флетчер, с. 124).
Во дворцах большинство жилых помещений имело
косяща-тые окна, но в жилых подклетах делали и волоковые. Расположение
косящатых окон в этих зданиях, естественно, не дает той картины, о которой мы
говорили в предыдущем разделе, поскольку здесь не было «избы» с варистой печью.
Волоковые окна могли попросту задвигаться
задвижками, косящатые имели оконницы – рамы, закрытые слюдой, а изредка
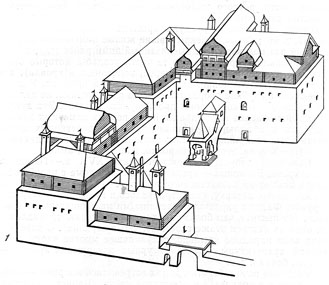
5. КАМЕННЫЕ ДОМА XVII – XVIII ВВ.:
1 – каменный дом с деревянной надстройкой, XVII
в., Псков («Поганкины палаты», реконструкция Ю. П. Спегальского); 2 – дом
Сапожникова XVII – XVIII вв. в Гороховце
и стеклом. Выше мы приводили упоминания о
стеклянных окончинах в доме зажиточного новгородца. Д. Флетчер в
Остатки слюдяных окончин – куски слюды, а иногда
и части самих рам находят при раскопках русских городов (Арцихов-ский, 1949, с.
172; Рабинович, 1964, с. 211, 222; Штакельберг, с. 60 – 64; Мангазея, ч. II, с.
17). В ячейки рам были вставлены небольшие куски слюды, которые образовывали
сетку или другой, более сложный узор, иногда дополнявшийся росписью.
Различались шитухи – сшитые куски слюды, вставленные в общую раму, и окончины
слюдные с железом, где был фигурный железный переплет, в который вставлялись
куски слюды соответствующей формы (Александров, 1964, с. 167). Вторых рам
небывало, но вместо них применяли втулки – щиты, обитые сукном.
В XVI – XVII вв. внутренние помещения освещали в
общем так же, как и в предшествующий период. «Люди зажиточные, – писал Д.
Флетчер, – употребляют на свечи воск, а те, которые беднее и из низшего класса,
жгут березу, высушенную в печах и расщепленную вдоль на мелкие части, которые
называют лучиною» (Флетчер, с. 12). К этому можно лишь добавить, что, кроме
свечей и лучины, употребляли и масляные светильники – плошки с фитилями (в
частности, в красном углу перед образами всегда горела лампадка). Свечи же
употребляли не только восковые, но и сальные, хотя Флетчер (двумя строками
ниже) и отрицает это. Например, расходная книга вятского старосты упоминает
десятки батманов (батман –
При раскопках городов в слоях XVI – XVII вв.
часто встречаются железные светцы для лучины, подсвечники, плошки и лампадки.
Все они бывали подвесные, переносные (ставившиеся на стол, на лавку, на пол, –
светцы, напоминающие современные торшеры) или вбивались в стену. В богатых
домах были и целые люстры для множества свечей, называвшиеся, как и такие же
церковные светильники, паникадилами (Забелин, 1862, с. 182).
Такое освещение открытым огнем, конечно, было
очень опасно в пожарном отношении, в особенности в курной избе, где в любой
момент могла вспыхнуть сажа. Вполне понятен поэтому запрет поздно сидеть или
ходить с огнем, ставший общим местом всех наказов, посылаемых в города
воеводам. И на московскую улицу в XVII в. старались выходить не с факелом, а со
слюдяным (теремчатым) фонарем.
Украшение интерьера жилища осуществлялось с
помощью резьбы, росписи и художественной керамики. Резьба выполнялась при самом
строительстве избы. Она украшала преимущественно неподвижную мебель – лавки
(опушка нижнего края), коник, припечной столб, вероятно, и полати. Фрагменты
этой резьбы находят при раскопках. Резьба была в общем очень лаконичной.
В белой горнице могла уже появиться роспись
печи, потолка, дверей, столь широко распространенная впоследствии у русских на
севере Поволжья и в Сибири (Чижикова, с. 52 – 54). Указания на роспись богатых
домов (в частности, повалуш) известны еще в домонгольский период. Фольклор
донес до нас и некоторые сведения о сюжетах этой росписи. Можно думать, что
распространены были изображения астральные, например, дневных и ночных светил
(«на небе солнце – в тереме солнце, на небе звезды – в тереме звезды, на небе
месяц – в тереме месяц и вся красота поднебесная») (КД, с. 12 – 13).
Официальные приемные помещения дворцов, в особенности
каменных, расписывали картинами «поучительного» содержания. Так, на стенах
Грановитой палаты были сцены из Ветхого и Нового завета, разделение мира между
тремя легендарными сыновьями Августа, разделение Руси между сыновьями
Владимира, наконец, изображение всех князей и царей московских. Все это
дополнялось богатыми лепными узорами и расписными растительными орнаментами –
травами. В XVII в. роспись Грановитой палаты была обновлена (Либсон, с. 64), а
в деревянном дворце в с. Коломенском Симон Ушаков изобразил и «мирские»
аллегории – расписал приемный зал на тему «четыре времени года» (Айналов).
Немаловажным элементом украшения интерьера
богатого жилища являлась, как мы уже говорили, изразцовая печь. Это был и
источник тепла и важное декоративное цветовое пятно. Стремясь усилить
впечатление, даже швы между изразцами подкрашивали под цвет изразцов- – суриком
у красной печи, зеленой краской – у муравленной и т. п. (Забелин, 1862, с.
116).
Наконец, и иконы с лампадкой в переднем углу не
только несли, если можно так выразиться, культовую нагрузку, но и украшали
комнату. В бедном доме были одна-две иконы, в богатом множество икон едва
умещалось в красном углу, а, кроме того, могла быть еще специальная образная,
крестовая или моленная комната. Описи приданого включают иногда десяток икон в
драгоценных окладах, даваемых «на благословение дому».
Посол австрийского императора Сигизмунд
Герберштейн, побывавший в России во второй четверти XVI в., так описывал
обычаи, связанные с посещением чужого дома, и замкнутый образ жизни высших
слоев населения Москвы: «В каждом доме и жилище на более почетном месте у них
имеются образы святых, нарисованные или литые, и когда один приходит к другому,
то, войдя в жилище, он тотчас обнажает голову и оглядывается кругом, ища, где
образ... ни одному лицу более низкого происхождения нельзя въезжать в ворота
дома какого-нибудь более знатного лица. Для людей более бедных и незнакомых
труден доступ даже к обыкновенным дворянам. Эти последние... показываются в
народ очень редко...» (Герберштейн, с. 86 – 87). Приемы, устраиваемые
феодалами, для которых во дворцах имелись роскошные помещения, были не так уж
часты, и большую часть времени богатые люди проводили, по выражению
Герберштейна, сидя «в четырех стенах», а парадные комнаты пустовали.
«Передний угол, – пишет И. Е. Забелин, – был
первым почетным местом в комнате, точно так, как... в наших гостиных диван с
неизбежным круглым столом... значение лавки и стола в переднем углу было
совершенно одинаково с значением дивана и стола р наших гостиных» (Забелин,
1862, с. 153). Он отмечает также, что наряду с простыми дубовыми столами в
богатых домах бывали столы на точеных ножках, с расписной или даже каменной
«аспидной» столешницей. Подвижные скамьи бывали на четырех или на двух (глухих)
ногах, иногда – с перекладной спинкой (переметом). Узкая (малая) скамья служила
только для сидения, более широкая (большая), иногда с ларцом-подголовником, – и
для спанья. Источники упоминают также столец (по мнению И. Е. Забелина, квадратный
или круглый стул без спинки), а в XVII в. – кресла для хозяина и особо почетных
гостей. Иногда кресла делали с подножками. Подвижную мебель дополняли в
парадных комнатах поставцы – своеобразные открытые полки, на которые ставили
лучшую посуду. Поставец по-налойному ставился на лавку, а такой же поставец,
наглухо приделанный к стене, назывался уже рундуком. Рундук мог быть приделан и
под лавкой (чаще всего под коником). Вместо дверец поставцы и рундуки
задергивались занавесками. Были в обиходе знати и настоящие шкафы с дверцами
наверху и выдвижными ящиками внизу (шафы), но чаще под этим словом понимали то,
что сейчас называется «комод», или большой сундук – скрыню (Забелин, 1862, с.
157, 182).
В интерьере жилища рядового горожанина стены
комнат сохраняли фактуру деревянного сруба, разве что иногда бревна, как мы
указывали выше, бывали несколько стесаны, образуя более плоскую поверхность. В
этой фактуре была своя прелесть, и даже в XIX – XX вв. можно было еще встретить
в городах комнаты без обоев, с бревенчатыми стенами, и не только у бедных
людей. Достаточно сказать, что Виктор Михайлович Васнецов, будучи уже
знаменитым художником, выстроил себе в Москве дом, в котором все комнаты имеют
такие стены.
Однако в XVI – XVII вв. в богатом доме стены,
лавки, полы, иногда даже потолки обшивали красным тесом, обивали материей
(отсюда само слово обои). Обычно это бывало какое-либо цветное сукно, реже –
холст, совсем изредка (например, у царя) – шелковые и золотные ткани. Могли
чередовать в шахмат квадраты разных материй или одной материи разных цветов.
Двери тоже обивали сукном, но чаще кожей, иногда тисненой (басменной) (Забелин,
1862, с. 118). Это «матерчатое» убранство комнат дополнялось расшитыми
накидками на лавках (полавочниками), подоконниках (наокошечниками) и
занавесками с подзорами, прикрывавшими окна, двери, даже иконы.
Полы, не обитые материей, настилались дубовым
кирпичом – пластинами; иногда клали пластины в косяк, как это можно видеть и в
современном паркете, иногда – в шахмат. В шахмат же расписывали красками
дощатые полы (например, зеленой и черной или «под мрамор»).
На стенах дворцовых помещений висели зеркала,
русские и зарубежные лубочные листки, а в XVII в. – и картины, написанные
масляными красками. Среди всего этого убранства можно было увидеть и чертежи, и
карты. Так, у Артамона Сергеевича Матвеева были «чертеж Архангельского города и
иных Поморских городов писма, чертеж печатный Свейской и Датской земель, чертеж
Новой земли русского письма, три чертежа печатных – Московский, Польский,
Английский». Тут же висел какой-то «святитель» (вероятно, все же не икона),
портреты королей польских Михаила и Яна-Казимира, двенадцать «Сивилл»,
аллегорические изображения Целомудрия и Весны, портрет Ильи Даниловича
Милославского, два портрета самого хозяина (один в рост, другой до пояса) и
портреты двух его сыновей (в рост). Портрет хозяина, вероятно, полагалось иметь
среди украшений очень богатого дома – во всяком случае, и во дворце князя
Василия Васильевича Голицына тоже была его персона (отсюда русское наименование
портрета – «парсуна») «на полотне», а также герб рода Голицыных. Были там тоже
«землемерные чертежи» немецких (т. е. западноевропейских) городов на
четырнадцати листах, были и аллегории стихий и времен года, и изображения библейских
праотцов. Но личный вкус хозяина, а может быть, и его положение «сберегателя»
при царской семье сказались в подборе портретов. У Голицына висели на стенах
двадцать четыре «персоны немецких» (из них двенадцать «печатных», т. е.,
видимо, лубочные портреты), великий князь Владимир Киевский, цари Иван
Васильевич (Грозный), Федор Иванович, Михаил Федорович, Федор Алексеевич
(характерно, что в этом ряду отсутствовали Годуновы, Шуйский и Лжедмитрий),
патриарх Иоаким. Были здесь также портреты польских короля и королевы (Забелин,
1862, с. 171 – 172), что было связано с заключенным с Польшей «вечным миром».
Во дворцах вельмож и царей в XVII в. комнаты
обставлялись и украшались разнообразно, каждая соответственно своему
специальному назначению. И. Е. Забелин называет переднюю – приемную комнату,
где стояло большое кресло хозяина, а по стенам – лавки для пришедших.
Собственно комната была фактически кабинетом. В ее переднем углу стоял стол с
письменным прибором (чернильница, песочница, клеельница, перницы и т. п.) или
прибором для женских работ – рукоделий (на женской половине дома). Были здесь
напольные часы, книгохранительницы (полки или скрыньки), поставцы с посудой.
Бывали и клетки с птицами. В спальне (ложнице – по-древнерусски) стояла кровать
с балдахином (сенью, или кровлей) и роскошной постелью, рундуки для белья, на
полу – ковры. Икон было мало. Рядом с ней располагались уборные, т.е. комнаты,
где причесывались и приводили в порядок туалет. Там были зеркала, различные
туалетные предметы. Неподалеку находилась и крестовая, или моленная, палата,
вся уставленная образами. Единственной мебелью в ней были налой, на который
можно было класть молитвенник, и поклонная скамья – приспособление, облегчающее
битье поклонов. Наиболее традиционно было устройство мыльни (обычно с
предмыленьем). Здесь была печь с каменкой для получения пара, полок (на который
к мытью стелили свежее сено, накрыв его простыней), кадки с горячей и холодной
водой, туесы с квасом. «На царский обиход» (вероятно, не только лично царя и его
семьи, но и ближайшего их окружения) шло в год более трех тысяч банных веников
(Забелин, 1862, с. 185-186).
* * *
Для третьего этапа развития городов источники
ярко обрисовывают общий облик жилища рядового горожанина. В XVI – XVII вв. это
повсюду был срубный дом – поземный или на подклете. На том этапе развития дом
характеризовался увеличением числа помещений. Бытовавшая в городах и на
предыдущих этапах трехкамерная связь распространялась у посадских людей
довольно широко, хотя большинство изб еще однокамерные. Среди известных нам
домов тяглецов 52% – однокамерные, 7,5 – двухкамерные, 39 – трехкамерные и 1,5%
– многокамерные (в то время как среди крестьянских изб того же времени 98,6% –
однокамерные, 1 – двухкамерные и 0,4% – трехкамерные). Высотность домов была
большей в северных областях России и меньшей в южных, где подклет имели только
дома зажиточных горожан и феодалов. Усложняется и состав построек двора. На
один двор посадского человека приходилось в среднем до четырех построек.
Со второй половины XVI в. множество городских
домов выходило непосредственно на улицу своим торцовым фасадом, имевшим чаще
всего три окна. Расположение хозяйственных построек в однорядной связи
прослеживается преимущественно в северных областях. Южнее преобладала свободная
планировка двора с несомкнутыми, не связанными между собой хозяйственными
постройками. Среди последних в течение всего рассматриваемого периода
встречаются и такие специфически сельскохозяйственные, как овин и гумно. Сени
как парадная терраса второго этажа сменяются сенями-прихожей, соединяющими
жилые и хозяйственные постройки. Это отразилось и в употребляемых источниками
названиях сеней – мост, предызбье.
О внутренней планировке жилища сведений мало.
Источники подчеркивают наличие красного угла с иконами и расположенными под
ними лавками и столом. В некоторых случаях удается по косвенным признакам
установить положение печи устьем от входа, т. е. позднейший
северносреднерусский (а иногда и западнорусский) вариант планировки. Однако
нужно при этом учесть, что в XVI – XVII вв. Россия только начинала осваивать
«Дикое поле» – лесостепь юга. Украинско-белорусский вариант планировки жилой
избы, по-видимому, только начинал еще создаваться, и о распространении его в
городах сведений нет.
В XVI – XVII вв. появляются многие черты
городского дома и городского двора, которые развились на следующем этапе – в
XVIII-XIX вв.
XVIII-XIX вв.
Материал.
Дом и улица.
Дворовые постройки.
Жилой дом.
Интерьер и украшения
Четвертый этап развития русских городов отмечен
новым значительным прогрессом домостроительства, изменением состава и
планировки двора. Его начальный рубеж определяется в значительной мере условно,
поскольку изменения эти не были точно приурочены к началу XVIII столетия; они
начались еще в последние десятилетия XVII в. Вместе с тем исторические и
социально-экономические факторы: активная внешняя политика, характеризовавшаяся
борьбой за выход к морским путям, усилением взаимосвязей с европейскими
странами, присоединением многих земель с развитыми городами, строительство
Петербурга и значительная перестройка Москвы, основание новых городов и
крепостей, наконец, углубление классового неравенства – не могли не повлиять на
развитие городского жилища. Конечно, прежде всего влияние новых факторов
сказалось на городских усадьбах господствующих классов – дворян, богатых
купцов. Эта социальная элита особенно быстро усваивала западноевропейские
особенности образа жизни и, следовательно, была более всего подготовлена к
восприятию западноевропейского типа жилища. Для царского двора и для окружения
Петра Первого строились приглашенными иностранными архитекторами и специально
обученными русскими дома-дворцы и иные сооружения во вкусе современной
западноевропейской архитектуры (стили барокко, позже – классицизм, ампир и
др.). Уже к началу XVIII столетия относятся и первые «образцовые» проекты домов
для рядовых горожан – важнейшие элементы массовой застройки прежде всего
Петербурга. Но рядовые дворы в малых и средних, а зачастую и в столичных
городах сохраняли еще в начале XVIII в. старую застройку. И в дальнейшем
массовая застройка городов определялась даже не столько предложенными
«образцовыми» проектами, сколько развитием тех (ставших уже традиционными)
типов городских домов и усадеб, о которых говорилось выше. В нем ясно видны
черты преемственности от городского строительства XVI – XVII вв.
Анализ творчества архитекторов-профессионалов,
описание созданных ими памятников архитектуры не входят в задачу настоящего
очерка. Это выполнено историками архитектуры весьма успешно. Мы сосредоточим
внимание как раз на проблеме развития жилища рядовых горожан, на его связях с
древним Домостроительством и на том новом, что четвертый этап развития городов
принес в народную архитектуру. В этом процессе большую роль играло также
распространение в городах сдачи жилья внаем.
Основными источниками послужат материалы анкет
XVIII – XIX вв., о которых нам уже случалось писать, современные изображения,
воспоминания современников и произведения писателей того времени.
МАТЕРИАЛ
Русские города в XVIII – первой половине XIX в.
оставались по преимуществу деревянными. Общеизвестно, что строительство начала
XVIII в. дало новый стимул развитию каменного зодчества, что большинство
шедевров русской архитектуры построено из кирпича. Однако каменное
строительство было сосредоточено преимущественно в столицах – Петербурге и (в
меньшей степени) Москве. В
Ответы на анкету Академии наук и на анкету
Шляхетского кадетского корпуса дают такую картину для середины XVIII в. (точнее
– для 1760-х годов). В центральной и северной части Европейской России
обследованием было охвачено около 70 го-подов. Каменные обывательские дома
имелись лишь в 15 из них. При этом в Калуге было 85 каменных домов, в Ярославле
– 43, в Туле – 33, в Торопце – 27, в Коломне – 11, в Серпухове – 9, в Гороховце
– 6, в Переяславле Рязанском (нынешней Рязани) – 3, в Новой Ладоге – 2, в
Костроме, Козельске, Юрьеве Польском, Бежецке, Романове – по одному каменному
дому. Из Боровска сообщали, что «в четырех обывательских домах есть каменные
покои» (т. е. речь идет о смешанной каменно-деревян-ной постройке), из Венева –
что в четырех домах – каменные погреба. Каменные кладовые отмечены и среди
построек Торопца. В остальных учтенных Л. Бакмейстером городах (их около 50)
имелась одна или несколько каменных церквей и отдельные казенные здания (и то
далеко не во всех), а жилые дома были сплошь деревянные (Бакмейстер). Эта
картина типична для всей тогдашней России. Только в Петербурге и в Москве
каменные жилые дома не были редкостью, хотя и здесь основную массу построек
составляли деревянные.
В дальнейшем число каменных домов увеличивалось,
хотя и не очень быстро. К концу рассматриваемого нами периода, в середине XIX
в., каменные жилые дома были в большинстве городов. Города, в которых вовсе не
было каменных зданий, составляли лишь примерно одну десятую общего количества
городов, и почти столько же городов имели по нескольку каменных домов (менее 1%
всех построек). Все же более половины (60%) городов тогдашней России были
деревянными почти сплошь (свыше 95% построек) и почти пятая часть имели 90 –
95% деревянных домов. Несколько больше каменных жилых домов было в губернских
городах: более половины их имели свыше 10% каменных домов, а пятая часть –
свыше 20%*. Большинство малых и средних городов оставались, таким образом,
деревянными до конца рассматриваемого периода.
Уже с конца XVI в. основным материалом для
каменного строительства стал кирпич, производство которого все расширялось. В
XVIII – середине XIX в. применение белого камня ограничивалось выкладкой
фундаментов, цоколей и архитектурных украшений домов. Все же главным массовым
строительным материалом оставалось дерево. Каменный дом стоил очень дорого и
был недоступен рядовому горожанину, для которого самое владение каменным домом
ассоциировалось с представлением о каких-то неблаговидных путях его
приобретения: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Развитие
каменного строительства тормозилось еще и тем, что деревянный жилой дом
считался более гигиеничным, ибо при отсутствии центрального отопления в
каменном здании ощущалась сырость.
Вместе с тем для высших слоев горожан престиж
владения каменным домом был чрезвычайно высок, и человек, стремившийся
подчеркнуть свое финансовое благополучие, нередко строил или покупал каменный
дом «для представительства». В этом смысле показательна история двора купца И.
А. Толченова, много лет бывшего бургомистром г. Дмитрова. В 1774 – 1776 гг. на
дворе Толченовых строились и отделывались каменная кладовая и деревянные хоромы
с переходами к ней, а также ворота и заборы. Хоромы «отделаны снаружи столарною
работою» и «убраны внутри», т. е. потолки подштукатурены, панели и коробки
выкрашены, а стены «обиты бумажными обоями»; «каменная палатка» и бывшие на
дворе «старые каменные палаты», превращенные в людские, оштукатурены. В
________________________
* Подсчеты произведены по данным
«Географо-статистического словаря Российской империи» (Семенов – Тян-Шанский,
1863 – 1885).
________________________
основные работы: 23 мая рыли рвы для фундамента,
27 была торжественная закладка. Клали дом три с половиной месяца – до 15
сентября, «а потом осенью сделаны стропилы деревянные, и подрешечены, и покрыта
кровля листовым железом, еще во всех покоях настланы бревенчатые нижние полы и
потолки. В следующем,
Так на месте старого двора богатого горожанина с
деревянными и каменными постройками, с приспособлениями для сушки снопов и
приготовления солода построен вполне современный для той поры особняк
бургомистра с фронтонами и иными новшествами, с «регулярным» садом с
экзотическими деревьями, но и с избами и сенями старого еще образца. В
роскошной зале своего особняка хозяин устраивал приемы для местного купечества
и духовенства; однажды здесь «кушал чай» сам московский главнокомандующий,
прославленный герой Семилетней войны генерал
Затраты на все работы точно подсчитать трудно,
но отдельные упоминания платежей позволяют предположить, что стоил этот дом
тысяч 18 – 20. Всего через девять лет И. А. Толченов разорился (причем немалую
роль сыграли непосильные траты на представительство, в частности на
строительство дома). Дом с садом продан за 15 тыс. р. Редкие оранжерейные
деревья проданы отдельно или отданы за долги разным кредиторам (Толченов, с.
307).
Мы так подробно рассмотрели строительство
Толченова в Дмитрове потому, что его воспоминания – уникальный источник как по
точности, так и по эмоциональности изложения. Во всем видны наивная гордость
владельца и его интерес к деталям строительства. При этом ни разу не
упоминается об архитекторе, руководившем работами. Зная живой интерес И. А.
Толченова к окружавшим его, можно подумать, что архитектора-профессионала при
этой постройке и не было, что новый дом сооружался по старинке какой-нибудь
артелью по указаниям самого хозяина.
Престижность каменного дома, с одной стороны, и
желание сохранить хорошие гигиенические условия деревянного жилья (и притом
сберечь средства) – с другой, привели к явлению, типичному для русских городов,
– к стремлению придать деревянной постройке вид каменной. Это достигалось
разными способами. Наиболее распространенным и эффективным была штукатурка
деревянного дома (как снаружи, так и внутренних помещений). При этом
имитировался и орнамент – резьба карнизов, капителей колонн, наличников окон
выполнялась лепкой; даже руст каменной кладки имитировался штукатуркой. Приемы
эти были разработаны в кирпичном зодчестве, также широко использовавшем в те
времена декорировку штукатуркой.
Для нашей темы, пожалуй, более интересно то, что
такая декорировка выполнялась в наиболее традиционном для России материале – в
дереве. Колонны, карнизы, наличники и даже «руст» зачастую были деревянными, в
нужных местах – с резьбой по дереву, покрашенными. Резьба модных тогда
орнаментов, в особенности растительных и на темы античной мифологии, была для
русских плотников не затруднительна. Стремились также закрыть выступающие концы
бревен (преобладала по-прежнему рубка срубов в обло, хотя известны были и
другие способы соединения углов), зашивая их вертикальными досками; так
образовались как бы по два пилястра на каждом углу дома.
В конце рассматриваемого нами периода появились
и двухэтажные дома смешанной конструкции: низ кирпичный, верх деревянный. Они
тоже были близки к традиционной городской архитектуре, если вспомнить, что и в
XVI – XVII вв. в городах строили дома, в которые входили каменные и деревянные
помещения.
Наконец, продолжение традиционных приемов
русской городской архитектуры можно увидеть в украшении фасадов изразцами,
правда, не старинными, а современными. В Угличе, например, и сейчас можно увидеть
дом с расписными изразцами XVIII в. на фасаде, принадлежавший Калашникову (рис.
6, 1).
Все сказанное относится к домам зажиточных
горожан – дворян и богатых купцов. Рядовые же и бедные горожане строили дома в
основном в старых традициях, однако тоже не без влияния новых веяний.
Как уже говорилось, в начале XVIII в. развитие
градостроительства вызвало к жизни первые «образцовые» («типовые», как говорят
теперь) проекты домов городских обывателей: по мысли правительства и авторов
проектов, для горожан среднего достатка. Государство в известной мере
регулировало не только планировку, но и застройку городов с целью придания им
лучшего вида. Этим занимались различные государственные учреждения, в XIX в. –
губернские строительные комиссии. Уже в 1830-х годах, например в далеком
северном городке Мезени, дома строились по «высочайше апробированным фасадам»
(Быстрое, 1844, с. 269). В середине XIX в. корреспонденты Географического
общества не раз сообщали, что дома строятся «по новым планам и фасадам», «под
надзором Губерской строительной комиссии» (города Великие Луки, Ядрин и др. –
АГО 32, №
Прежде чем говорить об изменениях в
строительстве домов, попытаемся представить себе, какова была населенность
городского дома. Данных у нас довольно мало, поскольку современная статистика
этим вопросом не занималась. Для начала XVIII в. можно вычислить состав
городской семьи в небольшом городе: тогда господствовала уже малая семья, из
двух поколений (в среднем – пять человек), реже – из трех (в среднем
семь-восемь человек) (Рабинович, 1978а, с. 188 – 190). Это и была чаще всего
населенность двора, если не учитывать слуг, «суседей» и других зависимых людей,
а также постояльцев.
Сохранились еще в некоторых городах и большие
семьи, численностью в 15 – 20 человек и более, но это была уже редкость.
Например, в Устюжне Железнопольской в
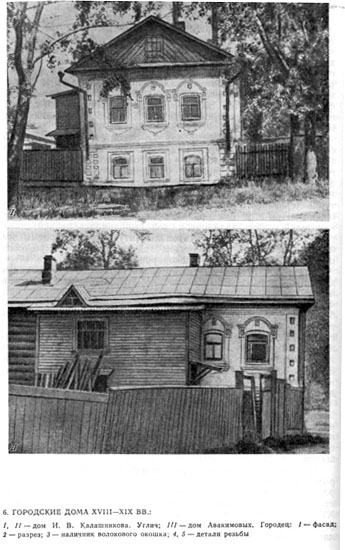
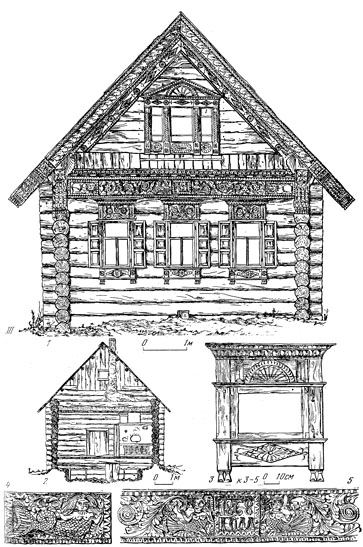
Во второй половине XVIII в., по этим неполным
сведениям, на один дом приходилось в заштатных и уездных городах в среднем 4,9
человека, в губернских – 6,5. Больших территориальных отклонений здесь не
прослеживается (в числе городов такие, как Одесса, Тверь и Тобольск, Старая
Руса и Щигры) (Семенов). Подсчет по данным того же П. П. Семенова показал, что
в 1860 – 1880-х годах примерно в половине малых городов на один дом приходилось
6 – 8 жителей, в одной трети – 9 – 15 жителей; более 20 человек – лишь в 4,4%
городов, менее 5 – в 7,3%. В губернских городах средняя населенность двора была
несколько больше: свыше двух третей из них (68,6%) имели на один дом 9 – 15
жителей и лишь одна пятая часть – 6 – 8. Наибольшая теснота, была, конечно, в
Петербурге, где на один дом приходилось 73,2 человека, но на втором месте в
этом отношении была не Москва (25,1), а Николаев (47,5).
В целом приведенные материалы отражают важный
процесс. Как уже сказано, населенность дома первоначально соответствовала в
общих чертах численности семьи (обычно 5 – 8 человек). В городах малых –
заштатных и уездных – и в XVIII – середине XIX в. дом оставался еще «семейным
гнездом». Так, в Устюжне Железнопольской в
Главным строительным материалом оставалось
дерево. В городах Русского Севера по-прежнему информаторы не указывали породу,
подразумевая, видимо, дерево хвойное, преимущественно сосну и ель. Таковы
сведения о Новгороде, Вытегре, Верховажском посаде, Пудоже, Бронницком Яме,
Корчеве, Кашине, Торжке, Ростове Ярославском, а из Сибири – о Енисейске. Только
о Миасском заводе сообщается, что срубы домов изготовлены из ели, лиственницы,
березы, а кровли черепичные (АГО 26, № 16). В остальных случаях о кровельном
материале не сообщается; по более ранним аналогиям можно думать, что это разные
материалы из дерева: тес, дрань, дор и пр.
Из южных городов, расположенных в зонах
лесостепи и степи, где дерево гораздо больше ценилось, сообщали зачастую породы
дерева. При этом иногда есть возможность сравнить данный различных периодов для
одного города. Так, мы уже говорили, что в XVII в. в Воронеже и его
окрестностях основным строительным материалом была сосна. К середине XVIII в.
этот сосновый остров был уже сведен. В
Относительно лучше было со строительным
материалом в Среднем Поволжье. Из Василя сообщали, что все дома, кроме трех,
деревянные, крыты тесом. Так же строили и в Княгинине (АГО 23, № 74, 83).
Самые южные области России были совсем безлесны.
В Астраханской губ. (города Черный Яр, Енотаевск, Соленое Займище), как мы уже
говорили, покупали задорого привозные сосновые лесоматериалы или строили из
местных осокорей; в Николаеве в
Интересно, что построенный в предгорьях
Тянь-Шаня и населенный в основном казаками г. Верный (ныне Алма-Ата) имел в
В современной Белоруссии недостатка леса не
ощущалось. Горожане и крестьяне жили в рубленых деревянных домах. Корреспондент
Географического общества П. Пороменский писал в середине XIX в. из г. Суража
Витебской губ.: «Все мещане строят домы из леса, покрытые драницами» (АГО 5, №
ДОМ И УЛИЦА
В XVIII – XIX вв. большинство городских домов
уже стояли на красной линии улицы. Только богатые строили иногда дома в глубине
усадьбы, оставляя перед улицей почетный двор (cour d'honner) с газоном. Но и в
этих случаях на улицу зачастую выходили «крылья» (флигеля) дома по обеим
сторонам почетного двора, который вместо прежнего глухого частокола отделяла от
улицы обычно решетка с одними или двумя воротами. Таким образом, и находясь в
глубине двора, дом все же был открыт с улицы.
Дом рядового горожанина выходил на улицу торцом
(в большинстве случаев – в три окна по фасаду). Рядом с домом располагались
калитка и ворота, иногда по другую сторону ворот стояли хозяйственные
постройки. Из 47 городов, в которых указано положение дома по отношению к
улице, только в одном случае говорится, что четко это не фиксировано, и дома
вообще не всегда выходят на улицу. Речь идет даже не об основной территории, а
о слободах г. Ефремова (АГО 42, №
ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ
Кроме жилого дома, на дворе стояли хозяйственные
постройки: амбар, сеновал, хлев, конюшня, погреб. Собственная баня как дворовая
постройка к середине XIX в. была распространена не во всяком городе, что нужно
связать с развитием общественных (торговых) бань (Рабинович, 1978а, с. 126).
При этом можно заметить, что бани оставались еще на дворах горожан в северной и
центральной части Европейской России – старинной области распространения бань
(в материалах АГО это отмечено в Верховажском Посаде, Торжке, Корчеве, Кашине,
Ростове, Ядрине); западнее – в Сураже; из южных городов – в Курске и в
Павловске Воронежской губ. Собственная баня в этот период являлась как бы
признаком зажиточности, респектабельности. Иметь ее было весьма престижно. «В
публичные бани порядочное семейство не ходит, – писали в 1830 – 1840-х годах о
г. Курске. – У всех (очевидно, надо понимать – у всех «порядочных», т. е.
богатых. – М. Р. ) – домашние; приглашают попариться знакомых, иногда – бедных»
(Авдеева, 1842, с 75 – 76).
Почти совсем не стало на дворах горожан таких
сельскохозяйственных построек, как овин и гумно с током. Источники называют их
лишь в трех городах: ток – в Верхневажском Посаде, овин и ток – в слободах
Ефремова и сушильню с током – в Су-раже. Углубление разделения труда, развитие
хлебной торговли делали эти постройки ненужными.
Хозяйственные постройки в северных городах в некоторых
случаях составляли с домом одну связь (города Бронницкий Ям, Вытегра,
Вознесенский Посад, Галич, Княгинин, Ядрин); иногда из текста видно, что и
однорядную, но, возможно, и двухрядную. На юге, как и в древности, они не были
связаны с домом. В Бронницком Яме отмечен крытый двор, как в окрестных
деревнях. Иногда можно проследить замену связи несомкнутыми хозяйственными
постройками. Так, в Мезени в конце 30-х годов XIX в., а в Пудоже и в середине
XIX в. еще помнили, что раньше была связь, но уже строили отдельно (Быстрое,
1844, с. 269; АГО 25, №
Иногда хозяйственные постройки не были связаны с
жилым домом, но строились в связи между собой по нескольку (как в
Позади хозяйственного двора располагались огород
и сад. Баня иногда стояла в огороде, как и летняя кухня; там же могли
располагаться овин и гумно. Мы уже говорили о значении садоводства и
огородничества в жизни городов и влиянии этих занятий на застройку. Сейчас
отметим, что так было даже в новой столице – Петербурге. «Имеются во многих
домах огороды и сады с плодовитыми или другими деревьями, – писал И. Г. Георгу
– которые вместе взятые составляют великое пространство земли и без коих
выстроенные части города весьма бы уменьшились» (Георги, с. 59).
ЖИЛОЙ ДОМ
Значительные изменения претерпел жилой дом.
Интересно его высотное развитие. В городах (в особенности в столицах) появились
трех-четырехэтажные дома, построенные по общеевропейским канонам. Характерны, в
частности, антресоли – выходившие на боковые фасады низкие комнатки, где
протекала интимная жизнь семьи, сочетавшиеся с высокими парадными комнатами по
главному фасаду, так что с улицы дом имел как бы на один этаж меньше, чем со
двора, что давало выгоды в налоговом обложении. Характерны также мезонины
(напоминавшие прежние терема) и каменные цоколи и фундаменты.
Но все это относится лишь к домам зажиточных
горожан (в особенности дворян); иногда дом такого типа был в городе
единственным (например, в середине XIX в. дом купца II гильдии А. Голощапова в
Черном Яре – АГО 2, №
Дома рядовых горожан, как правило, не превышали
двух этажей. Русский городской двухэтажный дом развился из более древнего дома
на подклете. Собственно, дом на жилом подклете трудно отличить от двухэтажного
дома. В середине XIX в. корреспонденты Географического общества писали то о
домах на подклете, то о двухэтажных, и при отсутствии изображений нелегко
уловить разницу между описываемыми домами. Можно лишь установить, что так
называемый глухой подклет, не имевший выхода на улицу, превратился в первый
этаж, будучи снабжен наружной дверью. В рассматриваемый нами период встречались
и двухэтажные дома, и дома на высоком подклете. Двухэтажные дома упомянуты в
середине XIX в. в Бронницком Яме, Торжке, Одоеве, в Рыбинске – и трехэтажные;
дома на высоком подклете – в Верховажском Посаде, Вытегре, Пудоже, Великих
Луках, Василе. Из южных городов здесь назван только Одоев. Повсеместно
встречался, по-видимому, и низкий подклет. Во всяком случае, описания входа в
дом всегда упоминают крыльцо, на которое нужно подняться, чтобы попасть в дом,
т. е. пол дома находится на высоте нескольких ступенек от земли (АГО 25, № Ю,
л. 4 об.). В домах упоминаются при этом и подполья. Дом с завалинкой встречен
всего дважды (на 47 городов, из которых есть такие материалы) – в г. Сураже
Витебской губ. и в г. Бирюче Воронежской губ. (АГО 5, № 6; 9; №
Крыши домов чаще всего бывали двухскатные, реже
– четырехскатные. К сожалению, точных сведений об этом почти нет, но можно
думать, что уже в начале четвертого этапа развития городов происходит некоторое
упрощение силуэта крыш. Сложные формы кровель, характерные для архитектуры
конца XVII в., в XVIII в. постепенно исчезают и в богатых городских домах, что
можно связать с влиянием общеевропейских архитектурных стилей, когда барокко
сменяют классицизм и ампир.
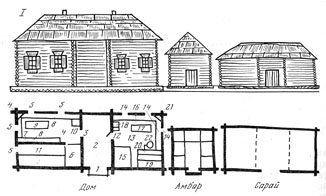
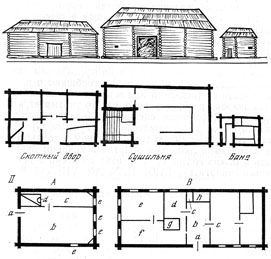
7. ПЛАНЫ И ФАСАДЫ СТРОЕНИИ ГОРОДСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭКСПЛИКАЦИЯМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА):
1 – г. С у р а ж:
1 – крыльцо и дверь в сени; 2 – сени, где стоит
разная рухлядь; 3 – дверь в светлицу; 4 – место (род треугольного шкафчика),
где стоят образа; 5 – окна; 6 – печь; 7, 8 – лавки для сидения; 9 – стол, в столе
– ящик для посуды; 10 – шкаф для складки печеного хлеба и разных домашних
вещей; 11 – перегородка из досок; 12 – дверь в черную избу; 13 – черная изба;
14 – три малых окна; 15 – печь, сбитая из камня и глины; 16 – лавки; 17 – стол;
18 – полки для посуды; 19 – полати ниже печи; 20 – полати выше печи для спанья,
особенно зимою; 21 – место для образов; 22 – станок для де-ланья горшков.
II – г. Л и х в и н:
А – однокамерный дом: а – дверь; b, с – изба с
отгороженной частью; d – печь; е – окна; в углу косой чертой показаны иконы.
В – трехкамерный дом: а – вход в сени; b – сени;
h – чулан; с – двери в обе половины; d – прихожая; е – зала и гостиная вместе;
f – спальня; g – печь голландская
Иногда и о рядовых домах говорится, что прежде
кровлю строили выше (АГО 15, №
Значительные изменения произошли в планировке.
Окончательно утвердилось господство трехкамерного дома - этого городского
жилища, имевшего, как мы видели, длительную историю, уходящую еще в XII – XIII
вв. В XVIII-середине XIX в. многие рядовые мещанские дома представляли собой
«две избы через сени», причем иногда, как и на предыдущем этапе, одна изба была
еще черной. Реже встречался другой вариант трех-камерной планировки «изба –
сени – клеть». И в последнем случае обычно клеть использовалась также как жилое
помещение: в ней спали. Среди наших материалов трехкамерные дома отмечены во
всех городах, откуда вообще имеются сведения о планировке жилого дома (таких
городов, как сказано выше, 47). Двухкамерный дом – изба с сенями – отмечен лишь
в шести городах: Ефремове, Валуйках, Бирюче, Судже, Новозыбкове, Нежине, т. е.
в южной части изучаемой нами территории – в Тульской, Воронежской, Курской и
Черниговской губерниях; в центральных губерниях – в одном Кашине (Тверской
губ.). Притом во всех этих городах были одновременно и трехкамерные, а иногда и
многокамерные дома. В некоторых случаях можно установить, что двухкамерные дома
сосредоточены в подгородных слободах или даже в примыкающих к городу деревнях
(Ефремов, Новозыбков), в то время как в центре города мещанские дома
трехкамерные. Вообще двухкамерные дома принадлежали горожанам победнее.
Однокамерные дома (без сеней) были весьма редки. Все больше распространяются
многокомнатные дома. Они отмечены в 12 городах – Вытегре, Пудоже, Торжке,
Корчеве, Кашине, Медыни, Лихвине, Одоеве, Павловске, Красном Куте, Михайлове,
Астрахани. Здесь следует учесть, что среди приведенных материалов нет сведений
из губернских городов (кроме Астрахани), а также из Москвы и Петербурга. Между
тем именно в этих городах и должно было быть большое количество многокомнатных
домов.
Основой, на которой развилась планировка
многокомнатных домов (если не учитывать «образцовые» проекты), были два
традиционных типа жилых построек: ставший к тому времени «классическим»
мещанским жилищем трехкамерный дом и еще более древний, но менее
распространенный городской дом-пятистенок. А стимулом к широкому развитию их
строительства являлись как известное повышение жизненного уровня некоторых
слоев мещанства, так и, главным образом, возникшая в городах жилищная
необеспеченность, распространение найма жилых помещений. Об этом говорится в
разделе нашей предшествующей книги, посвященном городским домовладельцам
(Рабинович, 1978а, с. 48-50).
Сдача жилья внаем практиковалась и на предыдущем
этапе развития городов. Еще в XVII в. документы сообщают о найме целой избы или
части ее (подклета или верхних помещений),но это не было так широко
распространено, на что указывает, в частности, сложность оформления сделки;
требовалось поручительство трех лиц в том, что наниматель будет соблюдать как
общие правила, так и частные условия («вином и табаком не торговать и с
воровскими людми не водитца и никаким дурном не промышлять и отжив год на срок
та изба с сенями очистить и наемные деньги заплатить») (АЮБ II, № 268 – VIII,
стб. 803 – 804).
В феодальном городе нехватка жилищ стала
особенно остро чувствоваться с развитием бюрократического правительственного
аппарата, появлением целой обширной прослойки – чиновников. Впрочем, и
регулярная армия требовала для размещения множества жилых помещений. Но
практика воинского постоя скорее отрицательно влияла на развитие жилища:
горожане иногда воздерживались от строительства более просторных домов,
опасаясь, что у них будут расквартированы военные (АГО 46, №6, л. 2). «Дурак
дом строит: под солдатов возьмут», – гласила пословица (Даль, 1957, с. 593).
Квартиросъемщиками были прежде всего городские
чиновники с семьями; переводы по службе не стимулировали приобретения ими домов
в собственность.
Горожанин – владелец трехкамерного дома, обычно
сдавал одну из изб – заднюю или (чаще) переднюю, выходящую окнами на улицу. Эта
часть дома оборудовалась соответственно потребностям съемщика, и рядовой
городской дом представлял зачастую такую картину: вход был по-прежнему через
сени, по одну сторону которых располагалась хозяйская половина – обычно изба
традиционной планировки (однокомнатная), иногда даже курная – черная, по другую
– половина жильцов – такая же изба, только обязательно белая, разделенная
внутренними (как правило, не капитальными, бревенчатыми, а более легкими –
например тесовыми) перегородками на несколько комнат разного назначения.
Так, в Вытегре обычный, не сдаваемый внаем дом
делился, как и прежде изба, на две половины сенями. В лицевой, выходящей на
улицу стороне помещалась горница или две горницы – парадные комнаты (для приема
гостей), оклеенные «порядочными шпалерами» (обоями), которые покупали иногда
даже в Петербурге. По другую сторону сеней – кухня с варистой печью,
направленной устьем к противоположной входу стене. От кухни отделялась
перегородкой боковая – чистая комната, в которой жили хозяева. В перегородке
устраивались шкафы (со стороны кухни – для столовой, со стороны боковой – для
чайной посуды) (АГО 25, №
Корреспондент из г. Лихвина писал в
В большинстве городов планировка хозяйской
половины северносреднерусская (особенно у бедных людей). Но на юге встречался и
украинский план. Так, в г. Нежине (рис. 8, 7) в таком помещении печь ставилась
справа от входа, устьем ко входу; рядом с ней, до противоположной стены, – пол
– возвышение (до
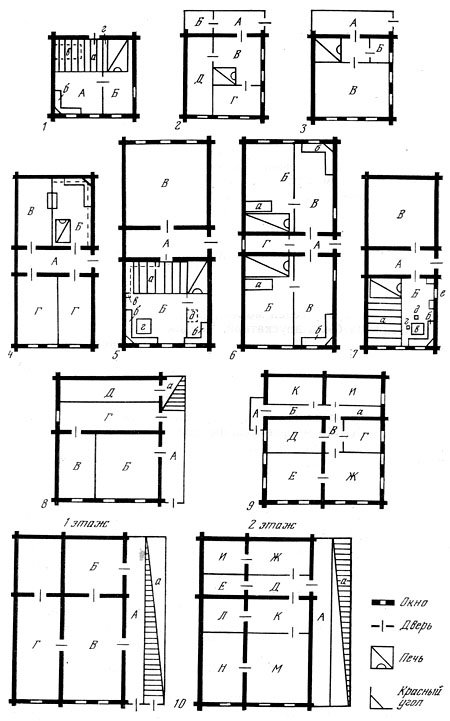
8. ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ ДОМОВ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX В. (СОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ ПО ОПИСАНИЯМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА):
1 – г. Городец: .4 – горница; Б – стряпущая,
упечь; а – полати; б – лавки; в – кровать; г – лежанка; 2 – г. Кашин: А – сони;
Б – чулан; В – стряпущая: Г – спальня Д – чистая; 3 – г. Кашин: А – сени; Б –
чулан; В – чистая половина; 4 – г. Вытегра А – сени; Б – кухня; В – боковая; Г
– горницы для гостей; 5 – г. Ядрин: А – сени Б – изба; В – клеть или вторая
изба (симметрично первой); а – полати: 6- – лавки s – кутник; г – творило; 6 –
г. Нежин: А – сени; Б – хата; В – комнатка; Г – пекурка; а – кровать; б –
лавки; 7 – г. Нежин: Л – сени; Б – хата; В – коморка; а – «пол б – лавки; в –
стол; г, д – табуретки; е – полки для посуды; S – г. Кашин: А – сени Б – зала;
В – спальня; Г – кухня; Д – кладовая; а – лестница; 9 – г. Кашин: А – крыльцо;
Б – коридор; В – приемная; Г – спальня; Д – детская; Е – гостиная; Ж – зал; И –
кухня; К – кладовая; а – лестница; 10 – т. Кашин; А – сени; Б – кухня В – столовая;
Г – комната для прислуги; Д – прихожая; Е – детская; Ж – кабинет И – спальня; К
– чайная; Л – диванная; М – зал; Н – гостиная; а – лестница
(понятие коника, видимо, утрачено). Над ними от
печи к правой от входа стене устроены полати. Спят и на полатях, и на кутнике.
Как сказано, для сдачи предназначена одна из симметрично расположенных изб;
иногда ее как-то переделывают в соответствии с потребностями жильцов.
Видимо, от такой трехкамерной связи сохранился
до наших дней дом Авакимовых в г. Городце, построенный в
Из г. Суража корреспондент Географического
общества сообщал в
Таковы примеры приспособления трехкамерной избы
к сдаче внаем.
Но были в рассматриваемый период городские дома
иной планировки и конструкции – пятистенки и крестовики (корреспондент
Географического общества называл последние шестистенками). Они развились из
пятистенного дома, который был повернут торцом к улице. «В передней половине
пятистенных флигелей – лицевые комнаты – зал и спальня, разделенные тесовой
перегородкой. В задней половине – кухня, кладовая и около крыльца, устроенного
с одной стороны дома, сени, из коих вход в зал, кухню, кладовую и верх дома. Из
кухни во многих домах делается вход в спальню или зал» (АГО 41, №
В доме зажиточного горожанина, как видим, много
«престижных» помещений для приема гостей, характерно также выделение кабинета,
спальни, детской.
Наряду с такими богатыми домами корреспондент
отмечает наличие наиболее скромных «четырехстенных флигелей», т. е. Домов без
дополнительных капитальных стен, из одного небольшого квадратного сруба с
сенями. «В четырехстенных флигелях, – писал он, – обыкновенно печь ставится или
около входа, в заднем углу, и против нее чулан, а за перегородкой чистая
половина; или печь ставится среди флигеля и обращается к окну в боковую сторону
дома, и около печи перегородками образуются три небольшие комнаты – стряпущая,
спальня и чистая около входа. В сенях кладовые, чуланы» (АГО 41, №
Столь подробные описания внутренней планировки,
к сожалению, не сопровождаются хотя бы схематическими планами. Поэтому
составленные нами по этим описаниям схемы внутренней планировки (рис. 8)
условны. При всей тщательности описаний нет данных о расположении большинства
дверей, окон, печей, о том, что размещено под крышей. Вероятно, в домах горожан
там был просто чердак без жилых помещений, поскольку о мезонинах не
упоминается, мезонин и антресоли характерны для домов дворян.
Приведенные материалы относятся к г. Кашину
Тверской губ. и датированы 1848 – 1849 гг. (рис. 8, 2, 3, 8 – 10), но описанные
в них многокомнатные дома были, по-видимому, характерны для всех русских
городов. Кашин – небольшой уездный городок в верховьях Волги, в глубине
тогдашней Европейской России, – возможно, стал застраиваться пятистенками и
крестовиками позже, чем губернские, а тем более столичные города. На эту мысль
наводит, например, известная поэма А. С. Пушкина «Домик в Коломне», написанная
в
«У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу, как теперь,
Светелку, три окна, крыльцо и дверь».
(Домик в Коломне, строфа IX)
Обыкновенный городской квартал с приходской
церковью и полицейской будкой. И домик обыкновенный, трехоконный,, совсем как в
провинции. Нам представляется, что к облику «лачужки», в которой жила вдова с
дочерью и кухаркой, очень близок, в частности, кашинский пятистенный дом с его
повернутыми вдоль боковой стены сенями и выходящей на улицу дверью, перед
которой должно было быть крыльцо. Как помним, из сеней можно было войти в
кладовую, кухню или передние, лицевые, комнаты – в зал или в спальню. В лицевых
комнатах жили, очевидно, вдова и Параша, в то время как кухня была резиденцией
кухарки. Когда обеспокоенная вдова ушла из церкви, она
«Пришла в лачужку. Кухню посмотрела.
Маврушки нет. Вдова к себе в покой
Вошла...»
(Домик в Коломне, строфа XXXV)
Застигнутая врасплох «кухарка»
«Прыгнула в сени, прямо на крыльцо
И ну бежать, закрыв себе лицо»
(Домик в Коломне, строфа XXXVI)
Если учесть, что при этом кухарка перескочила
через упавшую в обморок хозяйку, то можно представить, как та, заглянув в кухню
и не увидев там Мавруши, открыла дверь из сеней, вошла в свою комнату и упала
возле порога. А вспомнив, что из кухни «во многих домах» делали также дверь в
одну из «лицевых» комнат, мы поймем, как свободно было до тех пор общение
«кухарки» с Парашей, если из кухни имелась дверь в спальню. Ясно, что поэт
представлял себе развитие сюжета своего произведения во вполне конкретных реальных
условиях хорошо ему известного типично мещанского дома.
Видимо, дом-пятистенок с двумя жилыми и двумя
хозяйственными помещениями, тремя окнами и дверью, выходящими непосредственно
на улицу, был широко распространен в больших и малых городах России.
Петербургский «домик в Коломне» стал уже «ветхой лачужкой». События, о которых
идет речь, произошли в начале 1820-х годов («тому лет восемь», – писал поэт в
В XVIII – XIX вв. оба описанные нами типа
мещанских домов – трехкамерный («две избы через сени») и пятистенок –
ставились, как уже было сказано, на красной линии улицы, выходя на улицу торцом
с тремя окнами по фасаду. Внешнее различие между ними было в том, что
пятистенок имел сбоку выходящие на улицу рядом с окнами крыльцо и дверь, в то
время как у трехкамерного дома крыльцо отступало от торца, находясь посредине
длинной стены, и не выходило непосредственно на улицу. К нему надо было пройти
через калитку. Это различие объяснялось внутренней планировкой домов: у
пятистенка сени были повернуты вдоль дома, у трехкамериого – поперек, разделяя,
как сказано, дом на две части. Крыльцо пятистенка было попросту продолжением
сеней (рис. 9, 2, 4), и доступ с улицы был легче, чем в трехкамерный дом.
Заметим, что по внутренней планировке пятистенок был более приспособлен для
Житья семьи (может быть, с одним постояльцем), а трехкамерный дом, как это
показано выше, – для сдачи половины его внаем.
Однако и тот и другой тип подходили под
общепринятое в те времена определение рядового мещанского жилища – «дом в три
окна». Вот что писал о таких домах в середине XIX в. В. Г. Белинский: «Мечта
москвича – собственный дом. Домик в три окна строится лет 5 – 10» (срок, судя
по приведенному выше сообщению И. А. Толченова, преувеличен. – М. Р.). «...Эти
домишки попадаются даже на лучших улицах Москвы, между лучшими домами, так же,
как хорошие (т. е. каменные дома в три этажа) попадаются в самых отдаленных и
плохих улицах между такими домишками» (Белинский, с. 37).
Итак, в первой половине XIX в. дом в три окна по
фасаду уже не считался престижным для Петербурга и даже для Москвы. А теперь
такой дом, пожалуй, и вовсе не встретишь. В малых и средних (даже в губернских)
городах России трехоконные дома обоих типов строили и во второй половине XIX в.
И сейчас они нередки в старых кварталах городов. Автору этих строк случилось видеть
такие дома в Устюжне, Калинине, Угличе, Ярославле, Костроме, Плесе, Кинешме,
Уфе, Казани, Свердловске, Ульяновске, Куйбышеве, Ростове-на-Дону, Муроме,
Меленках, Владимире, Суздале, Киеве и других городах (см. рис.9). Иногда
удается выяснить, что эти дома построены в прошлом столетии или даже в середине
его, хотя в большинстве случаев установить возраст домов уже невозможно. Если
учесть приведенные выше литературные источники, то территория распространения
трехоконного дома простирается, по крайней мере, от современной Архангельской
обл. до Украины и Краснодарского края, от Ленинградской обл. до Свердловска, т.
е. практически во всей европейской части нашей страны. Возможно, что такие дома
строили и в Сибири, что ареал их был еще шире. Так называемый трехоконный дом
был в рассматриваемый период весьма типичным жилищем среднего горожанина. При
этом нужно отметить, что это не был «образцовый» проект – творчество
специалистов-архитекторов. В имеющемся подробном обзоре «образцовых» проектов
(Белецкая и др.) таких домов (ни пятистенков, ни трехкамерных) нет. Они
представляются нам результатом развития традиционных городских домов, известных
с X (пятистенок) или с XII – XIII вв. (трехкамерный' дом) (см. рис. 9, I, 2).
Следующей его ступенью был двухэтажный мещанский
дом, также с тремя окнами (в каждом этаже) по торцовому, выходящему на улицу
фасаду. Он возникал уже в XVIII в. как из пятистенка, так и из трехкамерного
дома. Таких домов тоже сохранилось много до наших дней. В тех нередких случаях,
когда дом был предназначен для сдачи квартир внаем (сдавался обычно или верх,
или низ), лестница, ведшая на второй этаж, имела отдельный вход: у пятистенка –
с улицы, так что на крыльцо выходили две парадные двери, у трехкамерного дома –
со двора. В том и другом случае верхняя квартира была вполне изолирована от
нижней. Не о таком ли двухэтажном доме стихи В. Полонского: «В одной знакомой
улице я помню старый дом с высокой, темной лестницей...» (Полонский, с. 82).
К середине XIX в. двухэтажный трехоконный дом
обоих типов был весьма распространен, но, разумеется, существовали и другие
типы городского дома. Корреспонденты Географического общества сообщали о домах
не только в три, но также в пять, семь и даже девять окон по фасаду (АГО 41, №

9. ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ ДОМА XIX – XX ВВ.: –
трехкамерный одноэтажный; 2 – пятистенок одноэтажный, г. Кострома;
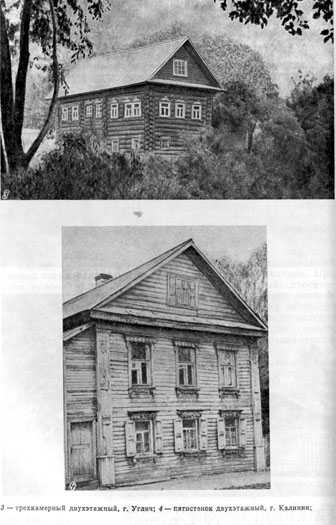
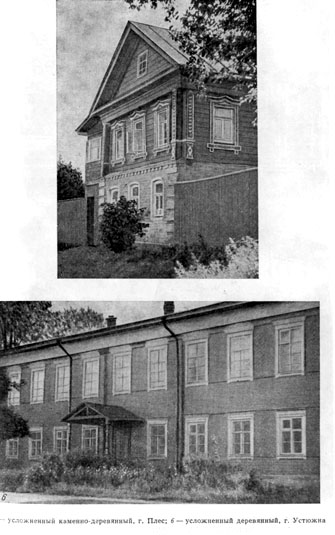
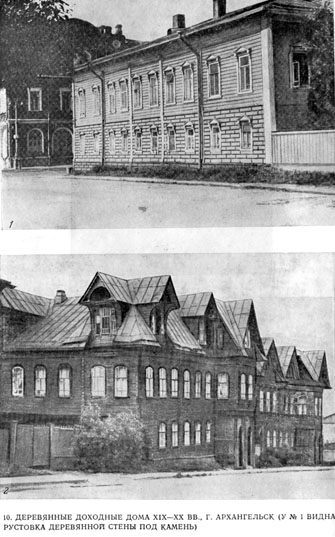

мы отмечали выше, а три или четыре), или дома
были повернуты к улице длинной стеной.
Этнографические исследования, проведенные в недавние
относительно годы в городах Урала и в городах средней полосы РСФСР, показали,
что в первой половине XIX в. и в этих местах преобладал трехкамерный дом.
Например, в Нижнем Тагиле таких домов в
До сих пор мы говорили о городских домах, в
которых хозяева жили сами и обычно часть дома сдавали внаем. Но для четвертого
этапа развития городов характерно появление нового типа домов – так называемых
доходных, специально приспособленных для сдачи квартир. Характерной чертой
таких домов исследователи считают наличие нескольких или многих одинаковых
ячеек – квартир.
Корреспондент Географического общества писал в
Дворянский или купеческий особняк превращался в
доходный дом постепенно: раньше всего сдавались флигеля, потом и основные
помещения, для чего они сначала разгораживались временными перегородками
(исследователи называют это обратимой планировкой); затем, если решали сделать
особняк доходным домом навсегда, строили дополнительные капитальные стены: в
двухэтажном здании выгораживали четыре квартиры, в трехэтажном – шесть
(Кириченко, с. 139).
Так или иначе, сложившиеся в городе к XIX в.
типы строений могут при надобности развиться в доходные дома (рис. 10). И если
в малых городах квартиры предназначались для сдачи относительно обеспеченным
постояльцам (например, чиновникам) и потому были довольно благоустроены, то в
городах крупных и средних наряду с такими квартирами получали все большее
распространение квартиры, предоставлявшие лишь минимум удобств. Они
предназначались либо для кратковременного проживания (как описанные выше дома
на Ирбитской ярмарке), либо для семей низкого достатка или даже холостяков,
прибывших в город на заработки, или для мелких служащих. В первой книге мы
приводили мастерские описания таких квартир Ф. М. Достоевским.
Но приток населения в города, неизбежно
вызываемый капиталистическим развитием страны, имел следствием и другое явление
– городские трущобы. В рассматриваемый нами период оно только зарождалось и в
наших источниках отражено слабо. В ответах на Программу Географического
общества есть такие сведения из г. Ефремова. На окраине города, на крутом
берегу реки был квартал городской бедноты, жителей которого называли «горцами»,
очевидно, по сходству их домов с жилищем кавказских горцев. Это были, как пишет
корреспондент, «настоящие пещеры» (АГО 42, №
ИНТЕРЬЕР И УКРАШЕНИЯ
Интерьер городского дома в XVIII – первой
половине XIX в. бывал весьма различным в зависимости от социального положения
живущих. Мы уже видели, что в малых и средних городах дом рядового мещанина мог
иметь традиционный, сложившийся еще лет 400 – 500 назад интерьер с красным
углом, коником и бабьим кутом, а также с производственными приспособлениями
(например, гончарным кругом, как в Сураже). Печь делалась из глиняных блоков
или кирпича и белилась (АГО 7, №
С распространением обычая чаепития престижно
стало помещение самовара и чайной посуды (и вообще красивой посуды –
стеклянной, фаянсовой, фарфоровой, расписной деревянной) на полках или в
застекленном шкафу, так чтобы гости могли ее рассматривать, как в старину
рассматривали поставец. По-прежнему важным украшением интерьера оставалась
изразцовая печь, причем в XVIII – XIX вв. такие печи были уже не только у
богатых, но и у мещан среднего достатка (АГО 15, №
В многокомнатных домах зажиточных горожан
интерьер каждой комнаты должен был соответствовать, хотя бы в общих чертах, ее
назначению – спальной, детской, кабинета и т. п. Относительно обеспеченный
горожанин, будь он домохозяин или квартирант, старался обставить свои комнаты
сообразно потребностям семьи и существовавшим в ту пору представлениям о
престижном убранстве. Корреспонденты Географического общества отмечают лишь
общие черты интерьера жилища таких горожан – отсутствие традиционной
неподвижной мебели – лавок, коника, полатей, которую заменяют скамьи, стулья,
кровати «с занавесками», диваны, софы, ломберные столы, шкафы иногда простой
столярной работы, иногда – из березы, красного дерева и т. п. В их комнатах,
стены которых зачастую обиты «шпалерами» (обоями) модных рисунков, висят
зеркала, картины, «подражающие итальянским», часы- – иногда даже маленькие
карманные – и пр. (Бывали часы напольные и каминные) (АГО 47, №
Приведем для сравнения описание типичной
обстановки московского дворянского особняка, принадлежавшего А. С. Хомякову
(1804 – 1860) (Шапошников, с. 10 – 36). В передней стояли вешалки, диван, коник
– длинная деревянная скамья со спинкой, большое зеркало. Рядом была лакейская,
где на стоящих вдоль стен ларях отдыхали приехавшие с гостями лакеи. Узенькая,
заключенная в шкаф лестница вела отсюда в полуподвальное жилище дворни. Из
передней попадали в анфиладу парадных комнат. Открывали ее две гостиные –
большая, для парадных приемов, с роскошным мебельным гарнитуром (ширмы, диваны,
кушетки, столы, кресла, стулья), канделябрами на стенах и малая – более
интимная, приемная хозяйки с клавикордами, торшерами, менее богатым, но тоже
стильным мебельным гарнитуром, трельяжем, жардиньеркой. На полу в гостиных –
ковры, на стенах – картины. Следующей была парадная спальня, в глубине которой
за ширмами стояли кровать, вешалка, шкафы, трюмо, часы; в углу – киот с
иконами, а по другую сторону ширм – обстановка примерно такая же, как в малой
гостиной, тоже с модным гарнитуром, с портретами на стенах. К спальне примыкали
уборная со шкафом, в котором был спрятан умывальник, ящиком для грязного белья
и большим креслом – удобством для отправления естественных надобностей
(удобство и ящик были красного дерева) и темная гардеробная с вешалками и
сундуками. Эти комнаты не выходили на фасад и были ниже парадных (над ними
располагались антресоли). За спальней (окнами во двор) шла маленькая зала –
собственно, рабочий кабинет хозяйки, где иногда спали приезжие гости. Здесь
тоже была мебель красного дерева (диван, столик для рукоделия, шкаф), трельяж,
перед камином – экран; на полу – ковер, на стенах – зеркала, картины, портреты.
В сундучной (иногда это была темная часть сеней или коридора) среди прочих
сундуков выделялась важа – огромный распашной дорожный сундук для приданого.
Окнами в сад, на задний фасад дома, выходили зала и столовая (при надобности
эти две комнаты соединялись в одну). Здесь стояли стол-сороконожка (в обычные
дни сложенный), стулья, горки с фарфором, рояль. Над дверями устроена антресоль
для музыкантов (танцевали гости в этой комнате).
По дворовому фасаду располагались также кабинет
хозяина с огромным письменным столом, креслами, стойкой для трубок,
подсвечниками и пр. и диванная, или, как ее называли в описываемом доме,
говорильня. Вдоль трех ее стен стояли диваны, между ними – столик, этажерка с
книгами. Эту «говорильню» из дома Хомяковых можно и сейчас увидеть в
Государственном Историческом музее.
На антресолях были комнаты для приезжих и
некоторых членов семьи (например, юноши-студента), чуланчик для старого слуги.
Мебель здесь скромная, случайная, отслужившая свой срок в парадных комнатах.
В пристройке размещались бабушкины комнаты (где
была старинная случайная мебель, семейные портреты, зеркала, киот с иконами),
девичья и комната экономки. Особая лестница, спрятанная в шкафу, вела из
комнаты бабушки в нижнюю каморку горничной, чтобы горничная могла подняться к
бабушке во всякое время. Автор описания особо отмечает, что в 1840-х годах
девичьи «уже выводились» (Шапошников, с. 27). Раньше это была комната, где
работали крепостные девушки. Вообще же специальных помещений для слуг было мало
или вовсе не было: слуги ночевали то в одной, то в другой комнате.
Хомяковы были богатыми дворянами, но не
принадлежали к верхушке российской знати. Их дом не дворец, а особняк, каких в Москве
было довольно много. Приведенное выше описание его обстановки, конечно,
неполно. Но оно все же показывает типичные черты богатого городского
дворянского дома, в котором от традиционного жилища горожанина остались разве
что «передние углы» в некоторых комнатах, голбцы, соединявшие жилые комнаты с
подпольем, да коник в передней. Все остальное было, так сказать,
общеевропейским, с той, однако, спецификой, какую обусловливал феодальный,
крепостнический быт семьи, которую обслуживало множество дворовых, хоть девичья
и отжила уже свой век. Появились и новые традиции (манера ставить в гостиной
столик с диваном), тесно связанные со старыми.
Анфиладное расположение комнат, типичное для
дворцов и особняков того времени, имело свои неудобства: все комнаты
оказывались проходными и никто из членов семьи, по сути, не имел вполне
отдельной комнаты. Проходным был, например, кабинет А. С. Пушкина, как и все
комнаты в его последней квартире на Мойке (Попова).
Такая анфиладная планировка, при которой комнаты
располагались обычно в два ряда (один окнами на улицу, другой – во двор),
бывала я в доходных домах, сдаваемых целыми квартирами. Но для домов, где
сдавались людям победнее отдельные комнаты, она, разумеется, не годилась. Тут
необходим был коридор. Вот что писал по этому поводу Макар Девушкин, герой
повести Достоевского «Бедные люди» (опубликованной в
Коридорная планировка была более удобной по
сравнению с анфиладной и в дальнейшем, во второй половине XIX – начале XX в.,
распространилась очень широко, но этот период лежит уже за рамками нашей темы.
Такая планировка была общеевропейской (Кириченко). Однако традиционные русские
сени (в особенности когда они повернуты вдоль дома) могли также быть зародышем
коридора, что видно из изложенного выше материала.
Об использовании городской квартиры в середине
XIX в. можно судить по «Полной хозяйственной книге» К. А. Авдеевой. Это
руководство к ведению хозяйства в доме зажиточного горожанина во многом
напоминает как по своим установкам, так и по содержанию древний Домострой –
такая же энциклопедия домашнего хозяйства, но дополненная множеством рецептов –
кулинарных, хозяйственных, медицинских. Рекомендации Авдеевой дают нам представление
о господствовавших в середине XIX в. взглядах на жилище высших слоев городского
населения. «О помещении людей недостаточных, – пишет К. А. Авдеева, – ничего
нельзя сказать определительного, иногда довольно большое семейство помещается в
трех или четырех комнатах, но здесь главное порядок, опрятность, чистота»
(Авдеева, 1851, ч. II, с. 12). Зажиточной городской семье Екатерина Авдеева
рекомендует вести дом если не слишком «скаредно», то во всяком случае экономно.
Что она понимает под экономным ведением хозяйства, видно из последующего. В
книге не говорится о составе семьи, о числе ее членов; рекомендации касаются,
как еще в Домострое, отношений между хозяином и хозяйкой, их отношения к
слугам. «В достаточном доме» должно быть 10 – 15 человек мужской и женской
прислуги: один или два лакея и столько же горничных, нянька, кормилица,
экономка, прачка, повар или кухарка, судомойка, кучер (а если запрягают карету
четверней – еще и форейтор), дворник, садовник. При этом человеку достаточному,
но не желающему жить широко, «совсем не нужно много комнат и держать лишнюю
прислугу; вместо десяти комнат можно жить очень прилично в шести комнатах»
(Авдеева, 1851, ч. II, с. 11). «Десять и более» комнат – это передняя, зала,
гостиная, спальня, кабинет, столовая (с комнатушкой для буфета), танцевальный
зал, детская (одна или две), бильярдная, официантская, девичья (автор
специально оговаривает, что хотя девичьи теперь из моды вышли, но у многих еще
есть), и, конечно, кухня, прачечная и другие подсобные помещения. Притом специальных
комнат для житья слуг нет: повар и кухарка отгораживают себе закуток в кухне,
прачка – в прачечной, лакей и горничные спят в комнатах, где кто устроится.
Своего угла не имеет, кажется, даже экономка (Там же, с. 1 – 10, 74 – 78). К.
А. Авдеева замечает, что кухня обязательно должна быть отделена коридором и что
при таком числе комнат необходимо иметь два входа. Речь, стало быть, идет не об
особняке, в котором и так всегда было несколько входов, а о большой квартире в
«доходном» доме с парадной и черной лестницей, какие сохранились кое-где и
сейчас.
Уменьшая число
комнат, можно залу совместить со столовой, половину спальни отделить ширмой –
будет уборная или будуар (там же, с. 12). Но во всех случаях стены должны быть
оштукатурены, печи (из лучшего кирпича) – обогревать несколько комнат, полы –
непременно с накатом и земляной засыпкой. Под жилыми комнатами никогда не
следует устраивать ледник, а погреба обязательно должны иметь каменный свод
(даже в деревянных домах).
Не будем здесь воспроизводить подробные
рекомендации К. А. Авдеевой относительно обстановки комнат – они очень близки к
описанной выше обстановке дома Хомяковых. Разве что мебель несколько менее
роскошна. Бронзу заменяет папье-маше (в люстрах – почти всегда) и отсутствуют те
штрихи, которые как раз характеризуют конкретный дом известной семьи (например,
комнаты бабушки). Но в столовой – тоже стол-сороконожка, в гостиной – диваны и
ломберные столы и т. п., разве что в кабинете назван не только письменный стол,
но и конторка, за которой работают стоя. Отражены, впрочем, и «новые веяния» в
домоводстве, в частности говорится, что в детской мебель может быть простая –
колыбель или кроватки, кровать няни. «Главное – удобство, опрятность, чистый
воздух» (Авдеева, 1851,ч. II, с. 10).
Очень подробно регламентировано устройство
подсобных помещений – кухня с огромной русской печью и плитой, большим столом,
ларем и шкафом вместе, полками для посуды. Авдеева отмечает, что «для чистоты»
лучше, чтобы хозяйская кухня была отделена от «людской» (Авдеева, 1851, ч. I,
с. 1), т. е. что в хорошо устроенном доме должно быть, собственно, две кухни.
Расположение домов у «красной линии» улицы
сыграло свою роль и в развитии их украшения. Мы уже говорили выше, что если для
дома, стоящего во дворе, характерен сложный силуэт верхней его части, которая
видна из-за забора: кровля с фигурным коньком, разного рода решетки на крыше,
кровельки крыльца и т. п. – то дом, выходящий окнами на улицу, получил еще в
XVII в. резные наличники окон. В рассматриваемый нами период наличники делались
в принятых европейских стилях – барокко, ампир – и богато украшались резьбой.
Резьба покрывала по-прежнему карнизы, причелины, фризы дома, вереи и полотнища
ворот и калитки. Крыльцо уже не перекрывалось шатриком, а имело кровлю в виде
фронтона с резными колонками и балюстрадой перил. Важным элементом декора
служили, по-видимому, и ставни – необходимая принадлежность выходящих на улицу
окон первого этажа. Значение их, однако, было по преимуществу утилитарным:
защищать окна от лишнего света и от разных непредвиденных и неприятных
случайностей. Ставни закрывались (и запирались) с наступлением темноты и
открывались ранним утром. Это было важным фактом уличной и домашней жизни. А.
С. Пушкин писал:
«Зимою ставни закрывались рано.
Но летом до-ночи растворено
Все было в доме...»
(Домик в Коломне, строфа XVIII)
«Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни...»
(Евгений Онегин, гл. 1, строфа XXXV)
Ставни несли, видимо, и знаковую функцию для
горожан, разделяя сутки на дневные и ночные часы. Открытые ставни домов
обозначали, что уже начался трудовой день, закрытые – что наступил вечер.
Ставни должны были иметь «приличный» вид, украшаться резьбой или раскрашиваться.
Корреспондент Географического общества из г. Пудожа писал, что там ставни
бывали деревянные или соломенные (АГО 25, №
В городских домах середины XIX в. сохранившиеся
ставни (их немного) оформлены скромнее, чем наличники (например, без богатой
резьбы), но, возможно, это относительно поздние ставни, заменившие
первоначальные, более нарядные. Судя по сохранившимся фрагментам, в городах
Поволжья (в частности, в Городце, в Васильсурске) причелины и полотенца
фронтонов, карнизы и фризы по уличному фасаду, наличники светелок и окон,
иногда выступающие торцы бревен украшались знаменитой «корабельной резью» с ее
пышным растительным орнаментом, символическими солярными фигурами,
изображениями коней и «фараонок» (женщин-русалок) или сиринов (Ковальчук, с. 11
– 12, табл. 4 – 6). Резные орнаменты иногда еще раскрашивались.
На четвертом этапе развития русских феодальных
городов (в XVIII – XIX вв.) двор и дом горожанина претерпели значительные
изменения. Явно выражена тенденция к уменьшению числа дворовых построек. К
концу рассматриваемого периода собственно сельскохозяйственные постройки –
снопосушильни, помещения для молотьбы – в меньшей степени – бани, становятся
редкостью. Число хлевов и сараев уменьшается. Прежнее значение сохраняют, пожалуй,
только погреба, конюшни, каретные сараи. Все это связано с развитием торговли,
транспорта, городского хозяйства. Большую роль сыграла также сдача жилья внаем,
так как уменьшение числа дворовых построек сопровождалось нередко (особенно в
крупных городах) строительством жилых доходных флигелей. Еще более уменьшилась
замкнутость, изолированность городского двора, а в столицах появились и
«сквозные» (проходные) дворы (см., например: Гоголь. Ревизор, действие II, явл.
1). Во дворы заходили теперь и разносчики, и уличные артисты.
Развитие городского дома характеризуется
увеличением числа жилых помещений как для удобства семьи, так и для сдачи
внаем. Господство трехкамерной связи в малых городах несколько поколеблено уже
строительством домов-пятистенков и крестовиков со сложным внутренним делением
перегородками на множество комнат специализированного назначения (спальни,
детские, кабинеты, залы, гостиные и т. п.). Появляются доходные дома.
Углубляются социальные контрасты. Наряду с барскими дворцами и особняками
создаются и целые кварталы совсем неблагоустроенных жилищ – зародыши трущоб,
характерных уже для капиталистического города. Рядовые горожане стремятся и в
домостроительстве подражать зажиточным, городское жилище становится во многих
отношениях образцом для сельского. Корреспонденты Географического общества не
раз отмечали, что «сколько-нибудь зажиточные крестьяне стараются во всем
подражать горожанам» (АГО 2, №
Вместе с тем в отдельных городах наблюдаются
случаи проникновения жилища, характерного для окружающей сельской местности,
например дома с крытым двором – на севере, «пола» в интерьере – на юге. По всей
вероятности, это связано с переселением в город крестьян.
* * *
Попробуем теперь наметить некоторые общие
тенденции, проходящие от одного этапа к другому.
Развитие русского городского жилища в целом, за
весь тысячелетний период феодализма, охватываемый нашей книгой, можно наметить
примерно так (см. рис. 11). Возникнув на основе сельского жилища, жилище
рядовых горожан первоначально почти не отличалось от него ни по материалу, ни
по конструкции. В нем отражались особенности природных зон и социальной
структуры города. По мере роста производительных сил городское жилище стало
менее зависимым от ландшафта. Срубные наземные дома решительно вытеснили
полуземлянки уже на втором этапе развития городов, в XIII – XV вв. Значительно
распространился также северносреднерусский тип внутренней планировки. В
дальнейшем для городского дома характерно увеличение числа помещений.
Процесс этот был сложен, пути его развития
многообразны. Последовательные пристройки новых помещений к первоначальному
срубу (избе) только один из этих путей, и притом не главный для города.
Пожалуй, наиболее важным было превращение однокамерного дома в трехкамерный
путем соединения сенями ранее стоявших отдельно избы и клети (XII – XIII вв.).
Этот трехкамерный дом типа «изба – сени – клеть» стал специфически городским
жилищем и к XVII – XVIII вв. уже преобладал в городах. Дальнейшее его развитие
шло по линии превращения клети во вторую избу, деления обеих изб перегородками
на множество комнат, надстройки второго этажа. Еще раньше, чем трехкамерный (в
X в.), в городах появился цельнорубленный двухкамерный дом-пятистенок. В
Новгороде он господствовал до XIV в., но потом, уступив место другим типам
дома, до XVIII в. почти не развивался и был к тому времени менее распространен,
чем однокамерный и трехкамерный. Его развитие значительно продвинулось в XVIII
– XIX вв., когда к пятистенку пристроили вдоль его длинной стороны выходящие на
улицу сени и стали перегораживать внутренние помещения, превращая его в
многокомнатный дом. В дальнейшем, к концу рассматриваемого нами периода,
пятистенок развился в одноэтажный или двухэтажный крестовик с сенями сбоку и
выходящим на улицу крыльцом с одной или двумя парадными дверями. Не был чужд
городу и третий путь усложнения жилого дома. Примерно с XIV в. встречаются
двухкамерные городские дома – изба с сенями. Такие дома, но с разделенным
перегородками основным срубом и центральным положением печи отмечены кое-где и
в XVIII – XIX вв. Но большее развитие этот дом получил в сельском
строительстве, превратившись к середине XIX в. В трехкамерный дом типа «изба –
изба – сени», который в городах почти не встречался. Пятистенки и трехкамерные
дома в XVIII – XIX вв. распространились и в деревне (прежде всего по соседству
с городами).
Наконец, в XVIII – первой половине XIX в.
появился и начал распространяться в городах (преимущественно в крупных) новый
тип жилища – доходный дом, включавший обычно много сходных ячеек в несколько
комнат с отдельными входами (квартир) или же спланированный по коридорной
системе с отдельными комнатами (или «камерами» в несколько комнат), выходящими
в общий коридор.
Все вышесказанное относится к жилищу средних и
бедных горожан (мещан и разночинцев, как их называли в XVIII – XIX вв.). Городская
верхушка – феодалы, богатые купцы и пр. строили на протяжении всего
рассматриваемого в нашей книге тысячелетнего периода многокомнатные дома –
дворцы. Высотное развитие городского жилища идет в целом от полуземлянки,
поземного дома и дома на подклете к двухэтажному. Многокомнатные дворцы знати
были двух-трехэтажными уже на первом и втором этапах существования городов.
Значительные изменения испытывает и городской
двор. Количество хозяйственных построек на I – III этапах увеличивается, на IV
уменьшается. К концу четвертого периода развития городов почти совсем исчезли
постройки для обработки урожая, меньше стало погребов и ледников, сараев, бань.
Это связано с регулярностью торговли, при которой не требовалось создавать
запасы на несколько лет, с расширением сети обслуживающих заведений –
трактиров, торговых бань и пр. За счет хозяйственных построек на III – IV
этапах растет число и камерность жи-
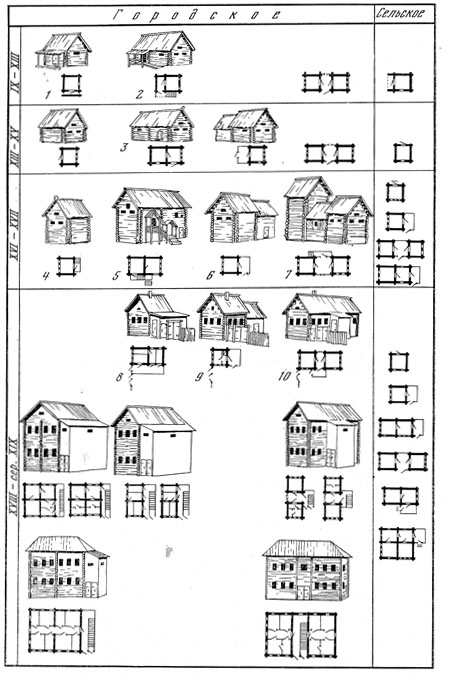
11. СХЕМА РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ РУССКОГО
ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩА IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.:
1 _ однокамерный дом, реконструкция по П. А.
Раппопорту; 2 – пятистенок. Киев, реконструкция П. П. Толочко; 3 – пятистенок.
Москва, реконструкция М. Г. Рабиновича; 4 – однокамерный дом. Новгород, по
плану конца XVII в.; 5 – пятистенок. Новгород, по плану XVII в.; 6 –
двухкамерный дом. Тихвин, по плану XVII в.; 7 – трех-камерный дом. Тихвин, по
плану XVII в.; 8, 9, 10 – пятистенок, дом с сенями, трех-камерный дом по
современным фотографиям
лых. Этот рост, вызванный увеличивающейся нуждой
в жилье, приводит даже к тому, что хозяйственных и иных служб становится снова
слишком мало. Создаются перенаселенные дворы – трущобы.
Важно отметить также, что в течение всего
рассматриваемого периода постепенно уменьшается замкнутость двора, усиливается
связь его с улицей. Если в начале существования городов двор-усадьба был
замкнутой единицей, в которую всячески затруднен доступ посторонним, а жилой
дом стоял в глубине двора, то уже на III этапе дом выходит окнами на улицу, а
на IV этапе в больших городах двор мог быть даже проходным, сообщение его с
улицей было практически непрерывным. Древний двор-крепость отошел в прошлое.
2
ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Мало что так характеризует человека, окружающую
его среду, общество, в котором он живет, как костюм, манера одеваться. Недаром
старинная пословица говорит, что «по платью встречают». В русских феодальных городах
одежда имела свою оригинальную историю, которой и посвящен настоящий очерк.
МАТЕРИАЛ
ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ
КОСТЮМ КАК ЦЕЛОЕ
ОДЕЖДА В СЕМЬЕ И В ОБЩЕСТВЕ
Распространенное среди исследователей мнение,
что городская одежда – это «завтрашний день» одежды сельского населения, можно
понимать и так, что крестьянский костюм – это «вчерашний день» городского
костюма. В самом деле, если не принимать в расчет одежду производственную,
специально приспособленную для сельскохозяйственных работ или для работы в
мастерских и на фабриках, то повседневное и праздничное платье горожан в период
феодализма генетически теснейшим образом связано с народным костюмом,
сложившимся в отдаленные времена, когда и городов-то еще не было.
Вместе с тем в течение всего рассматриваемого
нами периода можно проследить появление в городах и распространение из них в
сельские местности разнообразных новшеств, существенно изменявших традиционную
одежду и создававших в манере одеваться новые традиции. Здесь можно увидеть как
бы догоняющие друг друга волны. Не успевало одно новшество достигнуть глухих
деревенских уголков, как из города уже направлялось ему вдогонку другое
новомодное явление. Тут были и местные моды, и моды «международные» – взаимные
влияния передавались через многие города и страны.
Важнейшим фактором изменения одежды было
классовое и имущественное расслоение, которое в городах шло несравненно сильнее
и быстрее, чем в деревне. С этим было связано и появление специалистов-мастеров,
изготовлявших ткани, одежду и обувь и, конечно, вносивших много нового как в
технику производства, так и в разработку фасонов и видов. Они занимали
значительное (зачастую даже первое) место среди городских ремесленников,
составляя обычно около трети, а то и половину их всех (Рабинович, 1978а, с. 38
– 40).
Одежду ценили. Берегли. Передавали по
наследству. Многократно чинили и даже совсем изношенную не бросали, а
употребляли на заплаты, на тряпки и т. п. «Хозяина нет – все под-ворники», –
говорили в середине прошлого столетия о вконец изношенном, донельзя заплатанном
платье (г. Дедюхин Пермской губ. – АГО29, №34, л.2). На городском рынке можно
было купить поношенную и чиненую одежду и обувь.
В погребениях одежда и обувь полностью сохраняются
редко.
Благодаря всему этому до нас дошло чрезвычайно
мало реалий – подлинных предметов одежды, и мы вынуждены говорить о многом лишь
предположительно, опираясь больше на упоминания и изображения.
МАТЕРИАЛ
Ткани. Меха.
Кожа. Лыко.
Кора. Корни.
Войлок
Традиционный народный костюм в эпоху
первобытнообщинного строя и раннего феодализма делали из материалов,
производившихся в самом хозяйстве. Первоначально это были шерсть домашних
животных, шкуры и меха, кожа, лыко и древесная кора, позднее – с развитием
земледелия – также льняные и конопляные ткани (Левашова, 1959а). К началу
рассматриваемого нами периода ткани домашнего производства уже преобладали.
ТКАНИ
На первых этапах развития городов это положение,
по-видимому, мало изменилось. Рядовые горожане сами пряли шерсть и лен, ткали
из нитей материи – грубое сукно и холст, кроили и шили платье. В более
зажиточных домах это делали слуги. О домашнем прядении и ткачестве говорят
находки в культурном слое древних русских городов большого количества пряслиц –
грузиков для веретен, а также самих веретен, гребней и донцев прялок, юрков для
снования ниток, частей ткацкого (преимущественно горизонтального) стана, по
большей части – деревянных, реже – костяных (Колчин, 1968, с. 66; Рабинович,
1964, с. 278 – 280). Эти находки относятся как к начальному этапу существования
городов (IX – XIII вв.), так и ко временам более поздним (до XVI – XVII вв.).
Нужно сказать, что и на раннем этапе существования
городов горожане сделали важный вклад в развитие прядения и ткачества, введя
вместо глиняных и костяных каменные грузики для веретен – пряслица. Их
изготовляли преимущественно на юге, на территории современной Украины (на
Волыни и в среднем Поднепровье), где имелись залежи удобного для этих поделок
материала – розового шифера; оттуда коробейники разносили пряслица по всей
тогдашней Руси (Рыбаков, 1948, с. 189 – 202). Видимо, это городское
нововведение было сразу и очень охотно принято деревенскими пряхами, и
производство расширилось. Кроме Овруча и Киева пряслица делали в XII – XIII
вв., например, и в Суздале, куда привозили овручский шифер (Седова, 1975, с.
47).
Домотканые материи: грубое сукно – сермяга,
опона, грубое полотно (толстина, частина, усчина, позже хам), еще более толстая
ткань из льняного или посконного волокна – вотола (Поппэ), – долгое время шли
на одежду рядовых горожан, которые в этом почти не отличались от окрестного
сельского населения.
Известны и тонкие ткани местного изготовления –
шерстяная волочень, беленые полотняные – бель и понява, бывшие в обиходе более
зажиточных горожан. Однако уже в первый намеченный нами период, до XIII в., в
городах были и более роскошные ткани, привозившиеся издалека: шелковые вышитые паволоки
или золотные аксамиты – по большей части византийской работы. Они шли
преимущественно на одежду феодалов и их окружения. Но и зажиточные горожане,
иногда даже крестьяне могли позволить себе украсить головной убор или одежду
такой дорогой тканью. Об этом говорят археологические находки подобных тканей,
иногда с местной вышивкой, как в курганах, так и на древних городских кладбищах
при церквах, причем не только возле крупных центров тогдашней Руси – Киева,
Чернигова, Великого Новгорода, Смоленска, Суздаля, Рязани, но и в маленьких
городках, какими были Москов или Ярополчь Залесский (Арциховский, 1948, с. 250
– 252; Монгайт, 1955, с. 171; Шеляпина, с. 54; Седова, 1975, с. 42).
Со временем ввоз иноземных тканей расширялся.
Анализ фрагментов материи, найденных при раскопках в Новгороде Великом в слоях
XIII – XV вв., показал, что шерстяные ткани были в этом городе различного
происхождения. Больше всего было по-прежнему домотканого местного сукна. Но
найдены также сукна из шерсти испанских мериносов, английских тонкорунных и
толсторунных овец. Первые попадали в Новгород сложным путем: из испанской
шерсти их ткали фландрские ткачи, а привозили в Новгород, по-видимому,
ганзейские купцы. Вторые ввозились непосредственно из Англии; были и
голландские сукна (Арциховский, 1970, с. 281 – 282). Ввоз фландрских сукон был,
видимо, настолько постоянным, что кусок такой материи был даже обычным подарком
в определенных случаях. Так, купец, вступавший в XII или XIV в. в главную
новгородскую торговую гильдию («Иваньское купечество»), должен был, помимо
денежного «членского взноса», еще поднести тысяцкому «сукно ипь-ское», Т; е.
ипрское, привезенное из фландрского города Ипра (УИО, с. 161). Великий
Новгород, конечно, был в XIII – XV вв. в привилегированном положении; его
торговые связи были, пожалуй, самыми широкими. В этом отношении с ним мог
сравниться разве его «младший брат» Псков. Другие города, даже крупные торговые
центры, вероятно, не имели такого разнообразного выбора товаров, но и там были
привозные материи. Города юга и юго-востока Руси, может, быть, раньше других
получали материи восточной работы, которые в Новгород попадали уже оттуда, хотя
был и непосредственный привоз из Средней Азии, Крыма и даже далекого
Афганистана. Так, шелк привозили из Крыма, возможно, те самые «гости-сурожане»,
которые так охотно селились в XIV – XV вв. в Москве (Сыроечковский, с. 12).
Новгородские берестяные грамоты упоминают зендянь, или зендень, –
хлопчатобумажную ткань, производившуюся в сел. Зандгна неподалеку от Бухары
(Арциховский, 1970. с. 281).




Источники XVI – XVII вв. называют более двадцати
видов шелковых (камка, китайка, атлас, паволока, объярь, хамьян и др.) и
бумажных (бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатынь и др.) материй,
привозившихся в основном с Востока – из Китая, Индии, Ирана, Турции, Крыма,
Закавказья, Средней Азии. Шерстяные же материи привозились главным образом из
Западной Европы – из Англии, Франции, Италии, Фландрии, Брабанта, германских
княжеств. Упоминается свыше 30 сортов одного только сукна (аглицкое, лундыш,
французское, скорлат, фряжское, лимбарское, брабантское, ипрское, куфтерь,
брюкиш, амбургское, четское, шебединское, зуфь, греческое и др.). Как видим из
самих названий, лишь отдельные сорта шерстяных материй (например, зуфь)
ввозились из стран Востока. Художники в XI – XIII вв. изображали знатных людей
обычно в одежде из византийских, грабских и иранских тканей (Арциховский, 1948,
с. 250 – 259).
Дорогие сукна, шелка и пр. шли, конечно, на
одежду людей зажиточных, рядовые же горожане и во второй период продолжали
одеваться преимущественно в ткани местного производства, но уже далеко не
всегда в домотканину. Среди археологических находок XIII – XV вв. попадаются
даже в таких крупных городах, как Москва и Новгород, части прялок, но
количество их со временем уменьшается, а пряслица встречаются довольно редко,
притом не шиферные, а глиняные, иногда сделанные из стенки сосуда. Видимо,
прядение и ткачество еще оставались как домашние занятия (в особенности в малых
городах), но производство шерстяных и льняных материй стало уже делом
специалистов-ремесленников. Об этом говорят находки в Новгороде прекрасно
вытканных ажурных шерстяных тканей (Арциховский, 1970, с. 281) и льняных
материй особого плетения. Б. А. Колчин обратил внимание на то, что с развитием
ремесленного производства тканей производительность труда ремесленников
повысилась в основном за счет упрощения плетения нитки (Колчин, 1975, с. 34).
Л. В. Черепнин находит в новгородских берестяных грамотах указания о разделении
труда между ткачихой и белильщией, считая, что сотканные в городе холсты могли
белиться где-то в сельской местности (Черепнин, 1969, с. 264).
Беленый холст еще в древности очень широко
использовался для летней одежды. Византийский император Иоанн Цимисхий,
описывая внешность киевского князя Святослава Игоревича, не забыл сказать, что
одежда на нем была «белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты»
(Цит. по: Арциховский, 1948, с. 243 – 244). Известные замечания летописи о
простоте быта этого князя позволяют предположить в данном случае белую холщовую
одежду. Впрочем, преемники Святослава явно предпочитали более нарядное, цветное
платье (распространенное выражение русских средневековых документов и
позднейшего фольклора). Да и рядовые горожане в XIII – XV вв. носили по большей
части одежду из крашеных тканей. Из 337 обрывков тканей, взятых для анализа в
Новгороде из слоев этого времени, оказалось 262 красных (202 – киноварного и 60
– карминного цвета), 40 черных, 20 желтых, 13 зеленых, 1 синий и только 1 белый
(Арциховский, 1970, с. 282): преобладание красного цвета различных оттенков
(77% – более 3/4 общего количества) характерно в сочетании с белым для
традиционной одежды восточных славян с глубокой древности.
Красили ткани преимущественно растительными,
изредка – животными красками. Так, для изготовления красной («червленой»)
краски – червеца – употребляли насекомое кошениль, а также растения марену,
подмаренник, вайду, зверобой и др.; синюю краску делали из воды, сон-травы,
василька, черники; желтую – из крушины, дрока, листьев березы, коры диких
яблонь и ольхи; коричневые – из коры дуба, груши, шелухи лука. Изменением
концентрации и смешением красителей в разных пропорциях достигали богатства и
разнообразия оттенков (Колчин, 1970, с. 218).
При таком пристрастии к цветным одеждам
требовались специалисты' – красильщики, красильники. Недаром в Новгороде была
Красильницкая улица, где, по-видимому, жили эти мастера. Возможно, стало быть,
и такое сочетание: изготовленная дома материя отдавалась в мастерскую для
окраски. Вероятно, и мастера-ткачи сами не красили вытканных ими материй.
Нужно думать, что перечисленные выше привозные
материи были тоже различных цветов, от ярких до скромных темных. Хочется
отметить, что городские ремесленники изготовляли также материи, вероятно
специально предназначенные для сельского населения и не пользовавшиеся спросом
у горожан. Так, среди мастеров-ремесленников XVI в. находим поневников –
мастеров, ткавших нарядные поневы, хорошо известные как по курганным раскопкам,
так и по этнографическим материалам XIX-XX вв. (Чечулин, 1889, с. 329;
Левинсон-Нечаева, 1959, с. 25 – 26). Поневы упоминаются в городских источниках
исключительно как ткань, но никогда – как одежда. Само это название,
первоначально означавшее, как сказано, тонкое полотно, перенесено на клетчатую
ткань, видимо, не ранее XIV – XV вв.
Домашнее тканье материи было распространено и в
XVI в. Правда, о тканье сукна не говорится, но упоминания «сермяжного»
(по-видимому, домотканого) сукна нередки. Зато имеются прямые указания на
изготовление дома льняных и конопляных тканей. Домострой упоминает в числе
хозяйственных запасов, которые нужно иметь дома, лен и посконь (Д., ст. 55, с.
53 – 54). Он считает само собой разумеющимся, что в доме «полотен и оусчин и
холстов наделано, да на што пригоже ино окрашено на летники и на кавтаны и на
сарафаны... а будет слишком за обиходом поделано... пно и продаст ино што
надобе купит» (Д., ст. 29, с. 30). Излишки, как видим, рекомендовалось
реализовать.
Вообще крашенина – крашеная домотканая материя –
упоминается в источниках часто (как сама по себе, так и сделанные из нее вещи,
например крашенинный кафтан или кожух, крытый крашениной). Судя по приведенному
тексту Домостроя, ее зачастую делали дома, упоминание мастеров-крашенинников
(Чечулин, 1889, с. 539) говорит и о ремесленном производстве или по крайней
мере окраске материй. И позже, в XVII в., в амбаре посадского человека могло
оказаться довольно много беленого холста (23 новины), который он, как видно,
собирался красить, и запас (полпуда) синей краски (АШ № 61, с. ПО – 112).
О распространении в больших и малых городах
различных материй местного производства и привозных в конце XVI – XVII в.
имеется множество сведений. Ткани из Средней Азии, Индии и Китая (через
Сибирь), из Западной Европы (через Северное море) продавали на ярмарках в
Архангельске, Устюге, Тотьме и других городах (АЮБ II, № 142 – 1; АЮБ III, №
205; ДАИ III, № 55). Не имея возможности даже перечислить здесь все эти
материи, мы отсылаем читателя к таможенной инструкции
В других документах XVI – XVII и начала XVIII
в., происходящих из городов Шуи, Касимова, Пензы, Волхова, Ростова, Нижнего
Новгорода, находим упоминания сукна «гвоздичного цвета», киндячных женских
шубок и телогрей (АШ № 30, с. 53; АШ № 137, с. 246; АЮБ III, № 334-VII, стб.
297; 334-IX, стб. 301; 334-VIII, стб. 299) ярких цветов, а также кумачных
(видимо, красных, как и в более позднее время) женских сарафанов (АЮБ III, №
328-V, стб. 268; 360-1, стб. 429).
Но в XVII в., особенно во второй его половине,
появляется и отечественное производство высококачественных материй. Оно было
связано прежде всего с нуждами царского двора как в полотне, так и в более
дорогих тканях. Примером могут служить московские ткацкие слободы и Хамовный
двор – уже мануфактура (Якобсон, с. 25) и попытка наладить производство
шелковых тканей (Фальковский, с. 202).
Но вряд ли менее важным фактором развития
отечественного производства материи была необходимость одевать постоянное
войско – стрельцов и полки иноземного строя. В росписях припасов этих войсковых
соединений встречаются и сукно сермяжное черное и белое, и холст сотнями и
тысячами аршин (ТВорУАК V, №3040/1814, с. 433; АШ № 193, с. 344 – 345). Стрельцов
одевали в относительно дешевые сукна, но и тех не хватало. Мануфактурное
производство сукна было важной заботой правительства.
Материи высоко ценили и берегли даже зажиточные
горожане. Домострой рекомендует рачительному хозяину не только тщательно хранить
имеющиеся в доме ткани, но при шитье платья лично наблюдать за кройкой ткани «и
всякие остатки и обрески, камчатые и тафтяные, и другие и дешевые, и золотное,
и шелковое, и белое и красное, и пух и торочки, и спорки, и новые и ветшаные
все бы было прибрано мелкое в мешочках, а остатки сверчено и связано и все
разобрано по числу и оупрята-но... и сам государь или государыня смотрит и
смечает, где остатки и обрески живут, и те остатки и обрески ко всему
приложатся в домовитом деле поплатить ветчаново тово же портица или к новому
прибавить или какое ни буди починить остаток или обрезок как выручит, а в торгу
устанешь, прибираючи в то лицо в три дорога купишь, а иногда и не приберешь»
(Д., ст. 30, 31, с. 29).
В четвертый период (в XVIII – середине XIX в.)
бурными темпами стала развиваться отечественная текстильная промышленность,
основным сырьем для которой был хлопок. Однако и в этот период еще сохранили
свое значение традиционные льняные и отчасти шерстяные материи. Во всяком
случае, в городах вырабатывалось их еще много. Так, в г. Чухломе в
В нашу задачу не входит анализ производства этих
тканей, ввоза и продажи их, поскольку трудно выделить в статистических данных
этого времени сведения о потреблении их собственно горожанами. Имеются данные в
основном из архива Географического общества СССР о том, из каких материалов
шили одежду в 1840 – 1850-х годах жители 22 городов, расположенных в разных
частях Европейской России – Мезени, Усть-Сысольска, Кадникова, Туринска, Кеми,
Новгорода, Торжка, Вышнего Волочка, Пудожа, Валуек, Корчева, Нижнего Тагила,
Ир-бита, Галича, Костромы, Мензелинска, Темникова, Михайлова, Ефремова,
Новгорода-Северского, Новозыбкова, Красного Кута. Города эти преимущественно
уездные и заштатные, губернских – только два (из них сведения более ранние –
1800 – 1830-х годов). Таким образом, материалы эти относятся в основном к
рядовым жителям «уездной» России и отражают положение в местностях, куда
привозная и отечественная мануфактура попадала не в первую очередь Для Москвы и
Петербурга картина была бы совсем иной. И все же холст назван в качестве
важного материала лишь в трех городах (Пудоже, Нижнем Тагиле и
Новгороде-Северском), крашенина и набойка – в двух (Пудоже и Корчеье), пестрядь
– тоже в двух (Пудоже и Кадникове). Интересно, что в отличие от прошлых
периодов дважды упомянута в качестве одежды горожанок понева и один раз плахта.
Но если плахту носили в украинском городе Красном Куте, то понева, или понька,
бытовала вне традиционной территории южнорусского комплекса одежды – в Нижнем
Тагиле (Крупянская, Полищук, с. 129). Последний случай в особенности говорит о
привнесении в быт города традиционной одежды переселяющимся издалека сельским
населением. Как правило, такие явления долго не держались. В Пудоже (АГО 25, №
Из традиционных для русских горожан материй
сохранились в употреблении только для женских праздничных нарядов бархат
(Пудож, Вышний Волочок, Новгород-Северский), парча (Торжок, Пудож, Нижний
Тагил), штоф (Пудож, Михайлов, Новозыбков), тафта (Мезень, Нижний Тагил). Значительно
шире распространен был шелк, употреблявшийся как для женской, так и для мужской
парадной одежды. В наших источниках он назван при описании 10 городов.
Гораздо более употребительны были в первой
половине XIX в. новые фабричные материалы – фабричное сукно (в 14 городах; в
Пудоже назван казинет, в Корчеве – драдедам), нанка (в 10), ситец (в 9);
входили в употребление китайка (Усть-Сысольск, Нижний Тагил,
Новгород-Северский, Красный Кут), шерсть (Корчев, Ирбит, Ефремов, Новозыбков),
плис (Пудож, Корчев, Нижний Тагил), кисея (Кемь, Торжок, Нижний Тагил),
коленкор (Пудож, Новгород-Северский), сатин (Нижний Тагил). По-прежнему мало
распространен в городах был кумач (Мезень, Нижний Тагил) и хлопчатобумажные
ткани (Кадни-ков, Пудож, Нижний Тагил), которые ценились все еще очень дорого –
дороже шерсти и шелка (АГО 25, № 10, с. 9).
В общем рядовые горожане употребляли в середине
XIX в. для шитья одежды более двадцати различных материй. Разумеется,
приведенные сведения дают лишь приблизительную характеристику распространения
тканей, поскольку письменный источник зачастую вообще не содержит указаний на
материал одежды, а в ряде случаев указания случайны и неполны. Делать
какие-либо выводы об ареалах на их основании невозможно. Нужно думать, в частности,
что в праздничном наряде горожанок золотные и цветные шелковые ткани бытовали
значительно шире. Вместе с тем общая тенденция к сокращению их употребления и
расширению применения современных фабричных тканей выражена достаточно ясно.
Это связано также с постепенным отмиранием традиционных форм одежды и
внедрением ее общеевропейских форм, о чем пойдет речь ниже.
МЕХА
Древнейшие материалы для изготовления одежды –
шкура, мех животных – продолжали играть большую роль в течение всего рассматриваемого
нами периода. Особенно широко распространены шкуры овец – овчины. Упоминаниями
овчины, овчинных и бараньих предметов одежды как у крестьян, так и рядовых
горожан буквально пестрят письменные источники. Гораздо менее распространен
был, по-видимому, козий мех. Во всяком случае, упоминание козлиной одежды нам
встретилось всего один раз – и даже в этом единственном случае неясно, идет ли
речь о козьем мехе или о козьей шерсти («кафтан желтой козлиной, штаны козлиные
ж») (ТВорУАК, № 8182/1956, с. 527). Кажется, гораздо шире применялась козлиная
кожа, о чем еще будет речь.
Для изготовления одежды охотно использовали
также меха диких зверей (скору), особенно в лесных, богатых зверьем областях.
Однако ценность этих мехов была очень велика еще в начале периода существования
городов. Если ткани ценились дорого потому, что многие из них ввозились
издалека, то меха диких зверей ценились дорого потому, что в большом количестве
вывозились. Их получали в виде дани, охотно скупали, чтобы перепродать в другие
страны, даже у соседних охотничьих народов. Скора была доступна в основном
людям зажиточным. Уже в IX – XIII вв. в одежде русской знати мы находим
драгоценные меха соболей, бобров, куниц (Арциховский, 1948, с. 259). Берестяные
грамоты называют также меха белки, росомахи (НБГ № 2, 1953, с. 22). Пожалуй,
наиболее полный перечень мехов и меховой одежды сообщает уже приводившаяся нами
таможенная инструкция
Одежду шили мехом внутрь (в особенности
простонародье – дешевый мех), причем первоначально сверху ничем не покрывали
(отсюда и название – кожух). Бывали и очень дорогие кожухи, украшенные шитьем,
каменьями и т. п. О них еще будет речь. Со временем нагольная меховая одежда
стала считаться грубой; меховые шубы и кафтаны уже в XVI – XVII и особенно в
XVIII – XIX вв. стали крыть сверху материей.
Дорогие меха служили украшением одежды. Из них
делали воротники, шапки, причем пришивали шкурку, конечно, мехом наружу.
Достаточно сказать, что круглая шапка с собольей опушкой была атрибутом
восточнославянского князя.
В обработке этих мехов русские скорняки
достигали большого совершенства. При сшивании кусков меха, в частности,
обращали внимание на то, чтобы в куске были меха с одной и той же части туши
зверя. Были меха хребтовые, черевьи (чрево – живот), пупковые, горлатные, лапчатые,
хвостиковые. В актах начала XVI в. упомянуты «кожух на беличьих черевах» (ДДГ №
87, с. 350), «шуба пупки собольи наголо» (т. е. нагольная, мехом внутрь),
«ментеня камка на черевех лисьих» (АФЗиХ, т. II, с. 207 – 214), «кортель
хребтовой белей» (АЮ № 415, с 444 – 445), «шапки хвостовые детские» (АЮБ III, №
295, стб. 74 – 79) и т. п. Высокие шапки, в которых зачастую являлись ко двору
бояре, назывались горлатными.
В четвертый период (XVIII – середина XIX в.)
применение в одежде мехов, кажется, значительно сократилось из-за их растущей
дороговизны. Небогатые горожане носили по-прежнему зимой овчинные теплые вещи.
Наиболее распространена была овчина на Юге, где нарядными считались шкурки
определенной породы овец – смушки. Смушковые шапки здесь, как и на Украине,
носили и летом (АГО 44, № 1, с. 4).
На Севере как в материале, так и в покрое
меховой одежды было сильно влияние соседних народов. Так, в г. Мезени «зимой
все носят оленьи малицы и совики, пыжиковые шапки, в дороге – оленью обувь» (Быстрое,
1844, с. 264).
Горожане побогаче носили шубы, крытые сукном,
нанкой, китайкой, на овчине или на более дорогих мехах – заячьем, волчьем,
лисьем, даже енотовом (АГО 25, №
Однако все более распространяется в городах
зимняя одежда на вате, стеганая, крытая материей, в которой только воротник из
меха, и то не очень дорогого (например, лисьего. – АГО 25, №
КОЖА. ЛЫКО. КОРА. КОРНИ. ВОЙЛОК
Все эти материалы шли в основном на
приготовление обуви и (в меньшей степени) головных уборов, а также других
деталей костюма, например поясов и рукавиц.
Для простейшей обуви употребляли, как и в
деревне, сыромятную недубленую кожу. Но уже на первом этапе существования
русских городов, в IX – XIII вв., в них развивается производство усния – кожи.
Это характерно и для таких больших городов, как Киев, и для таких маленьких,
как Москов. Недаром одна из древнейших русских летописей – Повесть временных
лет включает рассказ о пол-легендарном герое – богатыре и полководце Яне
Усмаре, сыне киевского ремесленника-усмаря (кожевника (ПВЛ, 1с. 84).
Одним из древнейших комплексов, открытых в
Москве в слое XI в., является мастерская кожевника с зольником и дубильным
чаном, сохранившим в течение девяти веков острый запах кожи (Рабинович, 1971,
с. 82 – 83).
Кожа различных сортов шла в основном на
производство обуви. Поэтому и кожевенное производство было на первых порах не
обособленным, а кожевенно-сапожным. Отделение его от сапожного произошло уже во
второй период развития городов, в XIV – XV вв., в результате углубления
разделения труда (Рабинович, 1954, с. 87 – 90).
На изготовление кожи шли шкуры домашнего скота
(коров, лошадей, коз, овец) и диких животных (оленей и лосей) (Шестакова,
Зыбин, Богданов, с. 28 – 45). Шкуры крупного рогатого скота и лошадей шли на
изготовление юфти – кожи относительно толстой (для совсем тонкой – опойки –
употреблялись телячьи шкуры, для выделки сафьяна – хоз – козлиные).
В Древней Руси домашний скот был мелкопородным
(Цалкин, с 47 – 51), кожа получалась настолько тонкая, что подошвы обуви
приходилось сшивать из нескольких слоев. Лишь значительно позже стали
вырабатывать толстые кожи (в особенности специально для подошв).
Таможенная инструкция
Иногда кожи оставались натурального цвета, но в
большинстве случаев их красили. Наиболее распространен был черный цвет, но
парадная обувь и иные части туалета делались все же излюб-
ленного красного, а также желтого, зеленого и
белого цветов. На древнерусских изображениях обувь, как правило, цветная. О
желтых, голубых и иных цветных сафьяновых сапогах русских говорит английский
путешественник Джильс Флетчер, посетивший Россию в
В целом же потребление кожи к этому времени
сильно возросло, поскольку увеличилось число городских жителей. Большое влияние
в этом плане оказало также создание и неуклонное увеличение регулярного войска:
стрельцы и позже солдаты носили не только сапоги, но и множество кожаных ремней
различного назначения. Среди имущества стрелецкого полка еще в XVII в. указаны
четыре юфти сыромятных кож (АШ № 143, с. 345). В дальнейшем потребление
сыромятных и выделанных кож еще более увеличилось.
Мы говорили, что кожа шла в основном на
изготовление обуви. Но она не вовсе вытеснила из употребления у горожан лыко и
древесную кору. Эти материалы шли на изготовление лаптей, и хотя, как увидим ниже,
горожане резко отличали себя от «лапотников» – крестьян, все же лапти в городе
бытовали, хотя и было их в тысячи раз меньше, чем кожаной обуви.
Археологические находки лыковых лаптей в слоях до XVII в. известны даже в таких
крупных юродах, как Великий Новгород и Москва. В Новгороде найдена также шляпа
XIV в., сплетенная из сосновых корней (Арциховский, 1970, с. 286). При
раскопках городов находят также инструменты для плетения – кочедыки (Рабинович,
1959, с. 276; Колчин, Янин, 1982, с. 76). Однако никаких указаний на
специальное производство плетеных изделий или мастеров, им занимавшихся, нет.
Можно думать, что плетенные из лыка, коры и корней изделия либо изготовлялись в
самом хозяйстве по мере надобности, либо привозились в город окрестными
крестьянами. Возможны и случаи плетения изделий дома из покупного у лыкодеров
лыка (Вахрос, с. 27).
Употребление войлока в русских городах изучено
слабо. От первого периода мы не имеем сведений о нем как о материале для
изготовления одежды и обуви. Но войлочные мужские шляпы, по-видимому, древнего
происхождения. Такая шляпа найдена при раскопках г. Орешка в слое XIV – XV вв.
(Кирпичников, 1969, с. 24). Применение войлока для утепления одежды и обуви в
условиях суровой русской зимы как бы напрашивалось само собой. Есть и находка
XVI в. кожаных сапог, утепленных изнутри войлочными прокладками, о которой еще
будет речь. Войлоки упоминаются в то же примерно время в Домострое (Д., ст. 55.
с. 53). В
Определенные сведения о валяной обуви –
катанках, валенках, пимах – имеются только от первой половины XIX в. из
северных городов Кадникова, Туринска, Пудожа. Корреспондент из Кадникова (
ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ
Рубаха и штаны.
Верхнее платье.
Одежда для улицы.
Головные уборы.
Обувь.
Пояса и украшения
Рассмотрим теперь основные части русского
городского костюма. Нужно заметить, что наши источники очень бедны сведениями
собственно о конструкции, покрое одежды. Упоминания деталей покроя в письменных
источниках чрезвычайно редки, и, пожалуй, еще более редки археологические
находки одежды, которые позволяли бы судить о покрое целой вещи. От двух
древнейших периодов до нас не дошло ни одной целой вещи; от XVI – XVII вв. есть
небольшое количество реалий, от XVIII и XIX вв. их, естественно, могло бы быть
больше, но в свое время собиранию этих предметов не было уделено достаточного
внимания.
Изображений древней одежды довольно много, но
сама манера их исполнения далеко не всегда позволяет установить детали покроя с
достаточной определенностью.
В первый и второй периоды развития городов
широко применялось общее название одежды – порты. В этом значении оно
употреблено еще в договоре Олега с Византией (ПВЛ I, с. 27). И позже, по
крайней мере до XVII в., можно увидеть выражения «а что порт», «а ис порт моих»
в документах, говоривших о составе гардероба того или иного лица перед
перечислением различных предметов одежды. Портищем. назывался также кусок ткани.
Начиная с третьего периода (XVI – XVII вв.) слово «порты» постепенно теряет это
общее значение, приобретая более частное – «штаны». Другое общее название
одежды – ризы – употреблялось, по всей вероятности, только со времени принятия
христианства и обозначало преимущественно одежду господствующих классов, хотя в
церковной литературе могло означать и вообще всякую одежду (например, в
евангелии: «Имея дъве ризе да подасть неимущему»). «Облачаяся в красоту риз
своих, помяни мя, в незпраннем вретище лежаща», – писал в XIII в. Даниил
Заточник своему отцу – князю Ярославу Всеволодовичу (СДЗ, с. 65 – 66).
Слово вретище обозначало грубую ткань,
мешковину, рогожу; руб – кусок ткани (ср. «рубить», «рвать»). Оба слова
употреблялись также в значении «бедная, грубая, плохая одежда».
РУБАХА И ШТАНЫ
Основной частью костюма крестьян и горожан,
мужчин и женщин, богатых и бедных, без которой вообще не мыслилась одежда, была
рубаха или сорочка. В этих названиях исследователи видят древние общеславянские
«руб» и «срачицу» (Арциховский 1948, с. 234; Нидерлв, 1956, с. 225 – 230).
По-видимому, рубаха и была издревле главной одеждой у всех славянских племен.
Сорочка в узком смысле этого слова обозначала
собственно нательную рубаху (у бедных людей единственную, у богатых – нижнюю).
В том же смысле употреблялось иногда и слово «рубаха». Источник XII в.,
например, говорит, что богатый одет в драгоценные материи и меха, а убогий не
имеет рубахи на теле. В XIV в., описывая взятие и разграбление Торжка, летописец
употребляет тот же образ: «А жен и девиц одираху и до последние наготы рекше и
до срачицы» (ПСРЛ VIII, с. 20,
К XVI в. и мужская и женская рубашки были двух
родов – нижние и верхние. Нижняя рубашка – собственно сорочка – должна была
делаться из более легкого, тонкого материала и (что важнее) меньше украшаться,
чем верхняя. А. В. Арциховский отмечает, что на иконе
О покрое рубах горожан мы имеем лишь самые общие
сведения: неизвестно, например, носили ли когда-либо горожанки рубахи с
плечевыми вставками – «поликами», хорошо известные по позднейшей крестьянской
одежде. Немногие дошедшие до нас рубахи XVI – XVII вв. – мужские (все они
принадлежат московской знати – членам царской семьи, князьям Скопину-Шуйскому
(Кошлякова, 1986), Пожарскому), туникообразного покроя, с прямым разрезом
ворота и вышивкой на вороте, плечах и подоле. Рубахи широкие и длинные – ниже
колен. С боков вставлены клинья, под мышками – квадратные ластовицы. Описывая
покрой русской рубахи, А. Олеарий говорит, что спинка ее «подкроена в виде
треугольника» (Олеарий, с. 174), вероятно имея в виду пришитые к спинке
треугольные клинья.
Женская рубаха была длинной, закрывала иногда и
стопы ног. Изображения и описания позволяют заключить, что со временем мужские
и женские рубахи стали короче (мужские – не ниже колен; на рисунках из альбома
Мейерберга подолы женской одежды иногда открывают лодыжки ног). Олеарий писал,
что русские мужские сорочки короткие, «едва прикрывают седалище» (Олеарий, с.
174).
Ворот рубахи у горожан и крестьян всегда был
низким, так что шея оставалась голой. Таким мы видим его на всех древних
изображениях, так описывает его современник-иностранец и в конце XVI в.
(Флетчер, с. 126). Ворот рубахи, возможно, представлял собой первоначально
просто вырез в перегнутом полотнище ткани, в который проходила при надевании
голова. Разрез и застежка или завязки появились позже, но все же в первый из
намеченных нами периодов – до XIII в. В большинстве случаев это был «прямой»
разрез посредине груди, но встречались и косоворотки (Рабинович, 1986, с. 43).
Вырез ворота мог быть округлым или четырехугольным (Рикман, с. 35).
Застегивался ворот на небольшую пуговицу. Эти бронзовые пуговицы часто находят
в погребениях. По-видимому, были и пуговицы костяные и деревянные, а у богатых
– серебряные, золотые и украшенные драгоценными камнями.
Рукава рубах обычно были узкими, облегающими
кисти. Но верхние праздничные рубахи у мужчин и в особенности у женщин имели
рукава длинные, гораздо длиннее рук. На древних изображениях танцующих женщин
видно, что спущенные вниз рукава рубахи играли немалую роль в рисунке танца.
Длинный рукав мог собираться в складки и закрепляться на кисти руки обручем –
браслетом. На внутренней стороне браслетов, находимых в погребениях, иногда
видны отпечатки полотняной ткани. Сорочку шили из беленого холста, верхнюю
рубаху – обычно из материй ярких цветов. Излюбленными были, как сказано,
различные оттенки красного; на изображениях встречаются также синие, желтые,
зеленые и белые рубахи (Арциховский, 1970, с. 283).
Ворот, обшлага и подол рубахи, а иногда и плечи
украшали вышивкой или аппликацией. В XVI – XVII вв. богатые мужчины
пристегивали к вороту рубахи ожерелье – высокий стоячий воротник, украшенный
серебряным и золотым шитьем, драгоценными камнями. Д. Флетчер писал, что
ожерелье делалось шириной «в три и четыре пальца», Олеарий – что «с добрый
палец» (Флетчер, с. 125; Олеарий, с. 174). Видимо, высота воротника варьировала
довольно значительно. Мужчины носили рубаху навыпуск, с поясом, а не
заправленной в брюки, как это распространено было впоследствии у украинцев.
Древний покрой рубахи мало изменился до конца
XVII в. – и царь носил рубаху такого же покроя, как простой горожанин или
крестьянин. Разница была в материале, украшениях, количестве одновременно
надеваемых рубах.
У высших слоев городского населения русскую
рубаху в начале XVIII в. сменили «голландские» рубашки с жабо, и затем до конца
рассматриваемого нами периода в этих кругах бытовали мужские рубахи, сшитые по
тогдашней западноевропейской моде. Подобным образом изменилась и женская нижняя
рубаха.
У средних же и низших слоев городского населения
(включая крупечество) русская рубаха (несколько измененного покроя, с небольшим
стоячим воротником) удержалась, по крайней мере, до середины XIX в. (кое-где и
до XX в.). В ответах на Программу Географического общества там, где вообще
упомянута рубашка, речь идет о русской рубашке. В нашем распоряжении имеются
сведения из восьми городов – Усть-Сысольска, Кадни-кова, Пудожа, Валуек,
Михайлова, Новгорода-Северского (АГО 7, №
Отметим, что в Пудоже сохранился, как кажется,
очень древний пережиток – ворот праздничной рубахи завязывался пришитыми к ней
лентами или застегивался «у шеи слева на одну пуговицу» (АГО 25, №
Женские верхние рубахи сохранились лишь в тех
городах, где бытовала еще традиционная одежда (поскольку в «парочку» верхняя
рубашка не входила). Таких городов в середине XIX в. было немало, но описание
самих рубах дошло только из Пудожа, Нижнего Тагила, Галича и
Новгорода-Северского. В Пудоже и Нижнем Тагиле в 20 – 50-х годах XIX в.
бытовали еще белые холщовые (холщовые) рубахи, но в Пудоже к ним пришивали
короткие (до локтя) рукава из ситца, белого коленкора или кисеи, обшитые желтой
лентой, а иногда и всю рубаху шили из ситца; в Нижнем Тагиле цветные (шелковые
или ситцевые) рубахи преобладали. В Галиче белую холщовую рубаху делали с
длинными вышитыми рукавами, собранными несколько ниже локтя и обшитыми золотой
бахромой. В Новгороде-Северском в
Древнейшее название мужских штанов, по-видимому,
гачи, но было и другое – ноговицы, которое могло означать как штаны в целом,
так и наголенники. Его упоминает цитированное нами выше письмо митрополита
Киприана (
Древнерусские штаны были узкими, с нешироким
шагом и поясом на вздежке – гашнике; носили их заправленными в сапоги или онучи
(при лаптях), поэтому мы не знаем, насколько ниже колен были штаны. На всех
изображениях они облегают ногу.
В этом смысле русские штаны были ближе к
западноевропейским и отличались от широких восточных шальвар. По-видимому, по
крайней мере с третьего периода (XVI – XVII вв.), порты, как и рубахи, бывали
нижние и верхние. Во всяком случае, в описях приданого XVII в., как мы видели,
порты и рубахи упоминаются вместе (например, «10 сорочек мужских с портами»)
(АЮБ III № 334 – VI, стб. 295), в едином комплекте так называемых «мыленных
даров», которые еще в XVI в. тесть посылал зятю к выходу из бани после брачной
ночи (ДЗ, ст. 47, с. 186). Нижние порты должны были быть из тонкой материи –
холщовые или шелковые, верхние – из более плотных цветных материй – сукна (от
одного из сортов суконной материи – брюкиш – происходит позднейшее название
брюки), а иногда шелка, бархата, даже золотных материй, позднее – плиса и из
козьей шерсти или меха. Верхние штаны могли украшаться разного рода
декоративной аппликацией или накладными деталями. Так. в духовной князя Ю. А.
Оболенского (1547 – 1565 гг.) упомянуты «ногавицы, кушаки цветные, наколенки
шиты» (АФЗиХ II, с. 207 – 214). Среди украденного у посадского человека
Васильева в г. Шуе были «трое портки с тачки» (АШ № 61, с. 112), т.е., видимо,
с какими-то аппликациями. В документах XVII в. названы «штаны сукно багрецовое»
(АЮБ III, № 328-V, стб. 268), «штаны червчатые суконные» (АМГ III, № 627, с.
524), возможно привезенные для продажи. Как видим, и штаны любили носить
красные. Нарядные верхние штаны стоили довольно дорого, хотя и дешевле,
например, кафтана. Так, в середине XVII в. в Новгородской земле штаны были
оценены в 40 алтын, епанча – только в 26 алтын 40 денег, а полукафтанье – в 3
р. 50 к. (т. е. почти 120 алтын) (АЮБ II, № 129-IV, стб. 94). Но были,
разумеется, и совсем не нарядные верхние штаны из грубой материи. Так, в
В первые три периода развития городов (до конца
XVII в.) штаны горожан по покрою не отличались от крестьянских и, по-видимому,
не имели карманов; все нужные мелкие вещи горожанин носил на поясе, привешенными
непосредственно к ремню, или в специальной сумке – калите.
В четвертый же период (XVIII – XIX вв.) верхи
городского общества (в первую очередь дворяне) стали носить панталоны
западноевропейского образца – сначала короткие, с чулками и башмаками, потом
длинные, навыпуск. Но простонародье в XVIII в. и купечество держалось старых
традиций. При описании одежды в ответах на Программу Географического общества
обычно о штанах не говорится, упоминать эту часть туалета не было принято. Лишь
по некоторым косвенным данным (например, в песне, записанной в середине XIX в.
в г. Кеми, говорится, что щеголь небрежно «в карман руки покладывает») можно
предположить, что штаны были уже с карманами, но такие карманы были еще модной
новинкой; корреспондент из г. Пудожа даже писал, что горожане «брюков вообще не
держат», но, видимо, он хотел сказать, что не носят модных в середине XIX в.
брюк навыпуск, так как всего страницей ниже описал «брюки под рубаху, в
голенищах короткие», т. е. такие, какие носили и в древности. Далее он указал,
что брюки носили нанковые (АГО 25, №
ВЕРХНЕЕ ПЛАТЬЕ
Рубаха, штаны, ноговицы и обувь с онучами или
копытцами-чулками зачастую составляли в первый период единственную одежду
бедных горожан: в ней бывали дома, а в теплую погоду и выходили на улицу. У
женщин эта одежда дополнялась куском клетчатой ткани, который надевали поверх
рубахи на бедра. Позднее в деревнях эта одежда получила название понёвы. В
городах она существовала, как увидим ниже, недолго, и мы не знаем даже ее
названия, поскольку понявой в то время называлось самое тонкое полотно. В таких
одеждах изображены пляшущие женщины на русальских браслетах XII в. (Рис. 13 –
2). Полы набедренной одежды спереди расходятся, оставляя открытым вышитый подол
рубахи. Остальная верхняя одежда, как и позже, была нередко одинаковой у женщин
и у мужчин.
Для начальных периодов развития городов сведений
о верхней одежде горожан немного. Из древних письменных источников, пожалуй,
наиболее подробно говорит о мужской одежде знаменитое «Путешествие Ибн-Фадлана
на Волгу». Описывая погребение знатного славянина в г. Болгаре, Ибн-Фадлан
отмечает, Что умерший был зарыт во временную могилу в одном «изоре» (т. е.,
по-видимому, только в штанах, даже без рубахи), пока для него шили роскошные
одежды. В день сожжения покойника одели в эти парчовые одежды, из которых автор
называет куртку и хафтан. Судя по тому, что куртка была «с пуговицами из
золота» (Ибн-Фадлан, с. 80), это была распашная одежда (как позднейшие зипуны),
на которую надевался кафтан. Таким образом, уже в этом описании, сделанном
иностранцем, привыкшим к совсем другой одежде и, видимо, употребившим привычные
ему названия, намечены два вида одежды знатного человека: узкая куртка и
надеваемый на нее кафтан. Само это название в ту пору на Руси еще не было
принято. В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Феодосии
печерский надевал на власяницу свиту вотоляну (Пат., с. 9). В. И. Даль
производит само это название от глагола «свивать» в значении «одевать»,
«кутать» (Даль, IV, с. 151. Ср. западнославянское «облек», «облекло»). Свиту
как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская
берестяная грамота XIII в., к которой мы еще будем обращаться (НБГ, № 141, с.
17 – 19). Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, у нас нет
оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в
позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных
сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной –
примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и
обшлага. Она могла быть глухой и распашной с красивыми застежками. Полы и
обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась
приполок, а на рукавах – опястье (Арциховский, 1948, с. 247). Распашная свита
оставалась, по-видимому, основной верхней одеждой рядовых горожан и во второй
период (XIII – XV вв.). Возможно, в свите, а не в рубахе, как думает А. В.
Арциховский (1970, с. 291), изобразил себя знаменитый новгородский
мастер-литейщик Аврам на Сигтунских вратах Софийского собора. На изображении
(см. рис. 12) виден разрез одежды спереди. Нужно думать, что подобные одежды,
но со множеством петель и пуговиц носили и высшие слои городского населения. В
них одеты, например, молящиеся новгородские бояре на иконе XV в. (см. цв.
вклейку). Нарядные свиты шили из дорогих тканей и богато украшали (АЮБ III, №
304, стб. 287).Таким образом, свита была в древности распространена на юге и на
севере Руси, и простая одежда этого типа была, возможно, народным вариантом
аналогичной, но более роскошной одежды знати. Свита, свитка упоминается как
одежда горожан и позже, вплоть до середины XIX в., но на протяжении второго –
четвертого периодов она становится более характерной для крестьянской одежды.
Известная позднее у великорусов и (преимущественно) у украинцев свита – это
распашная одежда из плотной ткани, надеваемая поверх рубахи и подпоясываемая
поясом. Она могла быть домашней праздничной или уличной летней (в холодное
время года на нее надевали еще сермягу или кожух).
В третий период распространяется облегающая короткая
верхняя одежда – зипун. В письменных источниках XVI – XVII вв. зипун
упоминается чаще, чем свита, причем видно, что были как роскошные, так и
простые, грубые зипуны. Гак, Флетчер, описывая одежду русских, упоминает «зипун
шелковый до колен» (флетчер, с. 125). В
Заметим в заключение, что оба названия – и
зипун, и кафтан – тюркские и в Россию могли попасть от турок и от татар.
Кафтан был верхней одеждой мужчин и (реже)
женщин, комнатной и легкой уличной, а иногда – и зимней («кафтан шубный»). В
зависимости от назначения и моды кафтан шили длиннее или короче (до колен или
до лодыжек), свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей
материи, на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, причем
правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8 – 12 пуговиц
(или завязок). Трудно сказать, когда именно появился и как распространился на
Руси кафтан. Упомянутый нами арабский путешественник X в. называет хафтаном
роскошную парчовую верхнюю одежду (переводчик подчеркнул, что это не
тюрко-татарский кафтан). Русские же источники до XV в. не знают названия
«кафтан». Тем более важно, что в XVI – XVII вв. оно распространяется на очень
широкий круг одежд, так что понадобились дополнительные обозначения – русский,
турский, польский, венгерский, становой, терлик, емурлук и т. д! (Савваитов, с.
52-54; Левинсон-Нечаева, 1954, с. 309-328; Гиляровская, 1945, с. 69 – 72), указывающие
на детали покроя и отделки, связанные с модой. Так, турский кафтан был длинным,
свободного покроя, застегивался только у шеи, рукава имел длинные, иногда
откидные. Становой кафтан в конце XVII в. был тоже довольно длинный, с широкими
рукавами, но скроен в талию (охватывал стан), а внизу – с косыми клиньями;
русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, так что
образовывались фалды; польский и венгерский кафтаны отличались преимущественно
покроем рукавов, богатством украшений и нашивок; терлик был довольно коротким,
с перехватом в талии (или даже отрезной, со сборами) и имел застежку в виде
лифа с клапаном на груди возможно, надевался через голову); емурлук-епанча, как
и кебеняк (кибеняк, укр. кобе-няк. – Савваитов, с. 54 – 55), был, собственно,
суконным или даже войлочным плащом-дождевиком – длинным, с прямыми длинными
рукавами и небольшими сборами на боках. Иногда емур-лук пропитывался жиром
(«емурлук олифленый»).
Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они
приоткрывали сапоги и не мешали шагу – спереди несколько короче, чем сзади.
Воротник был небольшой, стоячий (иногда пристяжной – «козырь») или совсем
отсутствовал; тогда было видно богато украшенное ожерелье – пристяжной воротник
рубахи или зипуна. Рукава, если они не были откидными, украшались запястьями –
богато орнаментированными манжетами, борт – петлицами, кружевом. Источники
называют кафтаны из дорогих материй – атласные, бархатные, байберековые,
камчатные, объяринные, тафтяные, зуфные, суконные, мухояровые, а также и более
скромные: крашенинные, сермяжные, бараньи, козлиные (по большей части у
простонародья). Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже в XVI в.
в русских городах были специалисты-портные – кафтанники (Чечулин, 1889, с.
339).
Нужно сказать, что кафтаном называлось и вообще
всякое верхнее платье, а позднее, когда усилилось влияние западноевропейского
костюма, соответствующая «немецкая» одежда – жюстокор – стала называться
кафтаном, а надеваемая под нее аналогичная зипуну веста – камзолом. Короткий, в
талию кафтан назывался иногда полукафтаньем. Эта разница между длинным,
долгорукавным кафтаном и короткополой нижней одеждой – зипуном или камзолом –
отчетливо обозначалась еще в XIX в., как явствует из известной басни И. А.
Крылова «Тришкин кафтан» (Крылов, с. 105). В зажиточном хозяйстве было помногу
кафтанов. Так, среди имущества князя Ю. А. Оболенского в середине XVI в.
названы пять кафтанов: «Кафтан на пупках собольих, кушаки цветные с золотом,
пуговиц 9, кафтан желт на бельих черевях, – кафтан камка... косой ворот,
подложен тафтою, кафтан турской 10 пуговиц серебряных... кафтан косой ворот...»
(АФЗиХ III, с. 207 – 214). В конце XVII в. в описи одного богатого приданого
(г. Ростов) перечислены десять кафтанов – камчатый на лисицах, турский с
золотой нашивкой, атласный зеленый холодный, байберековый шелковый, остальные
попроще – два новых бараньих, два суконных, два кумачовых теплых «детинных»
(АЮБ III, № 328, стб. 267-269). Интересно, что в приданое давались и детские
кафтаны, правда не особенно богатые.
Из предметов одежды, близких по назначению к
кафтану, следует назвать сарафан – длинную нарядную мужскую одежду XIV – XVI
вв. (ПСРЛ, XI, с. 27), а для XVI – XVII вв. – кабат – теплую одежду с длинными
рукавами. Кабат носили только дома и шили поэтому из скромных материй
(Левинсон-Нечаева, 1957, с. 309). В XVI в. в придворной среде появилась
специальная одежда для верховой езды – чуга, похожая на кафтан, но с перехватом
в талии. Эту одежду можно сопоставить с кавказской чохой – первоначально
городской одеждой, распространившейся, как думают исследователи, повсеместно у
многих народов Северного Кавказа и Закавказья (Студенецкая, с. 261, 263).
Проникновение ее на территорию Московского государства объясняется,
по-видимому, оживлением политических и культурных связей с Северным Кавказом,
когда царь Иван IV женился на княжне Марии Темрюковне.
Не вполне ясной по своим функциям представляется
часто упоминаемая в источниках того времени среди предметов одежды ферязь. Чаще
всего это была длинная (почти до лодыжек) свободная верхняя одежда с длинными,
суживающимися к запястьям рукавами, распашная, застегивавшаяся на три-десять
пуговиц или завязок, украшенная длинными нашивными петлями. Ферязь могла быть
холодной – на подкладке или теплой – на меху. Судя по тексту источников, ферязь
иногда накидывалась поверх кафтана, чуги или полукафтанья, как плащ (бывали
ферязи и без рукавов), иногда же надевалась под кафтан, как зипун (Савваитов,
с. 157; Гиляровская, с. 41). Возможно, турецкое слово «ферязь» (ферадже,
фередже), обозначавшее у турок мужское и женское длинное платье с широкими
рукавами, служило названием для нескольких одежд, различавшихся по покрою и
функциям. В. О. Ключевский считал, что если у зажиточных людей ферязь
надевалась на кафтан, то у простонародья – на рубаху. Дворянин, выходя на
улицу, надевал поверх ферязи еще охабень (Ключевский, с. 172).
И кафтан, и зипун, и свита упоминаются изредка и
среди одежды горожан середины XIX в.: кафтан – -почти повсеместно, зипун – на Севере
(в Усть-Сысольске и Вышнем Волочке), свитка – на Юге (в Ефремове и
Краснокутске). Иногда видно, что значение этих названий в разных городах
неодинаково. Так, в Усть-Сысольске зипун был шерстяным, коротким, коричневым, а
в Вышнем Волочке зипуном называли широкий армяк, т. е., вероятно, длинную
одежду. В Краснокутске свитка была короткой, а в Ефремове, очевидно, длинной –
«вроде шинели без капюшона». Можно предположить, что в XIX в. оба эти вида
одежды все более приобретали значение уличной, а непосредственно на рубаху
стали надевать жилет.
Жилет представляет, с нашей точки зрения, особый
интерес для изучения русской одежды. Дело в том, что эта часть «европейского»
костюма позже получила широкое распространение у русских как в городе, так и в
деревне. По нашему мнению, причиной такого быстрого и широкого распространения
жилета была его чрезвычайная схожесть с древней славянской короткой безрукавной
одеждой – кептарем, удержавшимся у украинцев почти до наших дней. Но у русских,
насколько нам известно, безрукавной мужской одежды в древности не было. И
распространение жилета началось в XIX в., кажется, с тех областей, которые были
ближе к украинцам и западным славянам. В середине XIX в. жилет еще не
распространился широко. Он упоминается в материалах Географического общества в
шести городах: Нов-городе-Северском, Сураже, Ядрине, Пудоже и Боровске (АГО, №
Домашнее платье долго еще оставалось таким же,
каким было до Петра. Реформа одежды коснулась в основном городской верхушки – господствующих
классов, которые стали носить форменную одежду западноевропейского образца.
Принятая тогда в Западной Европе французская мода предписывала ношение
мужчинами короткой и узкой облегающей одежды – весты, на которую надевался
широкий и длинный жюстокор, украшенный отворотами воротника, фалд, обшлагов, со
множеством красивых пуговиц. В России эти две одежды более известны под
названием «камзол» и «кафтан». В конце XVIII в. в Петербурге все служащие
(кроме военных и почтовых, имевших свои мундиры), а также «именитые граждане» и
«знатные мещане» носили мундир Санкт-Петербургской губернии – светло-синий
кафтан с блестящими пуговицами (Георги, с. 604) в то время как простонародье
одевалось еще в старинное русское верхнее платье.
Среди высших слоев горожан распространилась мода
и на гражданское западноевропейское верхнее платье – фраки с открытой грудью и
узкими фалдами сзади. Эта одежда преследовалась при Павле, увидевшем в ней
признак сочувствия революционной Франции. Побывавший в
В середине XIX в. корреспонденты Географического
общества отмечали, что городская верхушка («благородные») если не носила
мундиров, то одевалась согласно последней (по их понятиям) западноевропейской
моде, законодателем которой по-прежнему был Париж.
Мы уже говорили, что использованные нами
источники упоминают поневу лишь изредка, и то как материал, но никогда – как
одежду. Однако на древних изображениях поневу можно различить (Рыбаков, 1967,
с. 97 – 99). Думается, что понева, так широко распространенная среди сельского
населения Древней Руси, обязательно должна была существовать и среди горожанок
на первом этапе развития городов, рост которых, как не раз уже говорилось, шел
преимущественно за счет сельского населения. Но по каким-то причинам эта одежда
в городах не удержалась, быстро и бесследно исчезла. И городские
ремесленники-поневники обслуживали в основном сельское население. Как мог идти
процесс исчезновения поневы в городах, позволяет представить интересное
наблюдение В. Ю. Крупянской, относящееся к гораздо более позднему периоду.
Женщина, вывезенная в молодой еще тогда город Нижний Тагил в 1820-х годах из
Тульской губ. (где, заметим, в XIX в. были распространены и сарафан и понева –
ИЭАР, карта 40), и в Тагиле носила традиционный южнорусский костюм, в том числе
поньку (по описанию это была понева с прошвой), но эта одежда не удержалась, и
позже женщины-тулянки в Нижнем Тагиле носили сарафаны (Крупянская, Полищук, с.
120).
У феодалов и, вероятно, у верхушки городского
населения в IX – XIII вв. женской одеждой, надеваемой поверх рубахи, было
платье (древнее название этой одежды неизвестно) из дорогих материй ярких
цветов. Платье, как и рубаха, было, судя по изображениям, узким, облегающим
фигуру, и подпоясывалось цветным поясом.
Трудно сказать, когда в точности появилась такая
в дальнейшем распространенная женская одежда, надеваемая поверх рубахи, как
сарафан. Особые затруднения создаются еще тем, что сам этот (не русский) термин
первоначально относился в русских источниках XIV в., как уже сказано, к мужской
одежде и в дальнейшем сосуществовал с несколькими другими терминами,
обозначавшими один и тот же тип одежды. В документах XV в. сарафан не
упоминается. Но начиная с XVI в. таких упоминаний много. В первом из них –
духовной князя Ю.А.Оболенского (1547 – 1565 гг.) – среди мужской одежды –
кафтанов и терликов – находим «сарафанец шелк желт... на нем 23 пуговицы
обвираны золоты да серебряны» (АФЗиХ II, с. 207 – 214). В том же завещании
названо много женской одежды, но среди нее сарафан (или сарафанец) не
встречается. Нет такого названия и ни в одной из духовных грамот удельных и
великих князей XIV – XVI вв. Вместе с тем известна женская накладная одежда
того же времени, называвшаяся ферязь, сукман, шубка (Куфтин, с. ПО – 120).
Впоследствии эти и другие термины (шушун, костолан, носов) сосуществовали с
термином «сарафан», служа названиями женской комнатной одежды, которую носили
поверх рубашки. Термин «сарафан» для мужской одежды во второй половине XVII в.
не употреблялся. Таким образом, очевидно, что сарафаном стали называть женскую
одежду, существовавшую ранее, а вероятно и какие-то новые виды ее, созданные в
городах под влиянием одежды зажиточных классов и служилых людей и оттуда
распространившиеся в деревню (Куфтин, с. ПО – 115, Маслова, с. 642 – 643).
Предположения Б. А. Куфтина о том, что одежда, позже названная сарафаном, могла
развиться из первоначального комплекса женской одежды с поневой (из набедренной
одежды, получившей лиф и лямки, или из наплечной одежды, удлинившейся, а иногда
и утратившей рукава), что изменения эти могли начаться еще в период освоения
славянами северных областей позднейшей России и протекать под влиянием одежды южно-
и западнославянских, летто-литовских, финно-угорских, скандинавских и даже
(опосредствованно) западноевропейских народов, например населения Франции
(Куфтин, с. 113, 117), представляются обоснованными, но, оставаясь в пределах
наших источников, нельзя этих предположений ни подтвердить, ни опровергнуть,
поскольку в нашем распоряжении нет подлинных вещей XIII – XVI вв. или
достоверных изображений их, на которых был бы ясно виден покрой.
В Домострое сарафан упоминается несколько раз
(Д., ст. 30 – 39; ДЗ, ст. 67), причем в свадебном чине это именно женская
одежда. В дальнейшем в течение XVI и XVII вв. число упоминаний сарафана
постепенно увеличивается, а в XVIII – XIX вв. сарафан повсеместно был основной
одеждой русских горожанок как на севере, так и на юге России. Однако картина
распространения этой одежды неясна прежде всего потому, что сам термин
распространялся медленнее, чем обозначаемая им одежда. Думается, что
упоминаемые источниками женские шубы и шубки, в особенности последние, были
одеждой того же типа, что сарафан. Название «шубка» сохранилось за сарафанами
еще и в XIX в. во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской и
многих других губерниях (ИЭАР, карта 43). В начале XVI в. в упомянутой нами
духовной грамоте княгини Юлиании Волоцкой названо три теплых шубы на различных
дорогих мехах и семь шуб без меха, сделанных из разных шерстяных материй.
Таково же примерно соотношение и в духовной князя Оболенского – одна меховая
шуба и четыре шубки без меха. В начале XVI в. в одном завещании упомянута
«шубка женская зелена»; такая же зимняя суконная – «брюкишна» – шубка была
заложена в
Несколько раз встречено в документах еще одно из
названий сарафана – саян: в г. Егорьевске в
Из наших источников видно, что сарафаном, или
шубкой (оба термина, по мнению исследователей, восточного происхождения),
называлась женская комнатная одежда в виде цельного платья (с рукавами или чаще
без рукавов) или высокой юбки на лямках, накладная (надеваемая через голову)
или распашная (застегивавшаяся спереди на пуговицы, иногда очень красивые и
дорогие). Из-под сарафана могли быть видны расшитые ворот, рукава и подол
верхней рубахи – спидницы.
Сарафан шили в большинстве случаев из красивых
цветных материй (простейшие – из крашенины, богатые – из дорогих привозных
тканей). Украшали их галуном, кружевом, драгоценными пуговицами (по подсчетам
П. Савваитова, сарафан мог иметь 13 – 15 пуговиц – Савваитов, с. 179), реже – вышивкой
(Маслова, 1978, с. 16). Источники упоминают, например, «шубку женскую холодную,
атлас красный, круживо кованое золотное» (АЮБ, II, № 126 – XV, стб. 20).
«Кунтыш камчатный, круживо золото и серебряно, огонки бобровые» – так
обозначает роспись приданого XVII в. богатый, отороченный мехом сарафан (АЮБ,
III, № 328 – IV, стб. 266 – 267). В другой подобной же росписи упомянуты два
сарафана – дорогой «шушун сукна красного с нарядом» и гораздо более дешевый
«крашенинник с нарядом» (АГО I, on. 1, №
В XVIII в. продолжалось широкое распространение
сарафана в городах и проникновение его в деревню. Во всяком случае, на рисунках
XVIII – начала XIX в. горожанки изображены в летнее время почти всегда в
сарафанах, и не только на лубочных листках, но и на картинах академических
русских и иностранных художников (Комелова, рис. 3, 8, 11, 15, 21, 27 и др.).
В середине XIX в. сарафан был наиболее
распространенной традиционной одеждой горожанок во всей Европейской России, но
наряду с ним появилась одежда нового типа, которая начала вытеснять
«сарафанный» комплекс одежды.
Корреспонденты Географического общества из
Кадникова, Вышнего Волочка, Михайлова специально оговаривали, что сарафан и
вообще традиционную для того времени одежду носят преимущественно пожилые или
бедные, молодые же «с осторожностью подражают моде». А мода тогдашняя для
горожанок среднего достатка заключалась в ношении парочки – юбки и кофты,
преимущественно из ситца, реже – кисейных. Так одевались, например, в Мезени,
Валуйках, Дедюхине, Мензелинске. В некоторых городах (Торжке, Пудоже, Корчеве,
Ирбите, Мензелинске, Новгороде-Северском) носили уже и платья – из кисеи, ситца
и других фабричных материй. Корреспондент Географического общества писал из
Вышнего Волочка, что «только самые бедные девицы и пожилые женщины носят
древнюю русскую одежду, большинство же одевается по самой последней моде». Но
эта «последняя» мода в малых городах обычно значительно отставала от больших
городов, и, наверное, более прав был корреспондент из г. Ефремова, когда писал,
что это мода прошлого года, а то и еще более давняя (АГО 41, №
На примере распространения сарафана мы можем проследить
влияние города на окрестное сельское население. В деревню сарафан проникал
медленно и преимущественно в северных губерниях. На всю территорию Европейской
России эта одежда так и не распространилась, хотя тенденция к тому наблюдается
ясно. В середине и второй половине XIX в. поднимается как бы вторая волна
заимствования городской моды, и за несколько десятков лет все виды традиционной
одежды (в том числе и ставший уже традиционным сарафан) вытесняются парочкой –
одеждой нового городского типа (ИЭАР, карты 38, 39).
В некоторых городах комплект женской одежды с
сарафаном удержался до последних десятилетий XIX в. В
Наконец, женской комнатной и отчасти уличной
одеждой в конце рассматриваемого нами периода становится юбка, делавшаяся из
красивых, богато орнаментированных материй. В росписи богатого приданого конца
XVII в. значится «юбка тафтяная зеленая, юбка стаметная новая зеленая, юбка с
бустрогом носильная выбойчатая» (АЮБ III, № 328-IV, стб. 266-267). Последняя,
очевидно, служила повседневной одеждой и была сшита не из шелка, а из
обыкновенной набивной ткани – выбойки. П. Савваитов считал, что упоминаемый в
источниках «саян» мог быть не только распашным сарафаном, но и юбкой, которая
придерживалась проймами или помочами (Савваитов, с. 125). В этом случае ясно
проступает генетическая близость сарафана и юбки.
Плечевой одеждой горожанки была душегрея –
короткая (по большей части без рукавов) распашная кофта, собранная сзади во
множество сборок, охватывающих талию пышным кольцом (Гиляровская, с. 43).
В Пудоже в XIX в. душегрейка шилась из штофа или
из той же материи, что и сарафан, и имела сзади 18 – 20 «зборов» (АГО, 25, №
Вариантом душегреи был появившийся в XVII в.
бострог (бустрог) – безрукавка со сборами, которую шили обычно из недорогих
материй (например, выбойки) и носили, судя по упоминаниям в источниках, не с
сарафаном, а с юбкой. Подобно сарафану, бострог был первоначально мужской
одеждой вроде куртки из сукна или даже парчи, с рукавами и нарядными пуговицами
(СРЯ I, с. 302). В мужской одежде это название не удержалось, а женская юбка с
бострогом, превратившимся в кофту с рукавами (ОРК XVIII в., с. 354 – 355),
развилась в «парочку», о которой уже говорилось.
Другая верхняя женская одежда, о которой уже
сказано, называлась телогрея. Она также надевалась поверх сарафана и была
похожа на него по покрою, но имела длинные, сужавшиеся к кисти рукава, иногда
откидные. Телогрея была распашной, застегивалась на множество пуговиц (от 14 до
24-х). Шили ее из шелковых материй, на шелковой же подкладке или на меху.
Телогрея была распространена уже в середине XVI в. Во всяком случае, А.
Курбский упрекал царя Ивана Грозного в том, что тот, вместо того чтобы отвечать
по существу, смешивает важное и бытовые подробности, пишет «о постелях, о
телогреях» (ПКГ, с. 115). Эта одежда бывала очень нарядной. «Телогрея куфтя-ная
камчатная цветная, ал шолк да жолт, кружево кованое золотое, пуговицы серебряны
позолочены», – читаем в описи приданого, перечисляющей и еще три столь же
роскошные телогреи червчатого и алого (т. е. различных оттенков красного) цвета
(АШ, № 103, с. 125 – 188). Но в целом телогрея встречается в документах XVII в.
не часто, реже, чем другие предметы женской одежды. Богатая телогрея,
украшенная золотным кружевом «с городами», могла стоить даже дороже шубы – 35
р. 11 а. 4 д., телогреи попроще стоили в конце XVII в. 8 – 9 р. (АЮБ, III, №
336 – VI, стб. 313 – 314). Иногда телогреи подбивались мехом. У простонародья
телогрею, видимо, заменяла более простая короткая одежда – шушун, упоминаемая в
середине XIX в. Самым южным из русских городов, где носили в середине XIX в.
телогрею, был Новозыбков. Здесь она называлась холодник, была длиной по пояс и
имела длинные рукава (АГО 46, №
ОДЕЖДА ДЛЯ УЛИЦЫ
Простейшей верхней одеждой, в которой выходили
из дому, у русских, как, пожалуй, и у всех народов мира, была плащевидная –
накидываемые на плечи куски ткани или меха без рукавов. В древности плащевидная
одежда отличалась разнообразием и применялась всеми слоями населения. Но
каждому сословию были присущи свои формы плащей, различные по покрою и
материалу.
Наиболее распространена в первый период была
вотола, ила волота, – кусок толстой льняной или посконной материи,
накидывавшийся на плечи поверх свиты в сырую и холодную погоду (Поппэ, с. 151).
И сама материя тоже называлась «вотола» (можно было сказать «свита вотоляна»).
Вотолу носило простонародье – крестьяне и небогатые горожане. Упоминания ее
относятся преимущественно к XI – XIV вв. В XIV в. вотола, как видно, не
считалась одеждой, в которой прилично пойти, например, на такой важный
церковный обряд, как причастие. Во всяком случае, московский митрополит Киприан
не рекомендоаал приходить к причастию «в волотах» (РИБ VI, с. 242).
Вотола упоминается изредка и во второй период,
но в числе дорогих одежд феодальной знати (вотола «сажена», т. е. украшена
драгоценными каменьями) (ДДГ, № 12, с. 36). И если можно было украсить яркой
золотной вышивкой и жемчугом нагольный меховой кафтан – «кожух» (о чем речь
будет ниже), то вряд ли дорогое шитье и каменья могли украшать одежду из
грубошерстной ткани. Видимо, речь идет о покрое плаща, напоминающем
простонародную вотолу, а не о «вотоляной» одежде в собственном смысле слова*.
Вотола застегивалась или завязывалась у шеи;
длина ее была до колен или до икр. Возможно, что вотола имела еще и капюшон
(Поппэ, с. 138, 152; СРЯ III, с. 73) (сравни рис. 12, I).
Другой формой безрукавного плаща был мятль, упоминаемый
в источниках XII – XIII вв. Мятль носили не только русские, но и поляки
(Срезневский, II, стб. 259 – 260). Это была одежда простых людей, но довольно
добротная, о чем говорит высокий штраф – три гривны, полагавшийся в том случае,
если в драке будет разорван мятль. Покрой этого вида плащей неясен, цвет
упомянут только один раз – черный. Такие формы плаща, как киса и в особенности
коць, употреблялись преимущественно в княжеско-боярской среде (Срезневский, I,
стб. 305; Рорре, s. 16 – 17). Покрой их также неизвестен. А. В. Арциховский
считает, что именно коць распространился в Западной Европе под названием
«славоника» (Арциховский, 1948, с. 252).
Длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом
плече драгоценной пряжкой плащ – корзно («кързно», «корьзно») – носили,
кажется, только князья. Во всяком случае, все упоминания корзна в письменных
источниках связаны с князьями. Корзно, как самая раскошная одежда,
противопоставляется в церковной литературе бедной власянице. Многочисленны
изображения корзна на иконах, фресках, миниатюрах. Это всегда очень красивые
плащи из ярких византийских материй, иногда с меховой опушкой. У человека,
одетого в корзно, свободна правая рука, а левая покрыта плащом, из-за чего
такие плащи, как корзно или коць, вряд ли были удобной одеждой, да и вообще
длиннополый плащ в обыденной жизни, вероятно, не давал нужной свободы движений.
В особенности это можно сказать о жизни военной. Если в походе длинный плащ
имел известные преимущества, закрывая ноги конного, то в сражении, которое в
эпоху феодализма по большей части представляло собой рукопашную схватку, он мог
только мешать. Вероятно, поэтому знатные и богатые воины поверх брони надевали
плащи, также красивые, богато украшенные, но несколько иного покроя. Можно
думать, что в Северной Европе был, по крайней мере с X – XI вв., распространен
более короткий плащ, называвшийся луда или оплечье (ПВЛ I, с. 100; Рабинович,
1947, с. 95). Летописец не без иронии описывает варяжского конунга Якуна,
носившего
_________________
* Комментатор ДДГ определяет ьотолу как «простую
верхнюю одежду» (ДДГ, с. 512).
_________________
в бою «истканную златом» луду, которую, однако,
пришлось бросить, спасаясь от русских войск. Шитые золотом оплечья новгородских
богатеев упоминал в
В XIV в. встречается новое название богато
украшенного боевого плаща – приволока. Московский великий князь Дмитрий
Иванович перед славной Куликовской битвой передал все знаки, отличавшие его как
военачальника, своему оруженосцу – рынде Михаилу Андреевичу Бренку «и приволоку
свою царскую возложил на него» (ПКБ, с. 66). Приволока как нарядный плащ
знатного воина упоминается изредка и в XVI – XVII вв. «Приволока камчата жолта
с горностаем» была в числе вещей князя Никиты Александровича Ростовского,
скончавшегося в
В качестве парадной одежды длинный плащ
сохранялся у зажиточных горожан еще в XV в. На иконе
В XVIII – XIX вв. плащевидная одежда вновь
получает некоторое распространение, но только у господствующих классов,
преимущественно у военных. Здесь явно влияние западноевропейской моды в военной
форме. Распространяются безрукавные плащи и (у некоторых конных) короткая,
накидываемая на одно плечо парадная форменная одежда с рукавами, например
ментики у гусар (по происхождению своему венгерские).
В первый период развития городов, кажется, не
так разнообразна была верхняя теплая одежда с рукавами. Чаще всего упоминается
кожух. Само название говорит, что это была одежда из кожи, шкуры животного
мехом внутрь. Мало у кого из горожан не было овчинного кожуха или, как его
позже стали называть, тулупа. Рядовые горожане, как и крестьяне, одевались в
нагольные кожухи или более короткие полушубки (это название тоже позднее). Люди
побогаче – городская верхушка, феодалы – шили роскошные кожухи, покрытые
золотной византийской материей, обшитые кружевами, украшенные каменьями. В
В последующие же периоды горожане носили на
улице разнообразную верхнюю одежду в зависимости от погоды, времени года и
достатка владельца. Аналогично современной можно выделить летнюю, осеннюю (или,
как мы бы сказали сейчас, «демисезонную») и зимнюю верхнюю одежду, хотя, как
увидим, разница между сезонными видами одежды была не так ясно различима, как
социальная. К летней, осенней или осенне-весенней мы отнесем условно верхнюю
одежду из легких или более плотных тканей, но не на меху.
Излюбленной выходной одеждой для не слишком
холодной погоды, носимой мужчинами и женщинами весной и осенью, была однорядка.
Однорядки шили из сукна или иных шерстяных тканей «в один ряд» (т. е.,
по-видимому, без подкладки), что, как думают, и обусловило само название. Это
была распашная длинная широкая одежда с длинными откидными рукавами и прорехами
для рук у пройм. Полы ее делались спереди короче, чем сзади. «Однорятка женская
сукно кармазин малиновый цвет, у ней 12 пуговиц серебряные большие на сканое
дело, да однорядка женская вишневая», – сказано в описи имущества посадского
человека
Летом зажиточные мужчины и женщины носили
внакидку («на опаш») легкие шелковые опашни свободного покроя с длинными,
суживающимися к запястью рукавами, на шелковой же или бумажной подкладке. Полы
опашня, как и у однорядки, были длиннее сзади; надевая его в рукава, все же не
подпоясывали (Савваитов, с. 93). Такой опашень найден при строительстве
Московского метрополитена в трещине стены Китай-города (Киселев, с. 157 – 158).
Опашень украшали крупные пуговицы. «Опашен бархат зелен з золотом 11 пуговиц
грушчатых... опашен зуфь светлозеленая амбурская 9 серебряных грановитых
пуговиц...» – читаем в завещании князя Ю. А. Оболенского, составленном в
середине XVI в. Всего в гардеробе этого князя было семь кафтанов (в том числе
один терлик), пять однорядок, три ферязи, четыре опашня, два армяка, один
сарафанец, две епанчи и шесть шуб (АФЗиХ, II, № 207, с. 207-214).
Сарафанец – длинная, довольно узкая распашная
мужская одежда, давшая, как уже сказано, название и женскому сарафану, видимо,
не была распространена очень широко. Упомянутая впервые к концу XIV в., она
держалась до середины XVII в. только среди знати. Желтый шелковый сарафанец
князя Оболенского застегивался на 23 золотых и серебряных пуговицы.
Армяк (иран. урмак), который простые люди шили
из толстого домотканого сукна – армячины, был свободной халатооб-разной верхней
уличной одеждой. Но знатные люди носили армяки только дома (Савваитов, с. 5) и
шили из более дорогих тонких тканей: «армяк мухояр лазорев», «армяк тонкое
полотенце».
Чрезвычайно парадной верхней одеждой московской
знати в XVI – -XVII вв. была ферезея – длинная, прямая, несколько расклешенная
книзу, широкая, с откидными рукавами. Шили ее из дорогих сукон, украшали
вышивкой и даже камнями, подбивали иногда дорогим мехом (например, соболями),
надевали поверх ферязи или кафтана. Ферезея, как думают некоторые исследователи
(Левинсон-Нечаева, 1954, с. 312 – 315; Гиляровская, с. 72 – 74), была в XVII в.
даже чем-то вроде должностной парадной одежды стольников царского двора.
Епанча, о которой мы говорили выше как о
разновидности кафтана (япончица, ермулук, тур. япондже), могла представлять
собой и безрукавный плащ типа бурки. Епанча теплая, на меху, называлась также
ментеня (Савваитов, с. 76, 183 – 184) («ментеня камка на черевах лисьих и
г.упках собольих». – АФЗиХ, II, №407, с. 207).
Пожалуй, наиболее характерной женской верхней
одеждой был летник – свободный, не слишком долгополый (так, что видны были
стопы), с широкими рукавами, которые назывались никапками и украшались
дополнительными специальными нашивками – вошвами из другого материала: «Летник
камчат черв-чат вошвы бархат с золотом зелен» (АЮ, № 248, с. 266). Вошвы,
по-видимому, хранились отдельно и могли нашиваться на разные летники. Так, в
завещании волоцкой княгини Юлиании (
В последующие периоды теплой верхней одеждой
горожан – мужчин и женщин были шубы (сам термин джубба восточного
происхождения). Шубы разнились весьма значительно по покрою и материалу. По
сути дела, они имели одну непременную общую черту – все были меховыми. Бедные
горожане, как и крестьяне, носили по-прежнему шубы преимущественно из овчины –
шкур овец, гораздо реже – из козьего меха – фактически те же кожухи. У
зажиточных же горожан и феодалов шубы делались из тщательно подобранных, иногда
драгоценных, мехов, крылись красивой материей, украшались вышивкой, кружевом и
т. п. Шубы, как и кафтаны (мы приводили и термин «кафтан шубный»), бывали
разных фасонов в зависимости от моды. В частности, уже в XV в. известна
«русская шуба», а позже – «шуба турская» – термины, аналогичные названиям
фасонов кафтана. Богатые люди имели помногу шуб. Так, в конце XV в. у волоцкой
княгини Юлиании было 11 шуб, в том числе 4 мужские: «шуба русская на соболях
бархат червчат с золотом, шуба русская на соболях камка бурская с золотом
тяжелая, кожух на беличьих черевих камка бурская с золотом тяжелая, шуба на
куницах камка бурская с золотом и серебром» (ДДГ № 87, с. 349 – 350). Спустя
более чем полстолетия в гардеробе князя Оболенского были «шуба на соболях
бархатная, шуба на соболях камка 11 пуговиц серебряных резных грановитых, шуба
пупки собольи наголо (т. е. не покрытая. – М. Р.), шуба кунья наголо... две
шубы горностайны» (АФЗиХ, XII, № 207, с. 207 – 214). Еще на столетие позже, в
Шуба попроще, на овчине или на заячьем меху,
крылась крашепиной и называлась кошуля. Кошулю носили мужчины и женщины
(Савваитов, с. 65).
О покрое шуб у нас сведений мало. Можно лишь
сказать, что шуба делалась обычно распашной, широкие рукава суживались к кисти;
бывали и откидные рукава (у турской шубы они сочетались с обычными)
(Гиляровская, с. 75). Длина шубы менялась в зависимости от фасона – немного
ниже колен и почти до пят. Воротник был меховой, различных фасонов (например, у
русской шубы – отложной). Это была в общем свободная одежда, но шуба турская
кроилась как халат, а русская – больше в талию. Украшения те же, что и у
другого верхнего платья: петлицы, пуговицы, кованое кружево, меховая опушка.
Как мы увидим ниже, шуба была, пожалуй, самым
нарядным одеянием русских феодалов и зажиточных горожан. У богатых \ людей были
специальные шубы разного назначения (например, столовая, санная, или ездовая, и
пр.). Бедный же человек довольствовался одной, совсем не роскошной шубой. Такую
простую шубу носил, например, московский митрополит Филипп в период своей
ссылки (1566 – 1568 гг.). Она сохранилась как реликвия в патриаршей ризнице.
Шуба длинная, прямая, с небольшими, расширяющимися внизу клиньями. Рукава,
сверху очень широкие, к кисти суживаются; пуговицы (их всего 30) пришиты на
правой поле, петли – на левой (следовательно, в XVI в. застежка была уже не
только на левую сторону, но и «мужская» – на правую). Домотканое
черно-коричневое грубое сукно покрывало обыкновенную коричневую овчину.
Маленький отложной воротник был того же меха. Но по покрою шуба не отличалась
,,т тех, какие носили и феодалы (Левинсон-Нечаева, 1954, с. 309 – 310). В
частности, великий князь Василий Иванович, отец Ивана Грозного, изображен на
портрете в шубе того же покроя.
В последний из рассматриваемых нами периодов
(XVIII – XIX вв.) верхнее уличное платье изменилось, пожалуй, больше всего,
поскольку петровские новшества в области одежды касались в первую очередь тех
частей костюма, которые надевались на улицу, ко двору, в гости и т. п. Что же
касается людей среднего достатка и бедных горожан, то их верхняя одежда хотя и
менялась довольно значительно, но сохраняла еще черты древности. Это в
особенности можно сказать о средних и малых городах. Верхняя одежда горожан
середины XIX в. отличалась разнообразием. Источники называют до 25 предметов.
Среди них встречаем старинные: азям, армяк, гуню, зипун, кабат, кафтан,
полукафтанье и шубу. У нас нет возможности проследить изменения покроя этих
вещей, но несомненно, что некоторые предметы сохранили от древних времен только
названия. Например, зипуном в г. Вышнем Волочке называлась не узкая одежда,
надеваемая под кафтан, а «широкий армяк», видимо надевавшийся поверх остального
платья на улицу (АГО 41, №
Из широкой верхней одежды, которую можно было
носить на улице и в помещениях, шире всего был распространен длинный сюртук
(описан в 22 городах – от Кадникова на севере до Новгорода-Северского на юте),
который шили из сукна или нанки, с разрезом или без разреза сзади. Судя по
названию, это одежда французского происхождения, но описания корреспондентов
показывают, что она приспосабливалась к местным условиям. Так, в Чебоксарах
носили сюртуки на меху и вате (АГО 14, №
В середине XIX в. мы встречаем верхнюю одежду с
древним названием «свита» только в южных городах Фатеже, Бирюче,
Новгороде-Северском, Краснокутске, граничащих с значительными массивами украинского
населения, среди которого, как известно, это название сохранялось все время.
Короткая – до колен – свита называлась в Бирюче и Новгороде-Северском
свита-юпка или просто юпка (АГО 9, №
Из других предметов верхней одежды, видимо
появившихся под влиянием соседей, дважды назван бешмет (Дедюхин, Черный Яр
Астраханской губ.), короткий, до колен, сшитый из легкой материи «на манер
казачьих кафтанчиков» (АГО 2, №
Наиболее распространенной верхней уличной
одеждой рядовых горожан был халат – широкий и длинный, из нанки или сукна, он
надевался поверх комнатного верхнего платья, иногда и поверх полушубка (г.
Бирючь), и подпоясывался матерчатым кушаком. Халат как будничная или даже
праздничная верхняя одежда встречен в тринадцати городах – от Вологодской (г.
Кадников) до Черниговской и Астраханской (г. Погар, Соленое займище) губерний.
Подобного же типа одеждой были, видимо, балахон (города Пудож, Верховажский
Посад), ватный капот (г. Ирбит), пониток (города Верховажский Посад, Дедюхин,
Калязин), чекмень (г. Новозыбков).
Не столь широкая верхняя одежда, обычно
суконная, с отложным воротником – чуйка – отмечена в девяти городах центра и
юга Европейской России (от Вышнего Волочка до Но-возыбкова). Если чуйка была
одеждой простонародной, впоследствии характерной для мещан, то шинель
(встреченная в шести городах примерно на той же территории от Ярославской до
Черниговской губ.) не как форменная одежда была характерна для людей более
зажиточных, и притом следящих за модой (например, в г. Боровске –
преимущественно для молодежи). Пальто, упомянутое при описании городов
Чебоксары и Крапивна, было не только уличной одеждой: в пальто можно было
(например, в Петербурге) и дома принимать гостей (Белинский, 1845, с. 71 – 72).
Но специфически уличной меховой одеждой были бекеша (в первой половине XIX в. в
ней щеголяли – ср. бекешу Ивана Ивановича в гоголевском Миргороде) и шуба.
Тулуп у горожан упомянут всего один раз – в г. Погар Черниговской губ.
Женская уличная одежда в этот период была,
кажется, менее разнообразной. Наряду с широко бытовавшими шубами, шубками и
полушубками, о которых мы уже говорили, встречаются упоминания бурнусов (АГО
15, №
В четвертый период увеличивается различие между
мужской и женской верхней одеждой; у горожан почти неизвестна одежда, общая для
мужчин и женщин (так, могли носить разве кафтан, и то не везде). Утверждается и
возникшее, по-видимому в XVI в., различие «мужского» и «женского» способа
застегивать одежду – у женщин по-старому правая пола заходит на левую и
застежка слева, у мужчин – левая на правую и застежка справа.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
В первый период развития городов рядовые
горожане, как и крестьяне, носили меховые, валяные и плетеные шапки различных
фасонов. По изображениям на фресках киевского Софийского собора и на русальских
браслетах, о которых уже говорилось, известны островерхие, высокие, с несколько
свисающими (обычно назад) концами клобуки или колпаки, в которых изображали
скоморохов и гусляров. Возможно, это – ритуальные головные уборы.
Хорошо известны по изображениям также
полусферические, с меховой опушкой шапки, составлявшие важнейшую регалию князей
(Арциховский, 1944, с. 18 – 30). Фасон этот оказался чрезвычайно устойчив.
Получив в XIV в. в подарок золотую тюбетейку бухарской работы, московские князья
велели приделать к ней соболью опушку, так что тюбетейка стала похожей на
традиционную княжескую шапку и только тогда превратилась в великокняжеский, а
затем царский венец, по образцу которого вплоть до XVIII в. делали венцы
русских царей.
Но вернемся к головным уборам рядовых горожан.
Упомянутая ранее валяная темно-серая шапка XIV – XV вв. напоминает бытовавшие
еще в XIX в. у крестьян грешневики, а плетенная из корней шляпа XIV в. –
круглая, с плоской тульей и широкими полями (как у позднейшего украинского
бриля) – бывшие в моде в Европе в конце прошлого – начале нынешнего столетия
«канотье» (Кирпичников, 1969, с. 24; Колчин, 1968, с 85).
Во второй и третий период мужские головные уборы
отличались разнообразием. Фасоны их претерпели значительные изменения, как и
мужские прически, что иногда было взаимосвязано: например, в XV – XVI вв.
волосы стригли совсем коротко, как мы бы сейчас сказали, «под машинку»
(Арциховский, 1970, с 296; Гиляровская, с. 82 – 83), поскольку вошло в моду
ношение круглой шапочки вроде восточной тюбетейки, закрывавшей только макушку,
– тафьи или скуфьи. Привычка к такой шапочке уже в XVI в. была так сильна, что
Иван Грозный, например, отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на
требования самого митрополита Филиппа (Костомаров с. 71). Тафья или скуфья
могла быть простой темной (у монахов) или богато расшитой шелками и жемчугом.
Пожалуй, наиболее распространенной формой
собственно шапки был по-прежнему колпак – высокий, кверху суживавшийся (иногда
верх заламывался и отвисал). Внизу у колпака были узкие отвороты с одной –
двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения – пуговицы, запоны, меховая
оторочка. Колпаки в XVI – XVII вв. были распространены чрезвычайно широко. Они
были вязаными и шитыми из разных материй (от бели и бумаги до дорогих шерстяных
тканей). Известны колпаки спальные, комнатные, уличные и парадные. В завещании
начала XVI в. раскрывается любопытная история о том, как русский князь Иван
взял у своей матери – волоцкой княгини – «во временное пользование» разные
фамильные драгоценности, в том числе серьги из сестриного приданого, и пришил
себе на колпак, да так и не отдал (ДДГ, № 87, с. 349 – 350). Должно быть, этот
колпак был очень нарядным головным убором щеголя. Столетием позже среди имущества
Бориса Годунова упомянут «колпак саженой; на нем 8 запон да на прорехе 5
пуговиц» (Савваитов, с. 55). Разновидностью колпака был в XVII в. науруз,
имевший в отличие от колпака небольшие поля и также украшенный пуговицами и
кистями (Савваитов с. 84). Поля науруза были иногда загнуты вверх, образуя
острые уголки, верх закруглен, что любили изображать миниатюристы XVI в.,
отличая русский головной убор от татарского (Громов, 19776, с. 206 – 208).
Среди зажиточных горожан были в XVII в.
распространены мурмолки – высокие шапки с плоской, расширяющейся книзу
(наподобие усеченного конуса) тульей и с меховыми отворотами в виде лопастей,
пристегивавшимися к тулье двумя пуговицами. Мурмолки шили из шелка, бархата,
парчи и украшали дополнительно металлическими аграфами.
Теплыми головными уборами мужчин были меховые
шапки. Бедный человек носил шапку из овчины, богатый – из дорогих мехов, крытую
яркими материями. Среди фасонов мужских шапок источники называют треух, или
малахай, – шапку-ушанку, такую же, как и у женщин. Наиболее парадной была
горлатная шапка, высокая, расширяющаяся кверху, с плоской тульей. Упоминаются
также «черевьи» шапки.
Подобно тому как принято было надевать при
парадных выходах одну одежду поверх другой (например, зипун – кафтан –
однорядку или шубу), надевали и по нескольку шапок: тафью, на нее колпак, а
поверх него еще горлатную шапку (Костомаров, с. 72).
Особые головные уборы (разного рода клобуки)
были у духовных лиц различных рангов.
Петровские реформы обязали городскую верхушку
носить парики и шляпы современных европейских фасонов. И в дальнейшем эти слои
городского населения неукоснительно следовали европейской моде даже тогда,
когда правительство с ней боролось. Например, в
Все эти новшества не коснулись, однако, широких
слоев горожан (если не считать, конечно, чиновников и вообще всех, носивших
форму – по большей части с треуголками). И в 40 – 50-х годах XIX в. в
особенности в средних и малых городах мужчины носили суконные и войлочные шапки
старинных фасонов наряду с новомодными фуражками и картузами (АГО 25, №
Женские головные уборы в городах долгое время
были, подобно крестьянским, гораздо сложнее, чем мужские, вследствие прочно
укоренившегося древнего обычая, согласно которому волосы замужней женщины
должны были обязательно быть целиком закрыты.
В IX – XIII вв. наиболее распространенным у
горожанок был, кажется, полотенчатый головной убор – повой, или убрус. Длинный
кусок ткани вроде полотенца обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы
женщины. Оба конца могли спускаться на плечи и грудь (см. цветную вклейку).
Археологические находки позволили
реконструировать у богатых русских горожанок этого времени как полотенчатый
головной убор с аппликацией и вышивкой (Шеляпина, с. 54), так и более сложную
рогатую кику с вышитыми золотом кринами на очелье (Даркевич, Фролов, с. 342 –
352). Кичкообразный головной убор с колтами реконструирует для черниговской
горожанки Б. А. Рыбаков (Рыбаков, 1949, с. 55). П. П. Толочко, на наш взгляд
без конкретных оснований, распространил этот убор на Киевщину (Толочко, 1980,
с. 191). Для северных областей сведений о головном уборе древнерусских
горожанок нет, но в крестьянских погребениях Вологодской обл. найдены
украшения, принадлежащие, по мнению исследователей, как полотен-чатым головным
уборам – покрывалам, так и расшитым бляхами кокошникам (Сабурова, 1974, с. 92).
Таким образом, уже в первый период развития городов можно проследить все три
типа головных уборов, бытовавших в древности и развившихся позднее – повой,
кичку и кокошник.
О втором периоде – XIV – XV вв. – в источниках
сведений почти нет. На упомянутой уже иконе «Молящиеся новгородцы» знатная
новгородская женщина изображена в повое. Можно думать, что продолжали
развиваться и две другие формы женского головного убора.
К третьему периоду – XVI – XVII вв. – относится
множество упоминаний, описаний, изображений и некоторое количество реалий
(частей головного убора, сохранившихся или найденных при раскопках).
Основные части сложного женского головного убора
перечислены в свадебном чине, рекомендованном в XVI в. Домостроем. При
приготовлениях к свадьбе предписывалось на блюдо возле «места» молодых в доме
невесты «положити кика, да положити под кикой подзатыльник, за подубрусник, да
волосник. да покрывало» (ДЗ, ст. 67, с. 166 – 167, 175 – 176).
Подубрусник, или повойник, представлял собой
легкую мягкую шапочку из цветной материи; под него и убирались заплетеные в две
косы волосы женщины. Сзади повязывался для той же цели одинаковой с повойником
расцветки платок – подзатыльник. Поверх всего надевали убрус – полотенчатый,
богато вышитый головной убор, закалывавшийся специальными булавками (иное его
название – шлык); другой вариант головного убора – названный Домостроем
волосник – сетка с околышем из золотных или вышитых золотом материй.
Археологические находки волосников в погребениях знатных женщин датированы
XVI и XVII вв. В Москве на ул. Фрунзе (на
территории бывшего Знаменского монастыря) под надгробной плитой
Наконец, главной частью головного убора была
(очевидно, в тех случаях, когда поверх волосника не надевался убрус) кика, или
кичка, – символ замужества. Кика имела мягкую тулью, окруженную жестким,
расширяющимся кверху подзором. Она была крыта яркой шелковой тканью, спереди
имела расшитое жемчугом чело, у ушей – рясы, сзади – задок из куска бархата или
собольей шкурки, закрывавший затылок и шею с боков. Поверх кики надевался
иногда еще платок, так что оставалось видно чело (Гиляровская, с. 103).
Кроме кики, источники XVII в. называют сороку и
(чаще) кокошник, но исследований древней конструкции этих уборов пока нет, сам
же характер упоминаний не позволяет о ней судить. Исследователи отмечают связь
упоминаемых в XVI –
XVII вв. кики, сороки и кокошника с женскими
головными уборами, бытовавшими у крестьян и даже у горожан еще в середине XIX
в. «В некоторых захолустьях, – писал П. Савваитов, – еше и в настоящее время
можно видеть не только у крестьянок, но даже у горожанок головной убор, похожий
на бурак или кузовок, иногда с рогами, сделанными из лубка или подклеенного
холста, обтянутый позументом или тканью яркого цвета и украшенный разными
вышивками и бисером, а у богатых баб даже жемчугом и дорогими камнями». Но
разницы между кикой, сорокой и кокошником Савваитов не видел (Савваитов, с.
56). В. И. Даль писал о сороке: «Это некрасивый, но самый богатый убор, уже
выходящий из обычая; но мне самому еще случалось видеть сороку в десять тысяч
рублей» (Даль, т. IV, с. 281). Роскошные, шитые золотом сороки и кокошники не
раз названы в составе приданого богатой горожанки XVII в. (см. приложение II).
Богато вышитую свадебную сороку-золотоломку, которую молодуха носила по
праздникам и в первые два-три года после свадьбы, для XIX – начала XX в.
отмечает Г. С. Маслова (Маслова, 1984, с. 16).
К. А. Авдеева, описывавшая в
Итак, традиционный, очень сложный по составу
женский головной убор, который не снимали и дома, был характерен для IX – XVII
вв. и удержался у некоторых социальных слоев горожан почти до XIX в.
Выходя на улицу, женщина зачастую надевала
поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу.
Источники знают, помимо общего названия «шапка»
и «шляпа», также специальные термины, обозначавшие женские Уличные головные
уборы различных фасонов: каптур, треух, столбунец и даже чепец. Женские шляпы
были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и
золотных нитей, иногда драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей
части с матерчатым верхом. Шапка-столбунец была высокой и напоминала мужскую
горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на
затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух
напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей [Забелин, 1869, с.
577 – 603; Гиляровская, с. 105; Савваитов, с. 149 – 150). Иногда платок – фата
– повязывался и поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.
«Шапка польская с куницей, верх камчатной, треух куней верх изобравной»; «шапка
женская, шитая битым золотом, с круживом низаным... шапка горлатная лисья»
(всего перечислено пять шапок); «каптур соболей наголной»; «чепец косой
камчатной красной, круживо золотое с серебром» (всего перечислено три чепца), –
читаем в источниках XVI – начала XVIII в. (Пенза,
Подобные данные о головных уборах горожанок
содержатся в ответах на Программу Русского географического общества. Относясь
формально к концу четвертого периода – середине XIX в., они характеризуют и
время несколько более раннее: иногда корреспонденты писали не только о том, что
бытовало в их время, но и о том, что отмирало или было уже вытеснено новыми
головными уборами. Нужно отметить и то, что многие корреспонденты описывали
только платье горожанок, не касаясь вовсе головного убора; данные и в этом
случае получились неполные.
Наиболее распространен в середине XIX в. был
головной платок. Он упомянут в 27 городах: от Пудожа на северо-западе до
Новгорода-Северского на юге. При этом иногда названы особые местные формы
головного платка – повязка (Медынь, Лихвин, Перемышль, Фатеж), подбериха –
платок, сшитый из разноцветных лоскутов (Пудож), косынка (Ирбит, Валдай,
Корчев, Ядрин), иногда богато украшенная фатка (Козмо-демьянск). Молодые
женщины носили яркие платки, пожилые – темные (АГО 14, №
Довольно широко распространились уже новомодные
головные уборы – разного рода чепцы и шляпки (Пудож, Великие Луки, Торопец,
Петровск, Кашин, Чебоксары, Мещовск, Ефремов, Новгород-Северский, Павловск; из
Корчева писали, что чепцы и шляпки носят, но еще редко).
Девушки в течение всего рассматриваемого нами
времени были свободны от описанных выше жестких предписаний, касавшихся только
головного убора замужних женщин и вдов. Уже на древних изображениях можно
увидеть девушек с распущенными или с заплетенными (по более поздним данным – в
одну или две косы) волосами. Волосы придерживал венчик – узкая полоска металла
или материи, охватывавшая лоб и скреплявшаяся на затылке. Более сложный, богато
украшенный венчик назывался коруной. Коруна была, кажется, более распространена
в городах. Венчик и коруна не закрывали ни темени, ни спускавшихся на плечи или
заплетенных волос девушек. Так девушки ходили дома, а в теплое время и на
улице. Так было и во второй, и в третий периоды развития городов. «Девушки
ходят с открытой головой, нося только укрепленную на лбу богатую повязку;
волосы девушек спадают до плеч и с гордым изяществом заплетены в косы», – писал
иностранец в
В четвертый период, с распространением головного
платка, разница между женским и девичьим головным убором начинает как будто
сглаживаться. Девушки, как и женщины, стали носить головной платок, низко
надвинутым на лоб, но сзади из-под платка была видна перевитая лентами коса.
Такой убор отмечен в середине XIX в. в Усть-Сысольске, Ядрине и южных городах –
Медыни, Мещовске, Валуйках, Новгороде-Северском, Новозыбкове (АГО 7, №
ОБУВЬ
С древнейших времен русские горожане носили
кожаную обувь. Общеизвестна летописная притча о том, что горожане «все в
сапозех» в отличие от «лапотников» – крестьян (ПВЛ I, с. 59). Это
подтверждается и археологическим материалом. При раскопках в городах, где
культурный слой сохраняет органические остатки, найдены многие тысячи обрезков
кожи и кожаной обуви и буквально считанные, единичные экземпляры лаптей. При
этом и лапти в городе находят не только лыковые, но и плетенные из кожаных
ремешков и такие, у которых только подошва укреплена («подковырена») такими
ремешками, основное же плетение – из лыка и коры (Рабинович, 1964, с. 287).
Вместе с тем находки в городах инструментов для
плетения – кочедыгов – свидетельствуют о производстве каких-то плетеных
изделий, а известная лубочная картинка XVIII в. «Муж лапти плетет, жена нитки
прядет, огня не гасят, обогатети хотят» позволяет заключить, что среди таких
изделий были и лапти, которые делали, может быть, для продажи крестьянам. В XIX
в. корреспонденты Географического общества сообщали из некоторых малых городов
(например, Пудожа, Калязина, Ядрина), что бедные горожане носят лапти, «как у
деревенских». Но это было именно признаком бедности, а в других случаях
говорилось даже про несостоятельных горожан, что их одежду отличают от крестьянской
«разве что сапоги».
Итак, кожаная обувь – характерная черта
городского костюма. Обувь эта уже в первый период существования городов (IX –
XIII вв.) была довольно разнообразна. Простейшей кожаной обувью бедных горожан
были сделанные из прямоугольного куска сыромятной кожи (или даже необработанной
шкуры) поршни (порабошни, постолы, моршни). Отмечая религиозное рвение простого
народа, летописец писал в XI в., что на церковной службе даже в сильные морозы
стояли в «порабошнях в черевьях портоптаных, яко примерзнеяшета нозе его к
камени, и не движаще ногами, дондеже отпояху заутреню» (ПВЛ I, с. 129).
Протоптанная обувь молящихся – поршни и черевики (о которых речь ниже) – яркий
бытовой штрих, которым воспользовался не лишенный литературного таланта автор,
когда писал о тогдашней киевской бедноте.
Поношенные, протоптанные поршни и их остатки –
частая находка в культурном слое русских городов (Вахрос, с. 40 – 41;
Рабинович, 1964, с. 100 – 102). Встречаются и поршни с латками на ступательной
части. В русских городах Новгороде, Старой Ладоге, Москве и др. наряду с
простыми поршнями, представлявшими собой кусок со сшитыми попарно углами и
продернутым по верхнему краю шнуром, находят также нарядные ажурные поршни,
украшенные на носке прорезями. Были и поршни, сшитые из двух кусков кожи
(Изюмова, с. 200; Оятева, с. 50); их, как считают, называли также черевики; по
крайней мере, такое название сохранилось у западных славян (Вахрос, с. 40).
Поршни прикреплялись к голени ноги длинными
кожаными поворозами, перекрещивающимися по нескольку раз поверх онучей. На
древнерусских изображениях, как и повсюду в Европе, с переплетом в виде косой
клетки на голени рисовали людей, обутых в лапти и в поршни.
В Древней Руси часто встречалась и более сложная
кожаная обувь, сшитая из нескольких кусков, с пришивной мягкой подошвой (само
это название – «подошва» – от слова «подшивать») и краями, закрывавшими всю
стопу несколько выше щиколотки. Спереди края расходились от подъема ноги.
Видимо, к этой обуви можно отнести встречающиеся в источниках с X в. название
череви, черевики. Происхождение же названия связано, по-видимому, с «черевием»
– кожей с «чрева» – брюха животного (Вахрос, с. 192). Черевики встречаются при
раскопках в городах, гораздо реже – в деревенских курганах. Это была, стало
быть, уже в XIII – XIV вв. обувь горожан, которую носили и зажиточные крестьяне
близлежащих деревень (Латышева, 1954, с. 54). Довольно сложная выкройка и
наличие подошвы позволяют предположить, что черевики изготовлялись уже специалистами-сапожниками.
Все же наиболее распространенной обувью горожан
были сапоги, которых крестьяне почти не носили. Остатки сапог встречаются при
раскопках в городах гораздо чаще, чем остатки черевиков, поршней или тем более
лаптей. В ремесленных районах, где были и кожевенно-сапожные мастерские, части
сапог встречаются десятками и сотнями, а обрезки – тысячами. Само название
этого вида обуви – «сапог», встречающееся, как сказано в древнерусских
источниках уже в X в., исследователи, однако, не считают исконно русским,
возводя его к древнетюркскому или прабулгарскому корню (Вахрос, с. 207).
Древнерусские сапоги имели мягкую, сшитую из нескольких слоев тонкой кожи
подошву, несколько заостренный или тупой носок, довольно короткие, ниже колена,
голенища. Верхний край голенища срезался косо, так что спереди сапог был выше,
чем сзади, швы располагались по обеим сторонам ноги (Рикман, с. 39; Изюмова, с.
212 – 214; Рабинович, 1964, с. 286 – 288). Нарядные сапоги украшались выпушкой
материи по краю голенища, шитьем цветными нитками и даже жемчугом. Каблуков у
найденных при раскопках сапог X – XIII вв. обычно не прослеживается. Жесткая
подошва сапог появилась позже. Шили сапоги на правилах – деревянных колодках,
без различия между левой и правой ногой. Впоследствии их либо разнашивали по
ноге, либо носили попеременно на правой и левой. Судя по археологическим
находкам, в сапоги обувались горожане богатые и бедные, мужчины, женщины, дети.
Но сапоги богатых горожан уже в IX – XIII вв. отличались лучшей выделкой кожи,
яркими цветами (желтый, красный и др. – сравни рис. 12, 2), дорогим шитьем.
Сапоги, как и черевики и лапти, надевали, по всей вероятности, поверх онучей
или чулок.
Находки кожаных поршней и их частей встречаются
при раскопках в городах XIII – XVII вв., однако реже, чем находки другой
кожаной обуви. Поршни, или уледи, делали в этот период из бычьей сыромятной
кожи с войлочным верхом (Савваитов, с. 155). Часть кожаной обуви, подложенной
(кроме войлочной стельки) войлоком так, чтобы стопа была прикрыта и сверху,
найдена однажды при раскопках в Москве в Зарядье в слое XVI в. (Рабинович,
1964, с. 228). Может быть, это и были уледи. Известна в XVII в. и какая-то
обувь типа поршней, называвшаяся ступни. Один иноземный купец, живший в Пскове
в начале XVII в., переводил это название немецким словом Schuhe (Хорошкевич, с.
208).
В городах в это время больше распространены были
чоботы, черевички и сапоги. Чоботы и черевики отличались от сапог примерно так
же, как позднейшие ботинки: они были короткими, без голенищ в собственном
смысле этого слова, спереди могли, как и встарь, иметь разрез или собирались
вокруг ноги на шнуре-вздержке.
При археологических раскопках в Новгороде,
Москве, Пере-яславле Рязанском и других городах части чобот и черевиков –
находка не частая, встречающаяся преимущественно в XIII – XV вв. (Изюмова, с.
214; Рабинович, 1964, с. 298). Среди находок попадаются и богато украшенные
тисненым или ажурным орнаментом. В последнем случае в дырочки зачастую
продергивались цветные нити, образую разноцветный узор (Колчин, Янин, 1982, с.
84). Большинство сделано из черной кожи, но были и более нарядные чоботы разных
цветов и из разных материалов – сафьяновые атласные, бархатные – с вышивкой
(Шеляпина, 1973, с. 152 – 153). Сапоги (наиболее распространенная обувь
горожан), как и прежде, имели относительно короткие голенища. «Сапоги они носят
по большей части красные и притом очень короткие, так, что они не доходят до
колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздиками», – писал в XVI в. о московитах
С. Герберштейн (Герберштейн, 1908, с. 123). Сапоги, как и башмаки, делались из
различных сортов кожи. Лучшие были не только черными или красными, но и желтыми
и зелеными; особым разнообразием цветов отличалась сафьяновая обувь. В качестве
украшения широко применялось тиснение, причем более сложный узор оттискивался
на голенищах, а на передах сапог тиснение по большей части имитировало
естественные складки кожи, но более правильные и мелкие. Кроме того, иногда
край голенища опушался цветной материей, а то и весь сапог покрывался дорогим
шитьем (Колчин, Янин, 1982, с. 84). Так в
Фасоны сапог и башмаков менялись согласно моде и
в зависимости от наличия разных сортов кожи. Так, мы уже говорили, что более
древняя обувь делалась по необходимости из тонкой кожи и была поэтому мягкой,
шилась выворотным способом. Подошва составлялась из нескольких слоев кожи.
Мягкие сапоги – ичеготы, чедыги – были и в XVI – XVII вв. (Савваитов, с. 43).
Но начиная с XIV в. появляется и толстая воловья кожа, позволяющая делать
толстую жесткую подошву. Е. И. Оятева отметила, что из 110 фрагментов обуви,
найденной в слоях XIV – XVII вв. в Переяславле Рязанском, 103 принадлежали
обуви жесткой конструкции и только 7 мягкой (Оятева 1974, с. 189 – 192). С
изменением конструкции подошвы перестали постепенно и шить симметричную обувь
«на обе ноги». В случае, описанном Е. И. Оятевой, даже мягкая обувь была в
большинстве асимметричной: на правую или на левую ногу, и только один экземпляр
был симметричным. Подошва пришивалась к переду и для крепости подбивалась
гвоздями, а на пятке – и подковой. К XVI – XVII вв. стала преобладать обувь на
среднем или высоком каблуке. Каблук делался из многих слоев кожы, иногда
скреплявшихся металлической скобкой, и подбивался также металлической
подковкой. Носки сапог и башмаков в зависимости от моды делались закругленными
или несколько приподнятыми кверху (длинный острый носок подошвы при этом
вшивался в специальный вырез переда).
Кроме чобот, черевиков и сапог, С. А. Изюмова
выделяет еще полусапожки – с более коротким, чем у сапог, голенищем и мягким
(без берестяной прокладки) задником (Изюмова, с. 205, 213). Однако письменные
источники эпохи средневековья такого термина не знают, и мы вынуждены
рассматривать полусапожки как разновидность сапог.
Обувь по-прежнему надевали на онучи – как
мужчины, так и женщины. Онучи бывали холщовые, суконные, иногда на меху –
шкарпетки. Иногда они дополнялись ноговицами и наколенниками (Савваитов, с. 92,
176, 81).
Все большее распространение получали чулки –
вязаные и шитые из шелковых материй. Теплые чулки подкладывали мехом. Длина
чулок бывала, как видно, различной. В описи имущества Ивана Грозного значились
чулки «полные» и полуполные». Носили чулки на подвязках (Савваитов, с. 168). В.
О. Ключевский считал, что вязаные чулки распространились только с XV в.
(Ключевский, с. 190). Савваитов также отмечал «чулки вязаные немецкое дело».
Однако, как уже было сказано, вязаные чулки были и местного производства.
В четвертый период – XVIII – середина XIX в. –
женщины, как и мужчины высшего круга, всегда носили чулки (по большей части –
бумажные); мужчины средних и низших городских сословий – чулки или онучи, в
зависимости от обуви. Сама обувь сохраняла в общем примерно тот характер,
который приобрела в предыдущий период. Наиболее распространены были сапоги –
как мужские, так и женские – на жесткой подошве и среднем или (преимущественно
у женщин) высоком каблуке. Сапоги носили различных фасонов соответственно
современной моде – например, со складками на голенищах (то, что позднее
называлось «гармошкой») или, наоборот, вытянутые гладкие (позднейшее название –
«бутылками»). Мужчины из «благородных» носили сапоги с голенищами и при брюках
навыпуск. В этот период еще встречаются сафьяновые цветные сапоги, но
постепенно возобладали сапоги черные, реже – коричневые, у женщин – красные.
Впрочем, известны и местные отличия. Например, в г. Пудоже в середине XIX в.
была мужская мода на выворотные белые сапоги (АГО 25, № 10, с. 8). Наряду с
сапогами распространены были женские полусапожки с короткими голенищами, а
также более открытая обувь без голенищ – башмаки, ботинки (например, в г.
Княгинине), отороченные красным сукном коты с высоким передом (пампушей),
круглым носком и язычком спереди (г. Пинега – АГО 1, №
ПОЯСА И УКРАШЕНИЯ
В древнерусском костюме большое значение имел
пояс. Он применялся даже не столько для поддержки частей костюма (поскольку так
называемая поясная одежда держалась несобственно на поясе, как в наше время, а
на вздежках – шпурах-гашниках), сколько для сохранения тепла. Пояс был
предметом престижным и вообще охранительным. Предположение А. В. Арциховского,
что женская одежда не подпоясывалась (Арциховский, 1948), пока не
подтверждается. Отсутствие в женских курганных погребениях пряжек скорее можно
объяснить тем, что женщины подпоясывали рубаху плетеным или полутканым поясом,
какие хорошо известны в более позднем крестьянском костюме (Лебедева, 1956, с.
499 – 501). Такой пояс завязывался так, что концы его оставались свободными.
Один узорный шерстяной полутканый пояс найден на территории посада в Москве в
слое XVI в. (Рабинович, 1964 с. 281; Громов, 19776, с. 214). Таким поясом, а также
витым шнуром с кистями на концах подпоясывали мужскую и женскую рубахи,
сарафан. Изображение пояса с кистями есть на иконе XV в. «Молящиеся
новгородцы».
Верхнюю одежду подпоясывали ременным поясом с
фигурными металлическими пряжками (находки Их нередки) излюбленных в данной
местности в данное время форм. Такой пояс украшал иногда набор бронзовых
бляшек, как это можно видеть еще и сейчас, у некоторых народов Кавказа. Выбор
формы бляшек и сюжетов изображений на них, вероятно, не был случаен. На эту мысль
наводят находки поясных бляшек с изображением княжеского знака Ярослава
Владимировича в могильниках у тех городов, где княжил Ярослав в молодости
(Рыбаков, 1941, с- 245). Возможно, бляшки с личным гербом князя украшали пояса
его дружинников, членов его двора.
Вообще пояс зачастую являлся опознавательным
знаком, регалией определенной должности. Высшие должностные лица,
военачальники, крупные феодалы, князья носили и драгоценные золотые пояса.
Недаром иноземцы называли членов новгородского Совета господ – высших
магистратов этой феодальной республики – «золотыми поясами» (Никитский, с. 300
– 301). В духовных грамотах – завещаниях московских великих князей и царей не
раз названы эти фамильные драгоценности. У Ивана Калиты было десять драгоценных
поясов, у Ивана Красного – четыре, у Дмитрия Донского – восемь поясов
(Базилевич, с. 7 – 15). Сыновья великих князей получали в наследство не только
удел, но и драгоценности, среди которых обязательно был и золотой пояс. Кража
такого пояса послужила однажды даже поводом к феодальной войне.
К поясу, будь он ременный или золотой,
привешивались, как и в предыдущий период, разные необходимые вещи, в том числе
нож в ножнах, ложка в футляре, иногда гребень и обязательно сумочки, заменявшие
карман. В эпоху средневековья карманов не было обычно не только у женщин, но и
у мужчин; только в XVI – XVII вв. появились карманы, которые сначала
пристегивались к одежде (кишёнь), а потом стали нашиваться (зепь) (Савваитов,
с. 56 – 57, 40). Поясная сумочка (вернее – коробочка) из драгоценного металла
называлась капторгой, кожаная сумка – калитой или мошной. Впрочем, в духовной
грамоте Дмитрия Донского находим «пояс золот с калитою». Два последние названия
очень рано приобрели общее значение кошелька; уже в XIV в. Калитой был, как
известно, прозван за скопидомство сам московский князь.
Кожаные калиты найдены при раскопках в Новгороде
Великом и в Москве (Изюмова, с. 218; Рабинович, 1964, с. 112 – 115). Подобные
сумочки носили на поясе мужчины и в Западной Европе. У немцев они назывались в
XIV – XV вв. Reisetaschen и комбинировались иногда с небольшим кинжалом. Носили
их в Западной Европе как на поясе, так и через плечо. Эти сумочки обычно ничем
не украшались, в то время как русские калиты зачастую богато орнаментировались.
Широкие матерчатые кушаки ярких цветов были
важной принадлежностью мужской одежды начиная с XIV в. Таким кушаком подпоясан
например, мастер Аврам на знаменитых Сигтунских вратах Новгорода. Рядовые
горожане поверх кафтана подпоясывались кумачными или бумажными кушаками,
богатые – кушаками из более дорогих привозных материй, с особо украшенными
концами, которые свисали книзу. Среди царского платья в Музеях Московского
Кремля сохранился дорогой, вытканный золотом и серебром кушак из числа 12 кушаков,
подаренных в
Итак, разнообразные пояса были необходимой
частью туалета, украшением и в то же время оберегом, преграждавшим дорогу
«нечистой силе». То же значение в мужской и женской одежде придавалось также
всякого рода краям одежды – воротникам, обшлагам, полам и подолу, всегда по
мере возможности украшавшимся (Маслова, 1978).
Богато вышитый воротник-ожерелье пристегивался,
как было сказано, к рубахе, зипуну или кафтану и даже к однорядке и был важным
украшением одежды. У богатых людей мужские и женские ожерелья вышивались
жемчугом. «Ожерелье зожоно, а исподний ряд снизан...», «ожерелья 3
жемчужных...» (ДДГ № 87, с. 349; АЮБ Ш, № 328 – V, с. 268; АФЗиХ II, № 207, с.
210), – читаем нередко в грамотах. Украшением ожерелья служили и пуговицы:
«ожерелье сажено жемчугом, 6 пуговиц жемчужных».
Шитое жемчугом ожерелье стоило очень дорого.
Среди имущества московского гостя Григория Юдина (XVII в.) находим женское
ожерелье ценой 700 р., два женских ожерелья по 300 р., ожерелье мужское
стоимостью 400 р., 10 ожерелий мужских, стоячих и отложных с жемчугом,
каменьями указаны без цены (АГР I № ПО, с. 389). Косвенно эта опись указывает
на то, что женские ожерелья отделывались богаче, чем мужские. Ожерельем
назывался так же меховой стоячий воротник, пристегивавшийся к шубе. У князя
Оболенского, например, было «ожерелье боброво» (АФЗиХ II, № 207, с. 211).
Вышитые пристежные манжеты назывались
зарукавьями или запястьями и были также распространены в мужской и женской
одежде. Например, надевая верхнюю одежду с откидными рукавами, можно было
просовывать руки в прорези у пройм и щеголять драгоценными зарукавьями,
пристегнутыми к рубахе, зипуну или кафтану. «Запястье сажено жемчугом», –
читаем в той же духовной XVI в.
Одежду, как сказано, украшали также вышивкой у
ворота, плеч, бортов, петель, обшлагов и подола, нашивными бляхами – аламами.
При этом широко применяли обшивку галунами и нашивку петель из серебряного и
золотого шнура с жемчугом и каменьями. Края одежды обшивались также
металлическим кованым, плетеным или низаным жемчугом кружевом.
Важным украшением одежды служили упомянутые уже
пуговицы, которые у богатых были серебряными, золотыми, жемчужными. Это
явление, общее для всей Европы. На русских одеждах бывали и пуговицы литовского
и немецкого дела. П. Савваитов приводит интересные данные о числе пуговиц на
разных предметах одежды. К кафтану полагалось 13 – 19 пуговиц, к опашню – 11 –
30, к однорядке – 15 – 18, к ферязи – 3 – 10, к чуге – 3 – 22, к шубе – 8 – 16,
к зипуну – 11 – 16, к кожуху – 11, к епанче – 5, к армяку – 11, к терлику – до
35, к телогрее – 14 – 24 (Савваитов, 1896, с. 113 – 114). Вместо пуговиц иногда
пришивали особые костыльки – кляпыши, тоже красивые и дорогие. Впрочем,
какой-нибудь щеголь мог нашить на одежду и гораздо больше пуговиц: «Кафтан
суконный... 42 пуговицы канительные... петли снурок золотной».
В IX – XIII вв. были распространены также
булавки с фигурными спинками (исследователи называют их латинским словом
«фибулы»). На улицах русских городов можно было в те времена увидеть людей в
плащах, застегнутых на правом плече такими красивыми фибулами.
Что же касается собственно украшений как
отдельных предметов, то они были особенно обильны в первый период развития
городов. В слоях IX – XIII вв. находят украшения, восходящие еще к древним
племенам. Однако появились и стали распространяться сначала среди горожан, а
потом и среди окрестных крестьян новые вещи, уже лишенные племенных
особенностей, например привески в виде колец с напускными гладкими или ажурными
бусами, которые могли украсить головной убор, но, кажется, чаще продевались в
мочки ушей (серьги). В городе все больше распространялась мода украшать кисти и
пальцы рук обручами и перстнями. Кроме обычных металлических обручей, в XII в.
появились пластинчатые литые серебряные обручи-браслеты с изображением
русальских танцев (Рыбаков, 1967). Но, пожалуй, еще более специфичными для
города были разноцветные стеклянные браслеты, которые носили по нескольку на
каждой руке не только богатые, но и рядовые горожанки. Обломки стеклянных
браслетов находят сотнями, а в крупных городах – тысячами (например, в
Новгороде – 7500) (Колчин, Янин, 1982, с. 85). Нужно думать, что эти браслеты
были недороги, раз их так бросали, сломав. Известны и перстни из стекла и
янтаря.
Интересно сопоставить украшения, находимые в
больших и малых древнерусских городах. В последних встречаются украшения
древнейших форм, причем обычно только те, какие носило окрестное сельское
население: например, в Екимауцах – височные кольца тиверцев, в Москве и
Перемышле Московском – вятичей. В крупных же городах, достигших к X в. уже
значительного развития, встречаются украшения, принадлежавшие к уборам
нескольких древних племен (например, в Полянском Киеве – украшения тиверцев, в
Новгороде – украшения вятичей и радимичей и т. п.) (Арциховский, 1970, с. 293;
Рабинович, 1957, с. 48-49). Это может указывать не только на то, что в крупных
городах можно было встретить женщин разного происхождения, носивших каждая свои
традиционные украшения, но и на то, что разные типы украшений могли входить в
один комплекс, принадлежать одной женщине, т. е. на смешение древних
этнотерриториальных типов украшений благодаря развитию торговли. Но стирание
древней племенной обособленности в убранстве горожанки шло все же в основном за
счет распространения новых, чисто городских форм, о которых говорилось выше.
Подобным же образом постепенно изменились
ожерелья: вместо бус, прежде излюбленных в том или ином племени, они состояли
из бус новых форм, среди которых было особенно много металлических, составных
из двух полусферических или полуовальных частей (Даркевич, Монгайт, с. 33 –
35). В первый период цельные металлические шейные украшения – гривны – носили
не только женщины, но и мужчины. Золотая гривна упомянута в качестве награды,
которую получил за службу дружинник – «отрок» Георгий – от князя Бориса (ПВЛ I,
с. 95).
Богатые горожанки носиЛи множество золотых
украшений, среди которых выделялись изяществом форм и высоким мастерством
ювелирной работы колты, по-видимому дополнявшие головной убор (Рыбаков, 1949, с.
55 – 57; Даркевич, Монгайт, с. 20 – 26).
Во второй и третий периоды (XIII – XVII вв.) в
составе украшений произошли существенные изменения. Древний красочный племенной
убор с характерными для него височными кольцами во второй период отмер окончательно,
и простые горожанки стали носить вообще гораздо меньше украшений. Но богатые
женщины имели множество драгоценностей. Описи имущества, приданого, свадебные
договоры, завещания пестрят упоминаниями перстней, обручей, монист, ожерелий,
серег. Кое-что из чтого богатства сохранилось в наших музеях.
Серьги вдевались в мочки ушей и представляли
собой золотое или серебряное кольцо или крючок с привесками из металлических
бус или чаще из драгоценных камней. По числу привесок серьги назывались одинцы,
двойни, тройни, (Савваитов, с. 126; Базилевич, с. 6 – 8). Серьги носили и
мужчины (одну серьгу). Этот древний обычай, прослеживающийся еще с X в.,
существовал и в XIV в. Московский великий князь Иван Иванович в
На шее женщины носили монисто – ожерелье в нашем
современном смысле слова, иногда и гривну. Мужских гривен в XIII – XVI вв. не
упомянуто. Монисто состояло из бус, более или менее дорогих в зависимости от
состояния. На кистях рук носили по-прежнему обручи, на пальцах – перстни
(богатые женщины – • по нескольку обручей и перстней на каждой руке). Мужской
золотой перстень назывался жиковина или напалок (от слова «палец»). Все это
дополнялось рясами – прядями жемчужных зерен, украшавшими женский головной
убор, заносками – золотыми цепочками для крестов и просто золотыми цепями,
носимыми на шее (Базилевич, с. 28 – 29).
Кресты-тельники были довольно крупными и
зачастую художественно выполненными. Их делали из хороших сортов дерева
(например, кипариса), кости, бронзы, серебра и золота, иногда и из оправленных
в серебро и золото камней. Были и более сложные кресты – коробочки для мощей –
мощевики. Широко бытовал также обычай носить на шее под одеждой разного рода
образки и ладанки. Для последних бывали специальные мешочки на шелковых шнурках
(Рабинович, 1964, с. 122). Вряд ли можно считать все это украшениями в
собственном смысле слова, поскольку обычно они были скрыты одеждой. Но кресты и
иконки поверх одежды носили духовные лица и царь при торжественных выходах,
иногда и просто зажиточные люди.
Вот примерный перечень драгоценных украшений,
какими владела богатая русская женщина в конце XV в.: «двои серги одни яхонты,
а другие лалы... трои серги, двои яхонты, а третьи лалы... монисто большое
золото да три обруча золоты... монисто на гайтане, два обруча золоты... перстни
золотые 17» (ДДГ № 27, с. 349 – 350) – всего 2 мониста, 5 пар серег, 5
браслетов, 17 перстней. «Серги жемчужные двойчатки, перстней восемь
золоченых... две цепочки серебряны» были даны на 200 лет позднее в богатом
приданом в г. Ростове (АЮБ III, № 328 – V, с. 268 – 269).
Женские украшения сохранили примерно тот же
характер и в XVIII – XIX вв., особенно у жителей малых и средних городов и
вообще у горожан среднего достатка. Женщины высших сословий носили украшения на
европейский лад. Наряд даже небогатой севернорусской горожанки отличался
множеством украшений из жемчуга, которым изобиловали местные водоемы.
В мужской одежде XVIII в. наиболее
распространенным украшением были дорогие пуговицы. Характерен известный эпизод,
когда М. В. Ломоносов, пришедший на прием в кафтане со стеклянными пуговицами,
был якобы высмеян кем-то из гостей, что послужило поводом для появления его
знаменитого стихотворения «О пользе стекла». В середине и в конце XVIII в.
очень модным украшением были часы с цепочками и разными брелоками, которых
щеголь носил по нескольку, раскладывая по карманам камзола, так что цепочка,
брелок, а по возможности и сами часы были видны. Дорогая цепочка на жилете была
излюбленным и очень престижным украшением в течение всего XIX и значительной
части XX в. Небольшие часики на длинной цепочке носили на шее и женщины. В
остальном мужской костюм в четвертый период утратил прежнее богатство
украшений. Со времен Петра I своеобразным украшением были, разумеется, и
орденские знаки, различные шифры и иные аксессуары
придворно-военно-чиновничьего быта.
На руках мужчины носили иногда перстни, причем
были и перстни, служившие отличительными признаками (например, масонский
перстень с изображением «адамовой головы» – черепа и скрещенных костей).
Нам остается еще сказать о некоторых мелких, но
немаловажных деталях одежды.
В холодное время на руках носили рукавицы –
рукавки и перчатки, как их называли в XVII в. – «рукавки персчатые», т. е. со
всеми пальцами. Рукавицы и перчатки были кожаными, сафьяновыми, вязаными,
суконными, наконец, из шелковых и зо-лотных материй. Богатые рукавицы
украшались дорогим шитьем. Они имели краги (запястья), которые и были главным
полем для украшения, как и тыльная сторона кисти. «Теплые» рукавицы и перчатки
были на меху, «холодные» – просто на подкладке.
Важным дополнением костюма служили в XVI – XVII
вв. богато вышитые платочки – ширинки – из полотна, бязи, кисеи, миткаля,
шелковых материй. Особую роль они играли при трапезах, гостеваньях и различных
обрядах, о чем говорилось в первой книге.
В XVIII – XIX вв. платочки сохранились лишь в
женском простонародном костюме и употреблялись по-прежнему, например, в русских
танцах. Мужской костюм зачастую дополнял в этот период шейный платок, который
повязывали поверх стоячего ворота рубахи. При западноевропейском платье носили
галстук также западноевропейского образца. Мужчины «из благородных» имели
трости с разнообразными фигурными набалдашниками. В более ранние периоды
длинный посох был принадлежностью некоторых должностных лиц и вообще людей,
занимавших солидное положение в городе.
Роскошные веера наряду с утилитарной своей
функцией опахала были и важным женским украшением.
КОСТЮМ КАК ЦЕЛОЕ
Мы рассмотрели основные предметы городской
одежды. А как сочетались эти предметы в быту? Что представляло собой это
сочетание или, как сейчас говорят, ансамбль – городской костюм? Каковы были его
разновидности, отличавшие горожан разного пола, возраста, разного положения в
городском обществе? В костюме рядового горожанина были важные черты, сближавшие
его с крестьянским, что обусловливалось происхождением городского костюма от
сельского и единством народной культуры. Но состав городского костюма был
сложнее, он включал больше предметов (см. цветную вклейку).
Рубаха и порты составляли его основу. А. В.
Арциховский считал, что именно этот минимальный комплект назывался в древности
«руб» (Арциховский, 1948, с. 237). Но, выходя на улицу, горожанин надевал еще
свиту. Одежду дополняли шапка и сапоги. Интересен перечень носильных вещей в
расписке, выданной в первой половине XIII в. новгородским ростовщиком неким Гришке
и Косте: «А Гришки кожюхе, свита, сороцица, шяпка. А Костина свита, сороцица. А
сапоги Костини, а дроугии Гришкини» (НБГ, № 141, 1958, с. 17). Здесь перечислен
весь комплекс мужского костюма, за исключением штанов: сорочка, свита, шапка,
сапоги, кожух. Вероятно, рубаха, а может быть, и свита подпоясывались поясом.
Из приведенных выше упоминаний в источниках того времени известно, что
горожане, как и крестьяне, носили на улице также безрукавный плащ – вотолу.
Одежда верхушки горожан – феодалов и богатых
купцов – дополнялась многими предметами, которых не носили ни крестьяне, ни
городские низы. Это относилось по преимуществу к верхнему платью, надевавшемуся
как в комнатах для торжественных приемов, так и при выходе на улицу. Только
князь Святослав Игоревич, простота образа жизни которого подчеркивалась и
русской летописью, мог явиться на свидание с византийским императором в
нарочито небогатой одежде. Князь и его свита были, по-видимому, в холщовых
белых рубахах и портах. Убранство головы князя – усы и длинный чуб – «оселедец»
– похожие на то, что позднее было известно у запорожцев. Единственный предмет
роскоши – золотая трехбусинная серьга в одном ухе.
Но в том же X в. арабский писатель Ибн-Фадлан
отмечал, что погребальная одежда знатного славянина очень богата. На
изготовление ее уходит примерно треть оставшегося имущества. «Они

12. ГОРОЖАНЕ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ XII – XIV ВВ.:
1 – знатный мужчина в свите и вотоле, XII в. (с
миниатюры Радзивилловской летописи); 2, 3 – ритуальный танец. Женщина в вышитой
рубахе и поневе, мужчина в свите и четотах (по изображению на браслете XII в.);
4, 5 – мужчины в свитах (с инициалов новгородских рукописей XIV в.); 6 –
всадник в свите и в сапогах, на поясе – калита (там же); 7 – новгородский
ремесленник XIV в. (по изображению мастера Авраама на Сигтунских вратах)
надели на него шаровары, и гетры, и сапоги, и
куртку, и хафтан парчовый с пуговицами из золота и надели ему на голову шапку
из парчи соболевую» (Ибн-Фадлан, с. 80 – 81). Если оставить пока в стороне
термины, естественные в устах восточного писателя: (например, «хафтан»,
«шаровары» или «калансува» – шапка), то мы увидим здесь довольно полный
комплект одежды древнерусской знати: штаны и рубаху (которая здесь, возможно,
названа курткой, – переводчик в примечании 145 отметил условность термина),
ноговицы и сапоги, верхнюю нарядную распашную одежду с драгоценными пуговицами
и шапку с собольей опушкой. Не упомянут только верхний безрукавный плащ –
корзно. Впрочем, несколькими строками ниже Ибн-Фадлан говорит, по-видимому, как
раз о таком плаще, которым славянин «покрывает один свой бок, причем одна из
его рук выходит» наружу.
Древние изображения феодалов позволяют
представить себе силуэт парадного княжеского костюма: длинное до икр корзно,.
из-под которого видны облегающая тело свита и цветные сапоги; довольно высокая
полусферическая, опушенная мехом шапка. Корзно и свита – из дорогих
византийских материй, обшиты галунами (сравни рис. 12, /). Узоры и оттенки
таких различных" частей княжеского костюма подбирались очень тщательно.
Самыми нарядными считались одежда и обувь разных оттенков красного цвета –
червленые (киноварные) и багряные (карминные) (Арциховский, 1948, с. 248, 252 –
255), и самое слово «красный» означало, как известно, «красивый».
Женский богатый костюм состоял из длинной (до
щиколоток) рубахи, поверх которой надевали одно, а иногда и несколько» платьев,
причем верхнее было короче нижнего и с более широкими рукавами, так что были
видны богато украшенные подол и обшлага рукавов нижней одежды, образуя как бы
ступенчатый силуэт. Дополняли одежду золотой пояс, длинный, застегивавшийся на
правом плече плащ, похожий на корзно, повой и цветные сапоги (см. цветную
вклейку).
Головной убор богатой горожанки украшали
драгоценные колты, в ушах были серьги, на шее – гривны и ожерелья из бус
художественной ювелирной работы, на руках – широкие массивные браслеты. В
костюме богатой древнерусской горожанки мы не находим ни поневы, ни племенных
украшений.
Об одежде рядовых горожан XIII – XV вв. мы можем
судить в основном по изображениям (рис. 12, 4 – 6). Весьма важны орнамент и
инициалы новгородских рукописей XIV в., где встречаются чрезвычайно
реалистические изображения1 горожан, преимущественно без головных уборов, в
довольно коротких – до колен – верхних одеждах, скроенных в талию, подпоясанных
кушаками; рукава одежд в некоторых случаях короткие (может быть, засучены?),
из-под них видны узкие, облегающие руку рукава рубах. Художник показал и
вышивку (или пристежные запястья?). Рубаха обычно другого цвета, чем штаны
(например, белая с желтым поясом и синие штаны; есть и темно-синяя рубаха). Все
горожане обуты в сапоги разных цветов (Стасов, табл. 69, № 7, 12, 13, 17, 24 и
др.).
К XIV в. относится и знаменитый скульптурный
автопортрет новгородского мастера-литейщика Авраама в верхней распашной одежде
типа свиты или зипуна, подпоясанной поясом (в три оборота с кистями) и
достигающей колен. Узкие штаны заправлены в сапоги (рис. 12, 7). В XVI – XVII
вв. костюм рядового горожанина состоял из нижних портов и сорочки, верхних
рубахи и штанов, зипуна или кафтана, подпоясанного кушаком. Уличное верхнее
платье составляли в холодное время шубный (меховой) кафтан или овчинная шуба,
на голове – шапка (довольно дорогая), на руках – рукавицы, на ногах – сапоги.
Кафтан и зипун нередко были сермяжными, т. е. из домотканого грубого сукна. При
этом мы не находим существенных территориальных различий: в Воронеже, Москве,
Шуе, Угличе, Нижнем Новгороде, Новгороде Великом встречен все тот же перечень
предметов мужского костюма (см. приложение III).
Сильнее различался женский костюм. Надо сказать,
что материалы о нем более скудны, чем о мужском, но даже у бедных женщин
(включая семью кабального холопа) ни в одном городе не названа понева, хотя,
как мы видели раньше, в сельских местностях южнее Москвы она еще широко
бытовала. В XVI в. в городе прочно утвердился комплекс женской одежды с
сарафаном (в различных вариантах).
Еще одним важным отличием городской одежды от
крестьянской было четкое выделение в ней одежды, специально изготовленной для
детей. В письменных источниках XVII в. мы находим не только «рубашки ребячьи»
или «детинные», но и «два кавтанца дорогильные детинные». И «шуба баранья
децкая новая» и даже «тафейка ребячья сукно красное» (АЮБ, т. III, № 329, стб.
270 – 272; АШ, № 61, с. 42). Правда, эти упоминания редки и обычно относятся к семьям
зажиточным, но все же нужно думать, что если дети крестьян и даже городской
бедноты и бегали в одних рубашках, то для детей феодалов и вообще зажиточных
людей шили одежду в общем такую же, как и для взрослых. Детскую одежду
рекомендуется шить на вырост, «кроячи да загибати вершка по два и по три на
подоле и по краям и по швам и по рукам, и как вырастает годы два или три или
четыре и, распоров то платно, и загнуть, оправив – опять станет хорошо» (Д.,
31, с. 30). Относительно обуви это можно сказать еще более определенно, потому
что находки детской кожаной обуви при археологических раскопках часты. Детям
шили такие же сапоги, как и взрослым (Колчин, Янин, 1982, с. 84). При раскопках
поэтому можно найти, например, перед большого мужского сапога, из которого
вырезана маленькая детская подошва. Обращает на себя внимание гамма цветов:
например, у женщин – зеленый сарафан, красный летник с зелеными с золотом
вошвами, торлоп темного меха с голубыми вошвами, капор темного меха (см.
приложение III).
Пожалуй, не менее «рискованное» сочетание цветов
можно было увидеть и в мужском костюме. Например, зажиточный горожанин мог
надеть в холодный осенний день поверх рубахи однорядку вишневого цвета, на нее
– желтую ферязь с красными завязками и кистями, сверху – лазоревую
епанчу-дождевик: и шапку темного собольего меха с красным верхом (Селифонтов,
разд. А, № 36, с. 6). Все это дополнялось цветным кушаком и сапогами, чаще
всего тоже цветными (см. приложение III).
Чем богаче и знатнее был горожанин, тем больше предметов
одежды он надевал одновременно и тем роскошнее были эти предметы. Покрой их был
в общем таким же, как и у рядовых горожан, но материал и отделка несравненно
дороже. Известная загадка о кочане капусты: «Семьдесят одежек, все без
застежек» – возможно, навеяна когда-то мыслями о костюме городского богатея
(хотя этот костюм как раз украшало множество пуговиц и петель, но застегивались
далеко не все). Верхние мужские и женские сорочки, штаны, тафьи, убрусы, кички,
сороки и кокошники поражали богатством серебряного и золотого1 шитья и
драгоценных украшений, так же как женские шубка-сарафан и душегрея, мужские
зипун и кафтан. Остальные разнообразные верхние одежды, которые мы уже
описывали, обычно простонародьем вовсе не употреблялись (за исключением однорядок
и простых шуб).
Петровские реформы в области одежды коснулись
первоначально только высших слоев горожан – дворянства и богатого купечества.
Для этих социально-сословных групп поворот к ношению западноевропейского
костюма был резок и сопровождался, как известно, насильственными мерами
правительства. Короткие (чуть ниже колен) штаны – кюлоты – с чулками и
башмаками на высоких каблуках или с высокими ботфортами при широком
кафтанообразном жюстокоре с узкой нарядной вестой под ним, пышный парик – кудри
(лишь с середины XVIII столетия – гладко зачесанный, с косой и буклями), шляпу
с плюмажем в русскую холодную зиму носили зачастую с меховой шубой старого
образца. В дальнейшем и верхняя одежда, приобрела западноевропейский покрой
(см. рис. 13).
Еще сильнее изменился женский костюм. «В моде»
были женщины рослые. Пышные декольтированные платья сочетались с высокими
пудреными париками, с открытой обувью на очень высоком каблуке. Мужчины на
светских приемах казались как-то мельче женщин.
Нужно сказать, что после некоторого
неудовольствия господствующие сословия довольно быстро восприняли новую одежду
и с большим старанием следовали последней западноевропейской моде в течение
всего четвертого периода. Однако возможности далеко не всегда соответствовали
желаниям, и даже в середине XIX в. корреспонденты Географического общества, в
особенности из малых городов, неоднократно отмечали, что при всем стремлении
«благородных» следовать парижской моде они все же отставали от нее иногда
довольно значительно и в целом одевались по моде «вчерашнего дня».
Что же касается средних и низших городских
сословий – значительной части купечества и всего мещанства, то даже в новой
столице – Санкт-Петербурге – они продолжали одеваться по-старому. «Собственная
российская одежда обоего пола, – писал в конце XVIII в. академик И. Георги, –
сохранилась в древнем своем виде не только у простого народа, но и у большей
части людей среднего состояния... видны в столице, невзирая на иностранные
моды, купцы и другие, совершенно так одетые, как в областях внутри государства,
с бородою или без бороды и проч.» (Георги, с. 604). Вместе с тем новые веяния в
одежде не могли не коснуться вовсе жителей столицы, но преломлялись в русской
городской среде своеобразно. «Многие, однако же,, последуют в их одежде разным
чужестранным обычаям, – писал И. Георги далее. – Но простой народ ничего чужого
в своей одежде не имеет». Он отмечал, что женщины среднего состояния менее
привержены к старине, чем мужчины, «и часто видно, что муж да сыновья носят все
российское, а женщины в доме чужестранное и самое модное платье» (Георги, с.
605).
Однако позже в развитии одежды горожанок
наблюдались две противоположные тенденции. В середине XIX в. повсюду женщины и
особенно девушки одевались (употребляя выражение одного корреспондента
Географического общества) «щегольливее» мужчин, но понятие щегольства в одних
городах было связано со следованием по возможности последней западноевропейской
моде, а в других – с подчеркнутым стремлением сохранить и украсить старинный
русский костюм. Наряду с областными различиями большую роль здесь играли и
различия возрастные и социальные. Так или иначе, в большинстве городов и в
середине XIX в. можно было увидеть женщин из средних и низших, а иногда и
зажиточных слоев горожан в сарафане, вышитой верхнице, в традиционном головном
уборе (повойнике, кокошнике, даже в рогатой кике), в сапогах или котах. Иногда
это было большинство горожанок; чаще – преимущественно' пожилые женщины, а в
дворянских домах – женская прислуга (в особенности кормилицы и няни, которых
одевали в нарядное «русское» платье).
По-видимому, к четвертому периоду относится
развитие парочки – женского костюма – из юбки и кофты одинаковой материи.
Прослеживаются, как сказано, и древние корни этого костюма: сарафан носили с
душегреей, а во второй половине XVII и в XVIII в. – юбку с бострогом. Головной
убор при этом значительно облегчался – женщина могла надевать один повойник или
позже – головной платок.
В северных русских городах видна относительно
большая сохранность старинного женского костюма, в особенности традиционной
манеры украшать одежду жемчугом. Но это была лишь. общая тенденция, от которой
бывали значительные отклонения: начал уже распространяться головной платок, а
девушка, стремившаяся пленить «современного» молодого человека, выходила к нему
«в кисейной белой юбке, при голубом полушубке» (АГО 1,
В заводских поселках и городах Урала, где
население было более смешанным, поскольку на заводы переселяли крестьян из
разных мест, можно было увидеть и традиционный костюм южных губерний (с
поневой), который, впрочем, долго не удержался (Крупянская, Полищук), поскольку
быстро распространялась городская одежда – парочка. В русских городах Поволжья
в середине XIX в. так же, как на Севере, праздничным был костюм с сарафаном.
Например, на масленицу еще в 1850-х годах ката-


13. ГОРОЖАНЕ XVIII – XIX ВВ. ПО ЛУБОЧНЫМ
ИЗОБРАЖЕНИЯМ:
1 – мужчина и женщина в «немецком» платье,
женщина – в бостроге и юбке, мужчина – в кафтане, коротких штанах, чулках и
башмаках; 2 – уличные разносчики (Москва, XIX в.); 3 – сватовство. Невеста и
жених в европейских костюмах, сваха – в повойнике и шали, XIX в.
лись в шубках и сарафанах ярких цветов и «разных
раззолоченных фактах», а то и в кокошниках. Но на вечорки девушки ходили в
платьях, «одна другой наряднее»: «самая последняя мещанка норовит завести салоп
и шляпку» (АГО 14, №
В середине XIX в. часто писали о том, что
горожанки вообще одевались лучше, чем мужчины в их семьях (рис. 14). «Женщины
же и особенно девицы одеваются щегольливо. Отец в черном кафтане, в лаптях, а
дочка в платье, в шали, в косынке, в серьгах и перстнях, на ногах нитяные чулки
и башмаки» (АГО 14, .№71, л. 2).
Вместе с тем велики были и различия в одежде
горожан бедных и зажиточных. Так, корреспондент Географического общества из г.
Галича Костромской губ. отмечал, что платье у горожан сильно различается «по
состоянию»: богач выходил в бобровой шапке, в лисьем тулупе нараспашку
(показывая мех); из-под тулупа виднелась пара – сибирка и штаны. Его жена шла в
наклоне – кокошнике с гребнем или сборнике, в жемчужных украшениях на груди и
руках. В середине века появилась мода на

14. КОСТЮМЫ ГОРОЖАН СЕРЕДИНЫ XIX В. ПО РИСУНКАМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:
1 – г. Валуйки; 2 – г. Белозерск
длинные шубы с муфтами, головные платки поверх
кокошника. Выходной костюм более бедного горожанина отличался скромностью
верхней одежды – шляпа или картуз, тулуп (вероятно, овчинный. – М. Р.), крытый
сукном или крашениной; горожанка среднего достатка надевала круглый кокошник,
парчовый полушубок, шелковый или ситцевый сарафан. «Черный народ» одевался
почти как крестьяне. Зимой мужчины носили простой тулуп – крытый или даже
нагольный, суконный серый армяк или нанковый халат, на голове – чеплашка –
круглая шапочка; женщины зимой и летом – полушубки, сарафаны из ситца или
набойки (АГО 18, №
Для мужского городского костюма на протяжении
всего рассматриваемого тысячелетнего периода характерно сочетание узкой,
облегающей, плотной, зачастую накладной одежды с надеваемой поверх нее широкой,
по большей части распашной. Если на первом и втором этапах это были свита и
вотола (или еще какой-либо плащ), то на третьем – зипун и кафтан, а на
четвертом – веста и жюстокор, жилет и сюртук. Последний вариант сохраняется и в
дальнейшем, переходит в XIX – XX вв. Подол рубахи по-прежнему выпускали поверх
штанов. Штаны заправляли в голенища кожаных сапог, а при плетеной обуви,
которую носили очень редко, – в онучи. Выходя на улицу, горожанин надевал шапку
и широкую верхнюю одежду (в теплое время – из материи, в холодное – на меху).
Разнообразие верхней одежды мы показали выше.
Развитие мужского костюма шло в городах по линии
увеличения числа предметов, надеваемых одновременно. При этом социальные
различия как в составе, так и в манере ношения костюма сказывались сильнее, чем
территориальные. Как во второй период (XIII – XV вв.) и новгородец и киевлянин
носили свиту, так в четвертый период (XVIII – XIX вв.) зажиточный мещанин из
Кадникова Вологодской губ. или из Павловска Воронежской губ. носил сюртук, в
Мезени Архангельской губ., в Миасском заводе Пермской и в Новозыбкове
Черниговской губ. – сибирку. Но бедный горожанин мог и на улице быть в одной
свите или кафтане, имел в лучшем случае один кожух или однорядку, зажиточный
же, выходя из дома, надевал обязательно верхнюю уличную одежду, зачастую
несколько одежд одну поверх другой (например, в XVII в. – однорядку, а в XIX в.
– халат поверх шубы). Шапка бедного горожанина была, как и раньше, низкая,
круглая, из простого меха или валяная, горожане побогаче носили шапки из более
дорогих мехов; среди высших слоев горожан в XVIII – XIX вв. отмечены треуголки
и цилиндры. В этот период у разных слоев горожан распространились также
головные уборы с козырьками (у бедных - простые картузы, у чиновников и военных
– нарядные форменные фуражки). То же можно сказать и об обуви: лапти носили
только самые бедные и то не везде (в середине XIX в. в ответах на Программу
Географического общества лапти и чуни упомянуты только в четырех городах –
Пудоже, Калягине, Ядрине и Мензелинске), а разноцветные щегольские сапоги характерны
для костюма богатой молодежи. Но были и территориальные различия, обусловленные
климатом: валяная обувь упомянута в XIX в. и только в северных городах –
Кадникове, Верховажском Посаде.
За четыре столетия комплект одежды бедного
горожанина, как мы видели, не слишком расширился. Думается, что почти не
изменились и покрой одежды, и облик того, кто ее носил: ведь мы уже говорили,
что кафтан – это та же свита, а баранья шуба не что иное, как овчинный кожух,
но, вероятно, крытый дешевой материей. Даже в середине XIX в. в городах
встречались еще мужчины, одетые в свиту, в кафтан, в кожух, тулуп, в баранью
шубу, причем если кафтан упомянут в корреспонденциях Географического общества
всего девять раз, а свита только шесть (преимущественно в южных городах,
расположенных ближе к Украине, то кожух, тулуп и шуба названы на всей
теорритории Европейской России и встречались, по-видимому, одинаково часто.
Реформы конца XVII – начала XVIII в., как уже
было сказано, коснулись в основном верхушки тогдашнего общества. Рядовые
горожане еще долго продолжали одеваться по старой традиции, и даже в конце
XVIII в. в самом Петербурге «люди среднего состояния одевались совершенно так,
как в областях внутри государства» (Георги, с. 604 – 605).
На полвека позже В. Г. Белинский различал в
городе одежду мещан, купцов и дворян. Купцы носили «длиннополый сюртук синего
сукна и ботфорты с кисточкою, скрывающие в себе оконечности плисовых или
суконных брюк» (Белинский, с. 66). В одежде столичных мещан (красная александрийская
или ситцевая рубаха-косоворотка, нанковые или суконные штаны, заправленные в
выростковые сапоги, широкая верхняя одежда – нечто среднее между кафтаном и
сюртуком, картуз или пуховая шляпа, зеленые перчатки, пестрый шейный платок) он
отмечал сильное влияние иностранной одежды, причем «равно изуродованы и русский
и иностранный типы» (Белинский, с. 68 – 69).
Еще лет через двадцать в г. Торопце свадебная
песня так описывала «хорошенького» дружку (видимо, несколько архаизированный
образец провинциального щеголя): «На друженьке сапожки козловые... рубашка
батистовая, штаны черно-бархатные... носочки бумажные... жилетка атласная... на
шеюшке платочек ровно аленький цветочек... кафтан серонемецкого сукна»
(Семевский, 1864, с. 108). Корреспондент Географического общества сообщал в
В г. Михайлове Рязанской губ. носили цветную
сорочку, шаровары, жилет, длиннополый сюртук или казакин. Теплой одеждой
служили меховой сюртук, поддевка, чуйка, крытый синим сукном овчинный тулуп.
Горожане позажиточнее надевали лисьи шубы, и только у молодых купцов имелись
новомодные енотовые шубы (АГО 33, №
Костюм рядовых горожан Поволжья был в середине
XIX в. ближе к крестьянскому. Это отмечал и корреспондент Географического
общества, писавший из г. Ядрина в
В средней полосе в середине XIX в., как отмечают
Л. А. Анохина и М. Н. Шмелева, сословные различия в одежде горожан «были
довольно заметны»: мещане носили холщовые рубахи, пестрядинные или нанковые
порты, заправленные в сапоги, свиты или поддевки, лишь в праздник – сюртуки; в
непогоду и в холодное время – сермяжные кафтаны, чуйки, халаты, тулупы, т. е.
костюм, в целом сходный с одеждой окрестных крестьян, которые, однако, носили
лапти, а сапоги только по праздникам. Мещане побогаче и купцы носили ситцевую
рубаху, плисовые шаровары, заправленные в смазные сапоги, белый галстук, жилет,
короткую поддевку из тонкого сукна или полубархата, старики – иногда «русский»
кафтан, шитый в талию, длиной до колен, но большинство мужчин носили уже
суконные сюртуки (Анохина, Шмелева, с. 170 – 171). Особенно хорошо видны
сословные особенности мужского костюма в корреспонденции
Мы видим, таким образом, что в середине XIX в.
костюм русского горожанина в разных сословиях сохранял еще значительные
традиционные элементы, но приближался постепенно к так называемому среднеевропейскому.
Это название применяется нами условно, с учетом изменений костюма каждой страны
под действием моды, в результате взаимных влияний в процессе общения соседних и
отдаленных народов между собой. Процессы эти шли и в глубокой древности (вспомним
культурное влияние античных цивилизаций), но для восточной Европы особую
важность имел период XVI – первой половины XIX в., в который укладываются
намеченные нами третий и четвертый этапы развития русских городов. Россия в
этот период все более активно включалась в европейскую жизнь как в
экономической и политической, так и в культурно-бытовой сфере.
Влияния здесь были взаимными, судьба отдельных
явлений бывала иногда весьма занимательной. Например, пушкинский Евгений Онегин
надевал, как известно, для прогулки «широкий боливар», т. е. широкополую
фетровую шляпу; кажется, в наши дни, один из вариантов такой шляпы вновь входит
в моду не только у мужчин, но и у женщин. Но ведь Боливар – это политический
деятель даже не Европы, а Латинской Америки, по имени которого и в наши дни
называется целая страна – Боливия. Боливар был в начале XIX в. весьма популярен
и в Европе – и вот широкополая европейская фетровая шляпа, попавшая в Америку,
надо думать, еще с испанскими завоевателями, дошла до Петербурга уже под его
именем.
В процессе формирования общеевропейской моды
большую роль играла и традиционная одежда народов Европы, причем степень ее
влияния на соседей, на те или иные сферы быта, на Европу в целом зависела
зачастую от факторов политических и культурных. Законодателями мод становились
то Италия, то Испания, то Франция, а то население какой-нибудь менее
значительной страны. Например, в России во второй половине XVII в. были в моде
особого покроя кафтаны, называвшиеся венгерскими, а в XVIII – начале XIX вв. на
военную форму кавалерийских частей разных стран Европы оказал влияние
традиционный венгерский праздничный костюм.
Влияния такого рода передавались обычно через
города (в особенности столичные). Но в ряде случаев можно проследить и влияние
на городской костюм традиционной одежды соседних народов, как городской, так и
крестьянской. Примером этого служит сохранение названия «свита» для мужской
верхней одежды и «плахта» для женской набедренной одежды в городах, близких к
Украине.
ОДЕЖДА В СЕМЬЕ И В ОБЩЕСТВЕ
От прялки до сундука.
Дома. На улице.
Прическа и борода.
Сословная
и форменная одежда
Многообразные функции одежды особенно ясно
сказываются в условиях города с его сложным этническим и социальным составом
населения, чрезвычайно развитой общественной и домашней жизнью. Наряду с
утилитарной своей функцией – защиты от неблагоприятных нынешних условий –
одежда очень рано становится важнейшим признаком социального положения человека,
его этнической принадлежности, с ней связываются также представления о защите
не только от сил природы, но и от разного рода сверхъестественных сил и
существ, которыми воображение наших предков так обильно населяло окружающий
мир. В этих своих функциях – престижных и сберегательных – собственно одежда
тесно сливается с украшениями и амулетами, воспринимается самим владельцем и
окружающими как целая система важнейших знаков. Это необходимо учитывать при
рассмотрении вопросов, связанных с ролью одежды во взаимоотношениях людей дома,
на работе, на улице, в гостях.
На всех этапах своего развития во всех слоях
общества одежда требовала больших затрат труда и средств, высоко ценилась. Для
бедного человека его подчас нищенское платье было, пожалуй, еще более дорого,
чем для богача его роскошный наряд. Городская семья стремилась всеми силами
обеспечить каждому своему члену одежду, приличествующую его положению в
обществе, а это требовало немалых затрат.
О громадной ценности одежды богачей в X – XVII
вв. мы уже говорили. В середине XIX в. на одежду тратилась почти половина
средств среднего горожанина, так писал в
ОТ ПРЯЛКИ ДО СУНДУКА
Изготовление и хранение одежды было важной
хозяйственной проблемой как в доме бедного горожанина, где поддержание на
должном уровне количества, качества и ассортимента платья требовало зачастую
большой изобретательности, поскольку потребности значительно превышали
возможности семьи, так и в богатом доме, где на первом месте стояли требования
престижа семьи в целом и отдельных ее членов, а драгоценная одежда была также
надежной сферой помещения излишков средств.
Прядение и ткачество, шитье и вышивание были
обычным рукоделием женщин богатых и бедных, хозяек и служанок. «А которая
женщина рукоделечна, – говорится в Домострое, – и той указати рубашка делати
или убрус брати, или ткати, или золотное или шелковое пяличное дело» (Д., ст.
29, с. 28). Здесь речь идет, видимо, о служанках, но издавна были в городах и
ремесленники, мастера и мастерицы соответствующих профессий. Л. В. Черепнин
предполагает, что уже в XIV в. существовала профессия вышивальщицы (Черепнин,
1969, с. 244 – 246). Домострой рекомендует горожанину держать также «мастера
свои портные и сапожники» и всякий нужный для них инструмент: «снасть...
портного мастера и сапожная» и для женского рукоделия «ино что себе изделал
никто не слыхал, в чюжой двор не идешь» (Д., ст. 41, с. 40). Для изготовления и
хранения одежды, материй и пр. он дает подробные инструкции, которых, как видно
из некоторых актов (см. приложение III), горожане обычно придерживались.
Дочерям с самого рождения следует готовить приданое:
«А полотен и од оувусчин и оу ширинок и од вубрусов и рубашек по вся годы ей в
пришенной сундук кладут и платье, и саженье и монисто и святость и суды...
прибавливати не по множку не вдруг, себе не в досаду». Рационалистически
настроенный составитель Домостроя тут же пишет, что если дочь умрет девушкой,
то все это пригодится «на помин души» (Д., ст. 16, с. 14).
В четвертый период домашнее изготовление одежды
уже не преобладает, но имеет все же для городской семьи (особенно у рядовых
горожан) немалое значение. В частности, дома старались делать нижнее белье. Л.
А. Анохина и М. Н. Шмелева отмечают, что в средней полосе Европейской России в
середине XIX в. зажиточные горожане (прежде всего «благородные» – дворяне,
чиновники, отчасти и купцы) стремились заказывать одежду и обувь у известных
мастеров, шивших не только по петербургским и московским, но и по зарубежным
модам, а то и ездили заказывать и покупать туалеты в столицы (в частности, из
Калуги в Москву) или «выписывали» модную одежду из заграницы. Порой это
ложилось тяжелым бременем на бюджет семьи. Но были в городах и мастера
«попроще», обслуживавшие рядовых горожан (конечно, уже на ином уровне – по
установившимся шаблонам). Наименее обеспеченные горожане покупали как новое,
так и подержанное, даже чиненое платье и обувь (Анохина, Шмелева, с. 168 –
169).
Такое же положение было, по-видимому, и в других
русских городах, с той разницей, что по условиям расположения одни из них
тяготели к Москве, другие – к Петербургу, третьи – к губернским центрам.
В семье ценили владевших искусством шитья.
Девушек учили теперь если уже не прядению и ткачеству, то шитью. И конечно,
особенно ценилась невеста, умеющая хорошо шить и вышивать. Недаром престижными
свадебными подарками у рядовых горожан все еще были рубахи, полотенца, ширинки
и иные предметы туалета ее работы.
Как и в древности, содержание в порядке одежды и
в особенности регулярная стирка были предметом особой заботы хозяйки. И если в
бедной городской семье этим занималась сама хозяйка, ее дочери и снохи, то «в
достаточном доме, где большое семейство», среди прислуги имелась специальная
прачка и были одна или даже две комнаты, отведенные для стирки, катанья и
глаженья белья и платья. Требовалось, чтобы прачечная была светлой, просторной,
«с печью, в которой вмазаны 1 – 2 котла для воды и щелока; там же, – пишет К.
А. Авдеева, – стоит кадка для воды, корыта и лоханки для стирки, за
перегородкой (или в отдельной комнате) каток и стол, утюги и обшитые сукном
гладильные доски, корзины для белья и шкаф, где висят выглаженные вещи. А если
комната достаточной величины, то в ней может помещаться и прачка» (Авдеева,
1851, ч. III, с 1-2).
ДОМА
Сложившиеся обычаи и бережное отношение к одежде
определяли и своеобразную градацию предметов одежды и костюма в целом сообразно
конкретной ситуации. В городской семье различалась одежда рабочая, повседневная
и праздничная. Это отметил еще Домострой, предписывавший даже слугам в богатом
доме иметь по крайней мере три перемены платья: ветшаное (старое) – -для
работы, чистое вседневное – надевать перед хозяином и лучшее – «в праздник и
при добрых людях или с государем где быти» (Д., ст. 22, с. 19 – 21), т. е., как
мы бы сейчас сказали, «выходное». Уже из этого перечня видно, что речь идет преимущественно
о степени изношенности платья: в старой, «ветшаной» одежда работали, новая была
праздничной, повседневная образовывала, так сказать, середину. Стало быть,
одежда рабочая, будничная и праздничная различалась в большинстве случаев не
покроем, а ценностью, степенью изношенности.
Если сведения Домостроя относятся к третьему
этапу развития городов, то и на четвертом этапе положение мало изменилось: в
середине XIX в. в г. Торопце различали платье доброе, под-доброе, третье тоже
не по покрою, а по ценности (Семевский, 1870.с. 127).
Но нужно сказать, что это касалось в основном
средних и бедных горожан. Для верхушки городского населения положение было
иным. В частности, роскошная праздничная одежда феодалов и богатых купцов вряд
ли часто нисходила на две последующие ступени, и трудно представить себе,
например, именитого гостя Строганова где-нибудь в соляном амбаре в старой, но
раззолоченной шубе и горлатной шапке. Подобные предметы, как мы видели, особо
береглись и передавались по наследству. Вспомним, что и Наталья Саввишна из
«Детства» Л. Н. Толстого завещала дедушкин мундир тому из господских сыновей,
кто прежде будет офицером (Толстой Л. #., т. 1, с. 97). Сама она, видимо,
получила его в подарок от барина или его наследников. Между тем какой-нибудь
средней руки купец в XIX в. запросто надевал в будни поношенный, когда-то
модный праздничный сюртук. Тем более мещанин или мастеровой мог донашивать дома
и на работе праздничную цветную рубаху.
Дома, в семье, при отсутствии посторонних
одежда, конечно, облегчалась. И мужчины, и женщины могли носить неполный
костюм. Однако существовал необходимый минимум одежды, в которой должны были
быть друг перед другом мужчины и женщины, члены одной семьи. В. О. Ключевский
предполагал, например, что женщина могла снять дома некоторые части своего
сложного тяжелого головного убора – кику, кокошник, оставив, однако, волосник
или повойник (Ключевский, с. 192), чтобы волосы были целиком закрыты. Это было
связано с представлением о вредности для окружающих, и прежде всего для мужчин,
женских волос, против чего существовали даже заговоры (АГО 2, №
Расшитая верхняя рубаха считалась приличной
домашней одеждой мужчин и женщин даже у феодалов и зажиточных горожан. Но
нижняя сорочка, особенно для женщин, считалась одеждой интимной, в которой
женщина могла, например, быть при муже, но не при свекре. Возможно, что
обязательность верхней рубахи обусловливалась наличием на ней вышивки-оберега.
Относительно обуви у русских, кажется, не было никаких домашних правил.
С какими-то обязательными требованиями к женской
одежде связана, по-видимому, и семейная драма Ивана Грозного. По некоторым
данным, домашняя ссора, окончившаяся убийством сына царя – царевича Ивана
Ивановича – началась из-за того, что беременная жена царевича оказалась
недостаточно одетой, когда неожиданно вошел свекор – «в одной простой рубашке»
(Соловьев, т. VI, с. 323). Следует ли это понимать так, что на царской снохе не
было расшитой «верхницы» и сарафана (т. е. что не было вышивки-оберега), или
буквально – что рубашка была ее единственной одеждой (т. е. что не было и
головного убора), сказать трудно. Так или иначе здесь отразилось представление
о необходимом минимуме домашней одежды. Если же мы вспомним тогдашние
представления о вредности женских волос и вообще о нечистоте беременной
женщины, требовавшей обязательно оберегов, одним из которых являлась вышивка,
можно догадаться, что вызвало первоначальное раздражение мнительного царя
(Рабинович, 1981, с. 137 – 140).
Но в целом в домашнем быту в XVI в. сам государь
одевался иногда совсем не роскошно и даже очень посредственно, что заметил,
например, Ченслер (Ченслер, с. 59).
В XVIII – XIX вв. у рядовых горожан и у купцов
обычаи одеваться в домашней обстановке, кажется, не изменились; если женщина
носила вместо традиционного головного убора головной платок, она оставалась в
нем и дома. Что же касается тех, кто добровольно или по принуждению стал носить
«немецкое» платье, то дома они снимали парики и, по-видимому, многие
переодевались в русское платье. В. Г. Белинский отмечал позже некоторую экстравагантность
домашней одежды дворян, которые «у себя дома без гостей» могли носить татарский
халат или архалук, сафьяновые сапоги, ермолку. Другие же «ходят в пальто, в
котором могут без нарушения приличия и принимать визиты запросто. Одни следуют
постоянно моде, другие увлекаются венгерскими, казачьими шароварами и т. п.»
(Белинский, с. 70 – 71). Экстравагантная домашняя одежда считалась даже
престижной. «Бедный итальянец смутился... Он понял, что между надменным dandy,
стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате,
опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстухе
и поношенном фраке, ничего не было общего» – так описывает А. С. Пушкин в
«Египетских ночах» прием Чарским заезжего импровизатора (Пушкин, т. VI, с.
376).
Гостей принимали, конечно, в лучшей одежде. То
же можно сказать и о семейных обрядах. Специальной обрядовой одежды у русских
горожан до XIX в. не было. Но обычаи и разного рода правила предписывали в
определенных случаях определенный костюм.
Ритуальная одежда, употреблявшаяся славянскими
жрецами, в точности не известна. Волхвы, изображенные на миниатюрах
Радзивилловской летописи, одеты так же, как и рядовые крестьяне или горожане.
Пышная одежда, в которой отправляло церковную службу русское православное
духовенство, как известно, сложилась под влиянием Византии. Материи и дошедшие
до нас предметы облачения высшего духовенства XIV – XVII вв. описаны в изданиях
Оружейной палаты (Левинсон-Нечаева, 1954), и подробная их характеристика не
входит в нашу задачу.
Рядовые же горожане выполняли общественные и
семейные обряды по большей части в обычной своей одежде, но лучшего качества,
богаче украшенной, что называется – выходной.
Специально изготовлялись для ритуала лишь
крестильная рубашечка с поясом (подарок от крестной матери), зачастую
хранившаяся потом всю жизнь, платьице для девочки или рубашка для мальчика на
постриги, широкие браслеты для русальских плясок, фата для невесты (в XIX в.),
белые или красные туфли для умирающих, саван для покойников (Рабинович, 1978а,
с. 242, 250, 251, 265 – 266). Описания известной процессии, имитировавшей въезд
Христа в Иерусалим, упоминают, что тем ее участникам, которые должны были
бросать под ноги «осла» «одежды», выдавались для этого куски материи
(Рабинович, 1978а, с. 120 – 121). Источники не сообщают, что упомянутые
предметы имели существенные отличия по покрою или материалу от носимого в то
время платья.
Саван представлял собой очень длинную рубашку из
тонкого полотна (понявицы) (Срезневский, т. III, стб. 239). Он должен был быть
и широким, так как зачастую надевался поверх обычного платья или белья.
Известные отличия должна была иметь и погребальная обувь.
Остальная одежда, употребляемая при ритуалах,
была в общем такой же, как повседневная. Но возможно, что в тех случаях, когда
одежда предназначалась для обряда (например, для «мыльни» новобрачных), при ее
изготовлении пользовались несколько иными, чем для обычной одежды, старинными
приемами, например особым швом, мелкими стежками и пр. (Маслова, 1984, с. 127).
Одежда обычного покроя при совершении обряда дополнялась какими-либо деталями,
например вышитыми ручниками, платками-ширинками, шалями (Рабинович, 1978а, с.
224; Маслова, 1984, с. 127), или же предпочтительным считался определенный цвет
свадебного убора – красный сарафан с желтым летником, красное платье. Так уже в
XIX в. сваха, идущая с брачным предложением в дом, где имелась девушка на
выданье, надевала старинный островерхий кокошник, а поверх него шаль, спускающуюся
на спину; красный сарафан был символом свадьбы (сравним известный романс того
времени «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»), а в XVIII в. знатная
москвичка могла быть погребена в красном подвенечном платье (Рабинович, 1951,
с. 62, рис. 14 б).
Вообще погребения женщин в уборах с характерными
для данного древнего племени украшениями археологи связывают с обычаем хоронить
в том, в чем венчали, бытовавшим у славян, по крайней мере, с X в. Летописное
повествование о том, как Владимир Святославич, решив казнить Рогнеду, приказал
ей одеться, как в день «посяга», т. е. в свадебный наряд (ПСРЛ I),
предполагает, что свадебный убор хранился «на смерть». Этот обычай существовал
и в XIX в., хотя и не был обязателен. Таким образом, свадебный наряд (или части
его, например, у мужчин – рубаха, у женщин – также и украшения) во многих
случаях был специальной обрядовой одеждой, которую в быту не'употребляли. Но
есть и иные примеры: одежда, сшитая для свадьбы, могла потом надеваться вообще
по праздникам. Это отмечено и у южных славян. Исследователь пишет, что рядовой
софиянин в конце XIX в. в праздник надевал свой подвенечный костюм, благодаря
чему выглядел зачастую одетым по моде «вчерашнего дня» (Георгиев, с. 224).
При традиционном трехдневном праздновании
свадьбы Домострой предписывал разнообразную одежду. В первый день свадьбы,
когда совершались народный и церковный обряды бракосочетания, невеста, свахи, а
возможно, и все женщины – участницы свадебной церемонии должны были быть в
красных сарафанах и желтых летниках; жених и другие мужчины – в «цветном» (по
возможности золотном) платье, обязательно в кафтанах (кажется, предпочтительно
в терликах). На второй день при определенных обстоятельствах за столом можно
было верхнее платье снять (Рабинович, 1978а, с. 31).
Цветному праздничному платью противополагалось в
XVI – XVII вв. платье смирное – того же покроя и качества, но более темных
цветов: черного, гвоздичного, вишневого, коричневого, багрового, надеваемое в
печальных случаях – в знак траура или (у придворных) царской опалы (Савваитов,
с. 128). Смирное платье бывало, по-видимому, у людей зажиточных, в другое время
одевавшихся нарядно. Но, судя по позднейшим данным, вдовы должны были всегда
одеваться в темное; старухи носили головные уборы и сарафаны темных цветов.
Одним из знаков печали была и белая рубаха (Маслова, 1984, с. 96). В XIX в.
траурная одежда была преимущественно черного цвета (иногда носили и черную
повязку на костюме иного цвета – как, например, Достоевский носил траур по Пушкину).
В начале этого столетия выходной фрак щеголя был коричневым, зеленым, синим со
светлыми пуговицами. Распространение в качестве парадной одежды черных фраков и
сюртуков Ю. М. Лотман относит к более поздним годам и связывает с модой на
романтизм (Лотман, с. 158 – 159). Купцы, мещане, мастеровые предпочитали
верхнюю одежду синего или серого цвета.
НА УЛИЦЕ
Выходя на улицу, надевали верхнее платье
соответственно погоде, своему социальному положению и цели, для которой
выходили. В целом количество и качество платья обусловливало, как мы бы сейчас
сказали, престиж человека. Недаром издавна существовала поговорка, что
встречают по платью. Это обстоятельство и определило большую изменчивость
верхней уличной одежды по сравнению с нижней и верхней комнатной. Рядовой
горожанин, как правило, носил на улице по крайней мере свиту и шапку. Древний
обычай, согласно которому мужчины снимали шапки в знак уважения, сохранился в
течение всего рассматриваемого периода. В конце XVII в. Б. Таннер отмечал, что
при появлении царя все снимали шапки даже на улице (Таннер, с. 108). С другой
стороны, торжественная обстановка требовала возможно более полного (по
социальному положению данного лица) костюма. Поэтому в XVI – XVII вв.
придворные должны были быть во дворце в парадной верхней одежде, даже в
помещениях – в шубах и горлатных шапках (под которыми, как мы знаем, была
надета еще тафья). Так бояре, например, заседали в Думе.
Иван Грозный на всю жизнь запомнил, что один из
князей Шуйских в период его малолетства появился при дворе в недостаточно
роскошной шубе (ПК.Г, с. 134). Если бояре одевались в свою собственную одежду,
то дворянам и детям боярским роскошная верхняя одежда для приемов,
торжественных встреч и иных церемоний выдавалась во временное пользование из
царской казны. «Около двух часов явился пристав, одетый в соболью шубу, крытую
зеленым шелком, – писал в конце XVII в. И. Корб, – эту шубу получают они при
исполнении особых поручений, под условием возвращения, из царской казны, как бы
из сокровенной кладовой» (Корб, с. 84). В делах Оружейной палаты сохранилось
много сведений об изготовлении большого количества единообразных одежд для
различных групп свиты при торжественных выходах царя. В
Для разного рода процессий также выдавались из
царской казны одежды.
Можно сказать, что всегда были особые
эстетические взгляды на одежду, представления о том, что именно и как следует
носить, как должен выглядеть нарядный человек или щеголь. Представления эти,
разумеется, менялись. Так, в конце XVI в. были модны у мужчин шитые в талию,
ясно обрисовывавшие фигуру верхние одежды. В начале XVII в. голландский
резидент Исаак Масса писал, что тон московским щеголям задавали братья Романовы.
«Старшим из братьев был Федор Никитич, красивый мужчина, очень ласковый ко всем
и такой статный, что в Москве вошло в пословицу у портных говорить, когда
платье сидело на ком-нибудь хорошо: «второй Федор Никитич». Он так ловко сидел
на коне, что всяк видевший его приходил в удивление. Остальные братья походили
на него» (Масса, с. 42). Таков был в молодости будущий патриарх и правитель
государства Филарет. Примерно через полвека в моде были полные мужские фигуры
(что отметил, как уже сказано, Олеарий) и щеголи специально подпоясывались не
по талии, а ниже, чтобы обрисовывался живот. Весьма престижным считалось носить
как можно более высокую шапку, и тот, кто не мог носить горлатной шапки,
старался иметь хотя бы мурмолку. Карикатурный образ щеголя XVI – XVII вв. дал
знаток древнерусской культуры А. К. Толстой: «Ходит Спесь, надуваючись, с боку
на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью, шапка-то на нем во
целу сажень, пузо-то его все в жемчуге, сзади-то у него раззолочено...»
(Толстой А. К., т. 1, с. 243). Вошедшая в XVII в. в моду плотно охватывавшая
ногу обувь с загнутым кверху носком и высоким каблуком отразилась даже в
представлениях об облике древних былинных героев.
ПРИЧЕСКА И БОРОДА
Большое значение придавалось также прическе и
убранству лица. Мужчины в первый и второй периоды развития городов (в IX – XV
вв.) носили относительно длинные (иногда до плеч) волосы, которые причесывали
по-разному (например, в Новгороде заплетали в одну косу) или подстригали, как
говорили позже, «в кружок» и «в скобку». В областях, соседствовавших с Украиной
и Польшей, выбривали на макушке «гуменцо» даже в XIX в. В XVI – XVII вв. в
среде городской знати распространился обычай коротко стричь волосы, связанный с
ношением тафьи.
Представление о том, что все мужчины в
допетровское время обязательно носили бороды, кажется преувеличенным. До XVI в.
ношение бороды, как и темный цвет одежды, не было обязательным даже для
духовенства (Гиляровская, с. 103 – 105). На древних книжных иллюстрациях часты
изображения безбородых мужчин (в частности, новгородский биричь – лицо
должностное – также без бороды). Все же бороду до XVIII в. носило, видимо,
большинство мужчин. В одном акте XVII в. перечислены приметы нескольких
десятков шуян. Более двух третей из них носили бороды (писец дополнял, велика
или мала борода и какого цвета); о безбородых сказано, кто бреет бороду, кто
«сечет» (вероятно, подстригает) (АШ № 51, с. 95 – 96). Носить бороду, скорее
всего, было принято у людей солидных, на возрасте. Мужчины помоложе могли и не
носить бороды. Бороду и волосы полагалось отпускать также опальным. В случаях
не стриглись, не брились и не причесывались. Можно думать, что в более ранние
времена это было вообще знаком печали, траура.
Введя обязательное бритье бород для дворян и
военных, Петр I разрешил мужчинам, принадлежавшим к другим сословиям, носить
бороду; но за такое разрешение с более зажиточных взимался единовременный
взнос, свидетельством об уплате которого являлся специальный жетон с надписью:
«За бороду деньги взяты».
Девушки носили волосы либо распущенными, либо
заплетали их в одну косу не туго, так как красивой считалась толстая и длинная
коса; иногда волосы завивали – «гладковолосая девка» по тогдашним
представлениям могла принести вред окружающим. (Об этом упоминали некоторые
заговоры) (АГО 2, №
Очень стойкой оказалась манера женщин
злоупотреблять косметикой – белилами, сурьмой и пр. Еще в XVI в. Флетчер
заметил, что белила покрывают лица русских женщин сплошь, а сурьмой наведены
глаза, брови (Флетчер, с. 125). «Белила, румяна и сурьма, – писал на два с
половиной столетия позже о московских мещанках В. Г. Белинский, – составляют
неотъемлемую часть их самих, точно так же, как стеклянные глаза, безжизненное
лицо и черные зубы. Это мещанство есть везде, где только есть русский город,
даже большое торговое село» (Белинский, с. 69). Подобные сведения, но без такой
эмоциональной окраски поступали в Географическое общество из некоторых северных
русских городов в середине XIX в., о чем уже говорилось.
Однако эта столь сильно возмущавшая В. Г.
Белинского манера была свойственна не одним мещанкам. Из «Евгения Онегина» мы
узнаем, что белилами не гнушались и дворянки («Все белится Лукерья Львовна»,- –
сказано о какой-то московской барыне (глава VII, строфа 45)). На то, что всякие
косметические снадобья были в большом ходу, указывают частые находки в
культурном слое городов XVIII – первой половины XIX в. характерных аптечных банок
для этих притираний. Такая порожняя банка даже служила А. С. Пушкину
чернильницей.
СОСЛОВНАЯ И ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА
Знаковые функции одежды особенно ярко
проявлялись в костюме высших сословий. Не раз упоминались уже характерная
княжеская шапка, золотые пояса новгородских «господ», горлат-ные боярские
шапки, золотные шубы и пр.
Костюм богатого горожанина вообще был весьма
престижным. Чрезвычайно важным считалось в торжественных случаях быть в русском
платье даже иноземцам. Например, Марина Мнишек венчалась в
Реформы одежды конца XVII – начала XVIII в.
весьма серьезно повлияли на отношение к манере одеваться в общественных местах.
Люди служащие не могли появляться в «присутствии» в старинной одежде, но
обязаны были надевать «немецкое» платье, парики, а с появлением гражданской
формы – и форменные мундиры, о которых речь впереди. Естественно, что и для
посетителей разного рода учреждений более престижной стала новая одежда. На
ассамблее гости – мужчины и женщины – могли быть одеты скромно в смысле
ценности наряда, но обязательно по-европейски. В церкви же, вероятно, можно
было увидеть и новые, и традиционные костюмы, и сам Петр I, входя в церковь,
снимал не только шляпу, но и парик (Покровский, с. 241).
Что же касается народных гуляний, хороводов и т.
п., то здесь продолжал господствовать традиционный костюм. Для большинства
горожан «немецкое» платье не было обязательным и в конце XVIII в. «Кто про себя
живет и от других не зависит, – писал И. Георги, – может без всякого
поругательства одеваться по древнему обычаю и столь странно, как ему угодно»
(Георги, с. 604 – 605). Подобную картину можно было видеть и в Москве.
Все же политика правительства в XVIII в. оказала
серьезное влияние на изменение манеры одеваться: ношение европейской одежды
распространялось.
Большое влияние на развитие эстетических
представлений б одежде и на понятие о престижности костюма оказало введение
разного рода форменной одежды. Прежде всего это была военная форма. Возникнув в
глубокой древности в связи с необходимостью различать по внешности бойцов
враждующих сторон, командиров и бойцов (первые упоминания о таких различиях на
Руси относятся к X в. и связаны, в частности, с новгородцами и киевлянами )
(Рабинович, 1974, с. 94 – 96), форменная военная одежда получила более широкое
распространение в XVI – XVII вв., когда было учреждено стрелецкое войско.
Стрельцы получали казенную форменную одежду – шапку-колпак с узкой меховой
опушкой, длинный (до лодыжек) кафтан, сапоги (см. рис. 15, 2), причем каждому
стрелецкому «приказу» (полку) было присвоено особое сочетание цветов шапки,
кафтана (и петлиц), сапог. Э. Пальмквист приводит сведения о 14 вариантах такой
формы (например, кафтан красный с малиновыми петлицами, шапка темно-серая,
сапоги желтые; кафтан рудо-белый с зелеными петлицами, шапка малиновая, сапоги
зеленые. – Гиляровская, с. 92 – 94). Кроме стрельцов, форменную одежду имели в
XVI – XVII вв. также царские телохранители – рынды, в торжественных случаях
надевавшие белые кафтаны и высокие белые же шапки, жильцы – как мы бы сейчас
сказали, конная гвардия, разного рода возницы. Последние назывались
терлишниками, так как носили особого рода терлики с изображением двуглавого
орла на груди и на спине (Левинсон-Нечаева, 1954, с. 314 – 318). Все это было
платье традиционного рус-

15. ОФИЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА XVI – XVII ВВ.:
1 – посол в жалованной шубе, XVI в. (Герберштейн
С); 2 – стрелец (по рис. XVII в.)
ского покроя. Особенное значение в городском
быту приобрела стрелецкая форма, так как стрельцов было много и в мирное время
они смешивались с горожанами, занимаясь ремеслами и торговлей. Городская улица
или торг пестрели в ту пору стрелецкими кафтанами.
В конце XVII в. Петр заказывал для своих
«потешных» какие-то особые «потешные кафтаны» (как думают исследователи, просто
более короткие, чем стрелецкие. – Левинсон-Нечаева, 1954, с. 326), но затем
ввел для солдат форму европейского образца. С ликвидацией стрелецких полков в
военной форме исчезли последние черты традиционной русской одежды. Форма же
европейского образца распространилась широко. В XVII – XIX вв. русская военная
форма была ярких цветов, с высокими головными уборами и множеством украшений.
Защитная военная форма появилась позднее рассматриваемого нами периода. Вслед
за военной формой распространилась форма гражданская, также европейского
покроя. Ее носили многочисленные чиновники различных ведомств. И. Георги
описывает, в частности, мундир Санкт-Петербургской губернии, который в конце
XVIII в. носили все служащие, кроме почтовых, и «знатные мещане»: светло-синий
кафтан с блестящими пуговицами, «исподнее же платье белое» (Георги, с. 604).
Форма была присвоена и воспитанникам казенных учебных заведений.
В задачу настоящей работы не входит
характеристика различных вариантов военной и штатской форменной одежды (см.,
например: Висковатов; Зайончковский, № 865 – 867, 869, 1909). Для нашей темы
важно лишь то, что в городах – как столичных, так и губернских и уездных –
повсюду встречались люди, одетые в форменные мундиры, и что престиж формы был
очень высок в России, пожалуй даже выше, чем в Западной Европе. Если, например,
во Франции придворный костюм был не военный, то в России в военном мундире
можно было явиться и ко двору, и в театр, и на бал (Лотман, с. 157). Вспомним
рассуждения по этому поводу грибоедовского Скалозуба. Известна приверженность к
мундиру самого царя Николая I, выражавшего, например, неудовольствие тем, что
А. С. Пушкин появился при дворе в штатском и избегал надевать мундир
камер-юнкера.
К форменной одежде тяготели высшие круги горожан
– не только дворяне, но и некоторые представители буржуазии, охотно надевавшие
разного рода мундиры, присвоенные каким-либо почетным должностям. Что же
касается рядовых горожан, то их традиционный костюм изменялся под влиянием
моды, как о том говорилось выше. Древняя традиция сказывалась и в том, что
мужчины по-прежнему часто по разным случаям, например при встрече со знакомыми,
обнажали голову (у военных от этого обычая осталось приветствие – «отдача
чести» прикладыванием руки к головному убору) и могли, хотя это встречалось не
часто, появляться на улице вообще без головного убора. Женщины же обязательно
должны были быть на людях (и особенно в церкви) с закрытыми волосами. И
сохранившаяся до нашего времени «привилегия» дам не снимать, например в гостях,
головного убора выглядит совсем иначе, если вспомнить древние представления о
вредоносности женских волос. И конечно, как и в древности, высок был престиж
кожаной обуви. Мы уже видели, что корреспонденты Географического общества
отмечали лапти как обувь стариков и бедняков. Шуточная подблюдная песня,
записанная в середине XIX в. в г. Торопце, содержит пикировку подружек: женихи
«к тебе будут в лаптях, ко мне – в сапогах» (Семевский, 1864, с. 67).
Духовные лица в быту одевались так же, как и их
прихожане, но поверх обычного платья священники носили в XVII в. однорядку, а в
XVIII – XIX вв. – рясу с широкими воротом и рукавами. Под нее надевали
подрясник – более узкую одежду с длинными рукавами. Дьячки и вообще низший
церковный причт носили подрясник как повседневное платье. Однако костромской
епископ еще в
3
СТОЛ ГОРОЖАНИНА
Питание – одна из важнейших проблем для любого
народа. В этой сфере отражаются многие черты народной жизни в целом: охотники
питаются не так, как скотоводы или земледельцы. «Человек есть то, что он ест»,
– говорили когда-то. Что ели русские горожане – рядовые и более зажиточные? Что
готовилось в боярской поварне и в печи ремесленника в мясоед и в пост, в будни
и в праздники? Как обставлялось столованье богатых и бедных? Какую утварь можно
было увидеть в хижине и во дворце?
ГЛАВНЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ КУШАНЬЯ И НАПИТКИ
ОБЕД И УЖИН
РИТУАЛЬНАЯ ЕДА
УТВАРЬ
Деревня была для города питательной средой во
всех отношениях – в этническом, социальном, культурном и не в последнюю очередь
в буквальном смысле. Главнейшие черты пищевого рациона, а поначалу в
значительной мере и сам порядок питания зависели от хозяйства окружающей город
территории. Это в особенности надо иметь в виду, рассматривая первый этап
развития городов.
Население города долгое время и само еще не было
чуждо сельскохозяйственных занятий, используя для них как общественные
городские земли и водоемы, так и свои усадьбы. В дальнейшем, по мере того как
горожане отрывались от сельского хозяйства, все большее значение приобретал
привоз продуктов (прежде всего из ближайших окрестностей и лишь в ограниченном
количестве – из дальних земель). Вместе с тем, как нам случилось уже показать,
сельскохозяйственные занятия горожан, в свою очередь, вносили много нового в
земледелие и иные хозяйственные занятия окрестных сельских жителей (Рабинович,
1978а, с. 53 – 54). В силу всех этих обстоятельств в питании русских горожан и
крестьян было много общего, но существовали и известные различия.
Питание подавляющего большинства русских горожан
определялось развитием в стране сельского хозяйства, которое с самого начала
изучаемого нами периода носило ярко выраженный земледельческий характер. Но тут
необходимо иметь в виду, что в течение этого тысячелетия русские расселились по
огромной территории с ландшафтами, значительно различающимися и представляющими
далеко не одинаковые возможности для ведения хозяйства, что на характер
хозяйства влияли и местные особенности социально-экономического развития, и
взаимосвязи с различными соседями. Следовательно, и в пище горожан неизбежно должны
были сказаться как общий земледельческий характер страны, так и областные
особенности сельского хозяйства.
Естественно, что сведения о пище горожан
распределяются неравномерно. Если для четвертого из намеченных нами этапов
развития городов (XVIII – первая половина XIX в.) они обильны и подробны, а для
третьего (XVI – XVII вв.) – несколько менее обильны, но тоже в общем
достаточны, то для первых двух этапов (IX – XIII и XIII – XV вв.) и в
особенности для IX – X вв., для которых почти совсем нет еще письменных
источников, приходится составлять представление о питании горожан на основании
весьма отрывочных данных.
ГЛАВНЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ
Растительные.
Мясные и молочные.
Запас
Состав продуктов, употребляемых для
приготовления пищи у русских горожан, как и у крестьян, определялся ярко
выраженным зерновым характером земледелия.
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Зерновое направление сельского хозяйства
обусловило решительное преобладание в питании горожан разного рода мучных и
крупяных продуктов. Прежде всего нужно назвать зерновой хлеб, жито – рожь,
пшеницу, употреблявшиеся преимущественно после размола, в виде муки.
В городских усадьбах, в особенности на первом и
втором этапах развития городов, часты находки ручных мельниц – жерновых
поставов из двух небольших круглых жерновов – нижнего неподвижного и верхнего,
вращающегося вокруг оси. Судя по тому, что на верхнем жернове обычно нет
отверстия для ручки, вращение его осуществлялось с помощью обода. С конца
второго этапа находок жерновов (если не считать некоторых ремесленных
производств) становится меньше и учащаются сведения о наличии в городах водяных
мельниц и о специалистах-мельниках в составе городского населения (Кочин, 1937,
с. 188), что говорит о постепенном переходе горожан от домашнего помола зерна к
пользованию услугами специалистов либо же о приобретении на рынке готовой муки.
Помимо изготовления муки, зерно пшеницы
употреблялось иногда и в вареном виде, а зерна ржи, ячменя, овса, проса – и для
изготовления хмельных напитков – браги или пива.
Овес, ячмень, гречиха, просо, горох
употреблялись для питания людей преимущественно в вареном виде (различные каши)
после обдирки (рушения) оболочки, а зачастую и дробления. Для того и другого
служили обычно деревянные ступы с пестами.
Состав зерновых продуктов значительно разнился
по областям. Шире всего была распространена рожь – только на севере она в
древности уступала место ячменю. На юге и юго-западе (особенно на третьем и
четвертом этапах) основным хлебным злаком стала пшеница. По-видимому, узкий
ареал распространения имел древний сорт пшеницы – полба. Овес, просо и гречиха
возделывались повсеместно. Из бобовых культур был широко распространен горох,
лучше выдерживавший заморозки (Кочин, 1965, с. 218 – 223).
Лен и конопля, собственно говоря, были не
пищевыми, а техническими культурами. Но из них получали широко употреблявшиеся
в пищу растительное льняное и конопляное масло (алей).
К полевым культурам относилась также репа,
которую ели сырой и из которой готовили разнообразные кушанья, о чем речь
впереди. Репа на протяжении почти всего рассматриваемого нами периода играла в
питании горожан и крестьян огромную роль, уменьшившуюся лишь с распространением
картофеля.
Картофель появился в России в середине XVIII в.,
но широкое его распространение относится уже ко второй половине XIX в. В
городах же на четвертом этапе их развития (в XVIII – середине XIX в.) картофель
употребляли довольно часто как вареным, так и жареным. Относительно высокая
цена картофеля (в
Из огородных продуктов наибольшую роль играла
белокочанная капуста. Еще в XV в. огород в целом называли капустником (Кочин,
1937, с. 140). Капусту варили и жарили, квасили впрок (рубленой и кочанной).
Огурцы ели свежими и солили на зиму. Огородной культурой была в древности
свекла, которую выращивали преимущественно в южнорусских областях. В качестве
приправы обильно употребляли лук и чеснок, хрен. Широко применялись также
редька, морковь. На третьем этапе упомянут впервые мак; на четвертом –
подсолнух. Как уже говорилось, огородничество было более развито в городах, чем
в сельской местности, и окрестные крестьяне покупали овощи зачастую на
городском рынке (Рабинович, 1978а, с. 59 – 62). В XVIII – XIX вв. это могли
быть овощи как с местных городских огородов, так и привозные, из других
городов. Известно, например, что Ростов, Муром, Владимир, Юрьев Польской и
другие города древнего Ополья снабжали овощами всю Центральную Россию (Милое).
Кроме огородных овощей в современном понимании
этого слова, в пищу шли сырые и различным образом приготовленные овощи в
древнерусском понимании этого слова, т. е. фрукты. Среди них были и собственно
огородные культуры, выращиваемые на грядках, – дыни, а на юге – арбузы. Древняя
Русь, кажется, вовсе не знала бахчей, в начале XVI в. австриец Гербер-штейн с
восхищением описывал, как московиты в своей северной стране умеют выращивать на
грядках дыни, которые так любят тепло (Герберштейн, с. 98). Наиболее
распространенными садовыми культурами были яблони, вишни, малина (редкий сад
бывал без малинника), в меньшей степени – сливы и груши.
Немаловажное место в пище горожан занимали и
продукты, собранные в лесу: грибы, ягоды, орехи. В особенности это можно
сказать о небольших северных городках, где лес подступал зачастую почти к
самому городскому валу. Здесь горожане находились почти в таких же благоприятных
для собирательства условиях, как и крестьяне. Из лесных ягод следует назвать в
первую очередь малину, землянику, чернику, бруснику, на севере – клюкву,
морошку, голубику, из луговых растений дикий лук – черемшу. Дикорастущие травы
не упомянуты в качестве продуктов, но, например, такие из них, как щавель,
должны были употребляться издавна. Известно было лечебное применение
"грав, цветов, листьев и их настоев (например, липового цвета). Посетивший
Московию в конце XVI в. англичанин Флетчер упоминал, что здесь родятся яблоки,
груши, сливы, вишни (красные и черные), дыня (Флетчер ее не знал и описал как
плод, похожий на тыкву, но слаще), малина, земляника, брусника, а из зерновых –
пшеница, рожь, ячмень, овес, просо («почти как рис»), гречиха, из стручковых – горох
(Флетчер, с. 11).
МЯСНЫЕ И МОЛОЧНЫЕ
Мясную и молочную пищу горожане, как и
крестьяне, получали в основном от животноводства (Цалкин). Охота на крупного
зверя, дававшего значительное количество мяса, была привилегией феодалов, а мелкая
дичь не играла в питании рядовых горожан значительной роли, составляя
деликатес, доступный преимущественно зажиточным. Мясо кабанов, оленей, лебедей,
рябчиков, даже зайцев, как увидим ниже, появлялось почти исключительно на столе
богатых горожан. Рядовые горожане на севере употребляли преимущественно
баранину, на юге – свинину. Говядину и телятину ели реже. Конина (по крайней
мере, на втором – четвертом этапах) считалась у русских нечистой, ее не ели
совсем, кроме особых обстоятельств, когда нельзя было достать не только другого
мяса, но вообще никакой другой еды. Известный палеозоолог В. И. Цалкин считает,
что в древности лошадиное мясо употреблялось в пищу и только рост
хозяйственного и военного значения лошади привел к отказу от этого. Однако
отмеченное им сокращение количества лошадиных костей в кухонных остатках
славянских поселений относится еще ко второй половине первого тысячелетия н. э.
(Цалкин, с. 146 – 147), т. е. к периоду догородскому. Да и сами упоминания об
употреблении в пищу конины говорят об исключительности этого явления у русских,
а не о широком его бытовании.
В целом пища русских горожан была довольно бедна
мясом, хотя и несколько обильнее, чем крестьянская. Здесь, безусловно, сыграли
роль и религиозные запреты – посты, о которых речь впереди. Сейчас нужно только
отметить, что рыба считалась едой полупостной – это и обусловило чрезвычайно
широкое употребление ее в пищу. В древности большие и малые водоемы Руси
изобиловали рыбой. В начале XVII в. шведский резидент Петр Петрей деЭрлезунда
отмечал, что в реках Карелии ловится замечательная семга, идущая даже для
царского двора, что Волга изобилует белорыбицей и т. п. «Там же, – писал он, –
ловится рыба с длинным острым носом и маленьким круглым ртом: таковы севрюга,
осетрина, лосось, стерлядь. Рыба эта превосходного вкуса, а в низовьях Волги –
в Астрахани замечателен сом, от которого в пищу идет только хвост, а остальное
– на выварку сала» (Петрей, с. 53, 80). Промышленная добыча и экспорт икры
отмечалась, по крайней мере, с XVI в. Упомянутый уже нами Флетчер писал, что
«икру добывают в большом количестве на реке Волге из рыб белуги, осетра,
севрюги и стерляди. Купцы французские, нидерландские, отчасти и английские
отправляют много икры в Италию и Испанию» (Флетчер, с. 13). Но осетровые рыбы
водились и в мелких реках бассейна Волги, например, в Москве-реке, где ныне не
водятся уже несколько сот лет. Так что выбор для питания высококачественной
рыбы практически не был ограничен. В культурном слое городов часты находки
рыболовных крючков, блесен, грузил, поплавков, что свидетельствует (Рабинович,
с. 65) не только о промышленном лове рыбы, но и о широком распространении
индивидуального рыболовства для личных нужд.
Молоко в русских городах, как и в сельской
местности, употребляли преимущественно коровье; большую часть городского стада
составляли коровы. Козье и овечье молоко, по всей вероятности, тоже было
знакомо издавна, но существенного значения в питании не имело, а кобылье молоко
– кумыс, как и конину, обычно в пищу не употребляли.
Молоко пили натуральным и квашеным
(простокваша); из кисломолочных продуктов широко применялись сметана (забела),
сыр (как в значении «творог», так и в современном значении этого слова), масло.
Большую роль в питании всего населения Древней
Руси, и в частности горожан, играл мед. Это был практически единственный
продукт, который можно было употреблять так, как мы теперь употребляем сахар.
Все сладкие блюда и напитки изготовлялись на меду: добывать сахар из свеклы
тогда не умели. В древности мед назывался также сот. Добывали его как из бортей
– естественных ульев диких пчел, так и разводя в специальных ульях пчел
домашних. О бортничестве в городах на раннем этапе их развития говорят и
находки особых, так называемых древолазных шипов, прикреплявшихся, по всей
вероятности, к обуви для облегчения подъема к древесным дуплам. Стекавшую с
медовых сот самотеком «медовую слезу» называли патокой.
Кроме местных продуктов, которые, как видим,
были достаточно обильны и разнообразны, в пищу (преимущественно у богатых) шли
привозные плоды и фрукты (в частности, лимоны), а также острые приправы – перец
и горчица. О ввозе еще в древности горчичного семени свидетельствует находка
конца X в. – византийская амфора с надписью «гороухща» (т. е. «горчица»), найденная
в Гнездовском могильнике поблизости от современного Смоленска (Авдусин,
Тихомиров, 1950; Рабинович, 1984, с. 13 – 19).
ЗАПАС
Нам остается сказать еще немного о заготовке
продуктов впрок и их хранении.
Непременной частью городской усадьбы были, как
сказано в очерке 1, клеть и погреб. В клети хранились продукты, портившиеся не
очень скоро, в погребе – скоропортящиеся.
Жито и вообще обмолоченные зерновые продукты
хранились как в клети, так и в специально вырытой яме (РП, ст. 39), а также в
подклете дома. Если в первых двух случаях речь может идти о засыпке навалом или
в какой-нибудь мягкой таре, то в открытом раскопками подклете дома хлебника XV
в. в Москве зерно хранилось в бочках и бочонках (Рабинович, 1964, с. 212).
Вообще хранение сыпучих продуктов в деревянной клепаной или плетеной таре
(коробьях) было распространено широко. Мясо в северных областях, где зима
долгая и суровая, обычно замораживали (скот забивали преимущественно поздней
осенью, чтобы не расходоваться на корм зимой), в южных – солили, коптили,
вялили; сало – перетапливали. Соленую говядину называли солониной, соленую и
копченую свинину – ветчиной. Рыбу также коптили, солили, вялили. Для хранения
сушеных и ветряных (вяленых) мяса и рыбы в городских усадьбах бывали
специальные наземные постройки – сушила, располагавшиеся зачастую на уровне
второго этажа (Рабинович, 1975, с. 209).
Овощи впрок солили и квасили. Находки в погребах
XV – XVI вв. днищ от бочек с прилипшими огуречными зернами свидетельствуют о
засоле огурцов. Капусту квасили рубленой или кочанной и также хранили в бочках
и погребе. Там же хранились соленые грибы, моченые ягоды и фрукты,
разнообразные напитки.
О том, что и как должно было храниться в погребе
богатого городского дома XVI в., красноречиво повествует Домострой. Составитель
Домостроя настоятельно рекомендовал «государю хозяину» иметь в доме запас
продуктов больше, чем требуется семье на год, «питья и яствы хлебново,
воложново, мясново» (следует длинный уточняющий список), потому что «чего не
ро-дилося или дорого – ино тем запасом как даром проживет... ино в дороговлю и
продаст: ино сам ел и пил даром, а денги опять дома» (Д., ст. 44, с. 44). Такой
запас требовал особой заботы. В богатом городском доме XVI в. в житницах и закромах
хранится запас «всякого жита» – солод, рожь, пшеница, овес; «мука и всякий
запас»: ржаные и пшеничные сухари, хлебы, калачи, горох, конопля, гречиха,
толокно; напитки: пиво, вино, брага, квас, кислые шти, а также разного рода
высевки, отруби, гуща всякая, дрожжи, хмель, мед, масло, соль (Д., ст. 51, с.
51 – 52). «А в погребе и на ледниках и в напогребнице» – хлебы, калачи, сыры,
яйца, забела, лук, чеснок, мясо свежее и солонина, рыба свежая и соленая, икра,
мед «пресной», огурцы, капуста соленая и свежая, репа и всякие овощи; в рассоле
под гнетом – слива, лимоны, ягоды, огурцы; в патоке – груши, вишни, яблоки,
запасы ставленного рассола, морс, квас яблочный, брусничная вода, меды всякие,
уксус, пива сыченые и простые, брага, наконец – вина фряжские и горячие (т. е.
водка). «А всякое лутчее питье в ином погребе за замком держат» (Д., ст. 54, с.
52). В сушиле хранятся в рогожах и крошках (корзинах) сушеная рыба – ва-ндыш
(снеток) и хохоль, мясо полтевое (т. е. части туши), солонина ветряная, полотки
(куски мяса), языки, прутовая рыба, пластовая рыба и вообще всякая вяленая рыба
(Д., ст. 53, с. 52).
Все запасы требуют постоянного наблюдения и
неусыпной заботы: «Мясо такоже и рыбу всякую – на провес и бочесную в год и
семжину и икру сиговую и черную и которая рыба в лето ставити, и капуста – и те
суды зиме в лед засекати и питье запасное глубоко и, покрыв лубом, засыпать, и
коли надоби лете и тогды свеже и готово» (Д., ст. 42, с. 41), «оуксус и
огуречный росол и лимонной, и сливовой – все бы цежено и ситце, и огурцы, и
лимоны, и сливы также бы очищено и перебрано (Д., ст. 49, с. 48). Если заметят,
что какие-либо продукты начали портиться, то их следует либо есть в первую
очередь, либо кому-нибудь одолжить, либо, наконец, раздать нищим (Д., ст. 63, с.
61).
Мы видели, что Домострой предполагает большую
замкну-тось домашнего хозяйства, которое должно иметь у себя все необходимое.
Но это хозяйство уже тесно связано с рынком, и запасы делают с учетом рыночной
конъюнктуры. В дальнейшем, по мере развития товарно-денежных отношений, растут
возможности регулярной покупки продуктов, и только очень крупные хозяйства
(например, царский двор) по-прежнему держат запасы на несколько лет, используя
для их создания широкий круг разнообразных рынков. На всяком сколько-нибудь
значительном торжище делались (непосредственно царскими людьми или местными
властями по царскому указанию) закупки для царского двора. Так, в
Не знаешь чему здесь больше удивляться –
богатству северной Архангельской ярмарки, где можно было купить разные
деликатесы едва ли не со всего мира, или искушенности царских поваров,
прознавших про эти диковинки разных сортов.
Котошихин писал, что царские запасы были очень
велики. На одну только рыбу двор расходовал более ста тысяч рублей в год (сумма
по тому времени колоссальная). Из понизовских городов получали белуг и осетров
просольных, видимо, целиком (названы средние, большие и малые), рассеченных в
рассоле, вяленые осетровые и белужьи спины, в бочках икру белужью, осетровую и
сиговую, зернистую и паюсную, стерляди, ксенимасы (икру) белужьи и осетровые,
вязигу и белорыбицу вяленую «прутьем». Немного отставали в этом отношении и
северные области. Из Новгорода везли сигов и сиговью икру, из Архангельска –
семгу и лососину. Кроме всех этих солений и копченостей, привозили в большом
количестве живую рыбу – осетров, белорыбицу, лососей, стерлядь, щук, лещей,
судаков, окуней и т. п., которую держали в особо оборудованных прудах, реках и
садках. Подобным же образом везли в Москву «про царский обиход» и мясные
запасы, битый и живой скот (для содержания последнего под Москвой имелся
специальный коровий двор на 200 коров и такие же дворы в ближайших селах), битую
и живую птицу. Котошихин отмечает, что ко двору везли сыр, яйца, масло
(коровье, льняное, конопляное, ореховое), но делали сыр, масло и сметану и в
самом московском царском хозяйстве (Котошихин, с. 62 – 63).
Все же царское хозяйство, где приходилось в XVII
в. кормить и поить тысячи людей, было скорее исключением. Нечто подобное можно
было наблюдать, вероятно, в городских усадьбах богатых и знатных бояр, где
кормились зачастую сотни людей.
В городах все расширяются рыночные связи, причем
значительное число торговцев и ремесленников заняты именно производством и
продажей съестных припасов и готовых блюд. Постепенно ослабляется и замкнутость
питания семьи. Многие теперь от случая к случаю (а кое-кто и систематически)
питаются вне дома – прямо на торгу или в разного рода харчевнях. Эти процессы
развивались и в XVII и в XVIII вв., и значение домашних запасов, видимо,
несколько снизилось.
Например, в г. Курске в конце 1830 – начале
1840-х годов принято было держать уже не годовой, а сезонный запас – «на целую
зиму» запасалось не только мясо и разные соленья, но и свежие фрукты («яблоки
можно иметь всегда самыя свежия» – Авдеева, 18, 42, с. 73). Хозяйственная
книга, предназначенная для зажиточных горожан, не указывает точно срока, на
который должен быть рассчитан домашний запас, но из контекста можно заключить,
что речь идет о запасе сезонном (Авдеева, 1851, ч. I, с. 264 – 270). В середине
XIX в. жителям малых городов, где не было хорошего привоза и постоянной
торговли съестными припасами, приходилось иногда закупать продукты в соседних
городах, что приводило к необходимости иметь если не годовой, как в XVI в., то
все же довольно значительный запас продуктов дома. Например, жители Лихвина –
уездного городка Калужской губ. – в
Е. А. Авдеева рекомендовала иметь даже несколько
погребов: первый – для плодов, варений и солений – по большей части в подвале
жилого дома (в провинциальном городе это зачастую был подклет); второй – ледник
с опускной дверью и напогребицей – собственно, то же, что описано нами для XVI
– XVII вв., – отдельная постройка; многие продукты зимой и весной
рекомендовалось держать в напогребице, а летом переносить в ледник. Третий –
специально винный погреб в подвале дома, в нем бочки и бутылки; наконец,
четвертый – по сути дела, не погреб, а кладовая- – сухая комната или амбар с
окнами в решетках и ставнях для хранения (в закромах или бочках) муки, овса,
круп (Авдеева, 1851, ч. 1, с. 264-270). Из справочных цен XIX в. видно, что
многие продукты покупались оптом: например, картофель, яблоки – четвертями
(причем картофель иногда стоил в три-четыре раза дороже яблок), огурцы –
тысячами, капуста – сотнями кочанов, молоко – ведрами, мука и сахар – пудами.
При таких закупках, конечно, нужны были специальные хранилища. Между тем
печеный хлеб, разные сорта мяса, птицы и рыбы, сливочное масло покупали в
небольших количествах – фунтами, яйца – десятками, а птицу – штуками (АГО 13,
№9 – 10).
Вот как описаны возможности, которые
предоставляет горожанину в середине XIX в. рынок в молодом тогда городе Одессе:
«Все съестные припасы в сравнении с другими местами в Одессе весьма дешевы, и
чего небогатый человек в другом месте никак не может себе позволить, в Одессе
для него вещь обыкновенная (далее приведены цены на «прованское» масло,
маслины, сахар, кофе, отмечается дороговизна дров и то обстоятельство, что за
отсутствием погребов нельзя хранить малосольной рыбы и икры – приходится
употреблять их свежими. – М. Р.)... в Одессе для гастронома слились удобства и
прихоти Европы с роскошью Азии» (Авдеева, 1842, с. 87 – 90). Автор – сибирячка
по происхождению – едва может сдержать свой восторг перед изобилием
Причерноморья.
КУШАНЬЯ И НАПИТКИ
Возникнув на основе пищи крестьян, стол горожанина
в дальнейшем обогатился многими новыми кушаньями и напитками и, в свою очередь,
оказал большее влияние на развитие крестьянской пищи.
Главным кушаньем, употреблявшимся всеми:
богатыми и бедными, старыми и молодыми, духовными и светскими, ежедневно и при
каждой трапезе был хлеб. Это было настолько распространенное и необходимое
кушанье, без которого не мыслилось никакое питание, что название его стало
синонимом понятия еды вообще. В этом смысле понимались и слова известной
христианской молитвы о хлебе насущном.
Хлеб у русских с глубокой древности изготовлялся
из «кислого» (заквашенного) теста. Закваской могли служить пивная или квасная
гуща, дрожжи, наконец, кусок старого теста. После принятия христианства по
византийскому обряду в области приготовления хлеба все осталось по-старому,
поскольку и для обрядового печения православная церковь пользовалась «кислым»
тестом, утверждая, что «латинские опресноки» просто безжизненные камни. Но в
определенных случаях хлеб, видимо, выпекали и без соли. В XVII в. причины этого
были уже неясны: «А готовят на царском дворе хлебы и калачи в роздачу всяким
людям, – писал Котошихин, – без соли, не для жаления соли, а для чину такого»
(Котошихин, с. 63).
Это известие интересно сопоставить с тем, что у
некоторых народов без соли выпекался как раз ритуальный хлеб (например, «хаци
матах» у армян). Можно думать, что раздача хлеба феодалом своим подданным
носила ритуальный характер.
На севере России, где главной зерновой культурой
была рожь, рядовое население ело в основном ржаной (черный) хлеб, на юге –
пшеничный (белый). Письменные источники не содержат указаний на то, когда
появилось такое различие, но, по всей вероятности, оно, как и другие различия в
пище, коренящиеся в особенностях хозяйства, было весьма древним и существовало
еще на первом этапе развития городов, хотя уточнить распространенность сортов
хлеба не представляется возможным. Вообще же лучшим считался крупичатый белый
хлеб из хорошо обработанной пшеничной муки. «Пшеница бо, много мучима, чист
хлеб являет», – писал в XII в. Даниил Заточник (СДЗ, с. 56; Рабинович, 1966, с.
198 – 199). Помол муки и ее последующее просеивание во многом определяли вкус
хлеба. Издавна различали решетный хлеб из муки, просеянной через решето, и
лучший – ситный – из муки, просеянной через сито с более частой сеткой.
Решетный хлеб при более низком качестве давал, очевидно, выигрыш в количестве,
потому что меньше получалось отходов. Так, из 10 четвертей пшеницы получалось
муки «крупичатой» всего 2,5 четверти, а «расхожей» – 4. Хлеб из плохо
очищенного зерна назывался пушным или мякинным.
Замешанному с водой и закваской тесту давали
«подойти» в теплом месте, после чего еще раз тщательно промешивали и лишь тогда
формовали изделия. Сама форма хлеба определялась конструкцией русской печи с ее
плоским подом (существовали термины подовый хлеб, подовые пироги). Хлеб из
округлого кома хорошо взошедшего теста, сформованный на столе и выпеченный на
поду, приобретал полусферическую форму. Сверху он зачастую специально,
надрезывался, чтобы получилась хрустящая корка (Воронин, 1948, с. 264). Большой
круглый подовый хлеб назывался каравай или (на северо-востоке) коровай, а также
коврига. «А ковриго не ели, семо дешево», – писал в XIII в. находившийся где-то
в отъезде новгородец Михаль своему отцу в Новгород (НБГ, № 404; Черепнин, 1969,
с. 385). Любителю «проехаться на чужой счет» говорили позже: «На чужой каравай
рот не разевай, а пораньше вставай да свой затирай» (Даль, 1957, с. 614). В
более узком смысле слова каравай – это сдобный пшеничный хлеб. Другим видом
лучшего хлеба был калач, по-видимому с самого начала имевший фигурную форму.
Калач и несколько щук в XVII в. считались вполне достойным «посулом»
(подношением) даже думному дьяку (ТрВятУАК, т. VI/VII, с. 42).
Ассортимент хлебных изделий русской городской
кухни был очень богат с глубокой древности. Из кислого теста пекли пироги с
разнообразной начинкой – капустой, кашей (позже с картофелем), с садовыми и
дикими ягодами, с мясом, птицей, на севере – с рыбой, блины, кресты, жаворонки
и шишки, пасхи или хлеб пасочен (ритуальные печенья, о которых мы еще скажем).
Из пресного теста готовили разнообразные лепешки (на юге – кныши с маслом,
салом, каймаком, творогом), сочни, оладьи, а также пироги, ватрушки и шаньги (пироги,
открытые сверху, с творогом, картофелем или иной начинкой), колобки, наконец,
разного рода пряники на меду. «Печатный» (изготовленный в форме) пряник был,
кажется, городским изобретением (Жирнова, с. 48). Во всяком случае, в XIX в.
имели широкий сбыт начиненные пастилой печатные «тульские» и «вяземские»
пряники. Печатные пряники были весьма разнообразны по входящим в них
ингредиентам, величине, форме и орнаменту. Пряник был весьма важным аксессуаром
различных обрядов и излюбленным гостинцем.
В домашнем быту горожан хлеб и хлебные изделия
делались женщинами и пеклись в домашней печи или в печи, стоящей во дворе.
Выпечка хлеба, судя по позднейшим данным, производилась раз или два в неделю.
Составитель Домостроя приводит даже примерные нормы выпечки различных хлебных
изделии. Например, из четверти пшеничной муки получалось 20 калачей (ДЗ., ст.
64, с. 152).
Вообще хлеб предпочитали есть свежим. Черствый
хлеб неоднократно упомянут как пища аскетов, лишавших себя мирских наслаждений.
Из оставшегося зачерствевшего хлеба сушили сухари, которые употребляли потом
для изготовления различных кушаний и напитков.
Кроме хлеба, из ржаной и пшеничной муки готовили
такие продукты, как лапшу (которую сушили и впоследствии чаще всего клали в
суп) и вообще различные тестяные ингредиенты блюд (например, пельменей или
вареников). Лапша широко употреблялась в более простой городской среде.
Монастырские уставы называли восемь блюд из лапши: просто лапша, лапша с
перцем, лапша гороховая с перцем, лапша с чесноком, лапша с лососиной, лапша
молочная, лапша в молоке. По-видимому, здесь названы и жидкие и густые кушанья
(например, лапша в молоке и лапша молочная (ДАИ, т. 1, № 135-1, II, с.
215-228). Мука (особенно пшеничная) употреблялась для приготовления пищи и не
замешанной в тесто. В южнорусских землях из пшеничной муки, сначала слегка
поджаренной, а потом заваренной кипятком, готовили саламату. В XVIII – XIX вв.
сладким блюдом была кваша, для которой муку из проросших зерен пшеницы (солода)
запаривали, перемешивали с фруктами и запекали в печи. В средней России
(особенно в Калужской и Смоленской губерниях), а позже и на юге из ржаной муки,
заваренной и смешанной с ягодами калины, готовили кулагу, пропарив эту смесь в
печи. Известна была также завариха, для приготовления которой в накаленный
докрасна глиняный горшок наливали кипяток, а потом, размешивая, подсыпали муку.
Завариху сдабривали постным маслом, салом и сметаной (Дворникова, с. 394).
Из ржаной или овсяной муки, слегка подквашенной
дрожжами, готовили кисель. Овсяный кисель был известен, по крайней мере, с X
в., так как к этому времени относится знаменитая летописная притча о том, как
осажденные в г. Белгороде русские, собрав последние продукты, приготовили
овсяный кисель и, угостив им вражеских парламентеров, убедили осаждающих в
якобы неиссякаемости своих ресурсов, что привело к снятию осады (ПВЛ I, с. 87 –
88).
Остальные зерновые продукты, упомянутые в
предыдущем разделе, употреблялись преимущественно для приготовления разного
рода каш и для засыпки похлебок (отчего крупа и называлась зйспа). Остатки каш
находят при раскопках прилипшими к днищам горшков, что указывает и на способ
приготовления – варку в глиняных горшках в русской печи. Кашей называли в
Древней Руси, однако, не только крупяные блюда, а вообще все кушанья, сваренные
из измельченных продуктов. Кроме собственно крупяных каш – гречневой, пшенной
(из зерен проса), овсяной, пшеничной, источники XVI в. (ДЗ., ст. 64, с. 163;
ДАИ, т. 1, № 135 – I, II, с. 215 – 228) упоминают также хлебенную (вероятно, из
сухарей) и разнообразные рыбные каши: сельдяную, сиговую, семужью, лососью,
стерляжью, осетровую, белужью, а также кашу с головизной (видимо, из какой-то
крупы). Домострой упоминает еще о добавке в крупяную кашу суши, т. е. мелкой
рыбы – снетка. Думается, что для приготовления каши рыбу мелко крошили.
Известны также каши из смеси продуктов. Кроме упомянутой каши с головизной и со
снетком, можно назвать еще кашу гречневую с горохом или еще кашеобразное блюдо
• – сухари с хреном, а также позднейший кулеш – жидкую пшенную кашу, которую в
XVIII – XIX вв. варили вместе с картофелем, заправляли луком и растительным
маслом. Возможно, что многие из упомянутых выше рыбных каш делались с крупой.
Особо следует сказать о ритуальной сладкой каше – кутье, которая за
рассматриваемый нами период проделала любопытную эволюцию. Кутья упомянута
впервые в начале XII в. (ПВЛ I, с. 184). Первоначально она готовилась из зерен
пшеницы с медом, а в XVI в. – с маком. В XIX в. для кутьи брали уже рис и изюм,
как это делают и в настоящее время. Если древняя кутья, по-видимому,
деревенского происхождения, то более поздняя (целиком из привозных продуктов) –
городского. Устав о трапезах Тихвинского монастыря различает кутью и «коливо
сиречь пшеница варена с медом и изюмью чинена» (ДАИ 1, с. 224). Видимо, в конце
XVI в. только еще начали прибавлять в кутью изюм и для отличия употребили
название коливо, которое значило то же, что кутья. В дальнейшем источники не
делают разницы между кутьей и коливом. Но название «коливо» было
распространено, например, у украинцев до недавнего времени. Если учесть еще
упоминания в трапезе монахов толокна, толокна мешаного, каши гороховой, каши
соковой и соковой с маслом (еэ конопляном соке), каш крутой и тертой, репяной и
морковной, то окажется, что уже в XVI в. русская кухня знала более 20 различных
каш (ДАИ 1, с. 215 – 238).
Каша (в особенности сладкая) оставалась любимым
блюдом и в XVIII – XIX вв. «Каши заменяют пирожное и без каш обед не в обед», –
писали в начале 1840-х годов о питании жителей Курска (Авдеева, 1842, с. 75).
Появились и новые виды каш, например юражная каша (видимо, из крупы) на
пахтаньи (остатках от сбивания масла) (Там же).
Репа, капуста и свекла шли преимущественно на
жидкие блюда – похлебки, хлебово (супы в нашем современном понимании этого
слова), репицу, или репню, щи и борщ. Из них едва ли не самое древнее кушанье –
репня, которая выходила из употребления по мере внедрения картофеля в XVIII –
XIX вв. Щи были, пожалуй, самым распространенным блюдом этого рода. Название
«щи», относящееся в узком смысле к капустной похлебке, некогда имело,
по-видимому, и широкий смысл – похлебка вообще. Во всяком случае, источники
конца XVI в. знают такое словоупотребление: шти (просто), шти капустны, шти
борщовы, шти репяны (ДАИ, т. 1, № 135). Упоминания эти относятся к
Троице-Сергиеву и Тихвинскому монастырям, т. е. к центральной и северной Руси;
на три столетия позже отмечалось, что в северных губерниях штями называли
вообще всякий суп с приправой, в том числе похлебку из картофеля, крупы и т. п.
(Дворникова, с. 394). Борщ же в XIX в. готовили преимущественно в южнорусских
губерниях. Однако о более раннем времени этого нельзя сказать с уверенностью,
поскольку в XVI в. борщ настойчиво рекомендует Домострой – московский источник,
возможно, новгородского происхождения.
Кроме похлебок из репы и огородных растений –
капусты, моркови, бобов, гороха, редьки, готовили разнообразные густые кушанья.
Упомянутые уже указы о трапезах Троицкого и Тихвинского монастырей называют
среди кушаний, готовившихся для монахов, репу пареную и печеную, капусту с
маслом гретую (т. е., вероятно, ранее вареную), капустники, капусту крошеную с
рассолом (т. е. шинкованную), морковь пареную под чесноком, бобы сухие вареные,
горох с перцем, редьку в соку, орехи в соку (ДАИ, 1, №135 – I, II). Для многих
похлебок исходным продуктом служил квас (подробнее о нем см. в разделе
«Напитки»). Из сухарей с квасом делали своеобразную хлебную похлебку –
мурцовку, муру или тюрю (все названия относятся к XIX в.), из кваса с
нарезанными овощами и изредка с мясом – окрошку, из кваса с отварной ботвой
овощей, луком и огурцами, иногда с рыбой, – ботвинью. Ботвинья упоминается в
XVI в. как распространенное кушанье, в частности, для слуг богатого дома и для
монахов (Д., ст. 51, с. 50; ДАИ 1, 135 – 1, II). Отвар мяса, птицы и рыбы
назывался в древности одинаково – ухой или (реже) вдлогой. Современное название
для мясного отвара – бульон – появилось в России, по-видимому, вместе с модой
на французскую кухню, в то время как древнее название «уха» закрепилось за
супом рыбным. Домострой называет более 10 сортов ух (преимущественно все же
рыбных, поскольку для рыбной ухи указывался сорт рыбы – налимья, окуневая,
стерляжья и т. п.) (ДЗ., ст. 63, с. 160 – 165).
Мясо употреблялось в пищу чрезвычайно экономно. Домострой
подробно описывает, как следует в домашних условиях разделывать тушу забитого
животного – барана, яловицы, свиньи, чтобы не пропало ничего. Использовались и
все внутренности животного: кишки рекомендовалось начинять ячневой, гречневой
или овсяной кашей (колбасы в теперешнем смысле тогдашняя русская кухня не
знала), из губ, ушей и голеностопной части ног делали студень и т. п. (Д., ст.
42, с. 40 – 41). Кушанья из мяса готовили вареные, жареные, причем применялись
различные способы жарения – в сковородах, на вертеле («верченое») и т. п., ели
с кашей, лапшой, овощами (позднее – и с картофелем), изготовляли начинку для
пирогов. Теперь нам трудно восстановить технологию изготовления пищи в
отдаленные времена, но уже сами названия кушаний говорят, что для приготовления
мясных и рыбных блюд применялось множество кулинарных тонкостей. Известны
кушанья вареные, печеные, пареные – под острыми и сладкими соусами; с другой
стороны, термины «подвар-ная», «подпарная» и «гнетная», применяемые в
монастырских уставах, говорят, по-видимому, о приготовлении на другой день пищи
с использованием остатков вчерашней. Недаром мы не встречаем этих терминов в
применении к господскому столу.
Все богатство русской средневековой городской
кухни можно проследить, разумеется, не на примерах питания рядовых горожан,
слуг или монахов. Оно раскрывается в домах городской знати и вообще зажиточных
горожан. Наиболее полный перечень кушаний, подававшихся к столу в богатом
городском доме, содержит список Домостроя, принадлежавший Обществу истории и
древностей Российских (называемый иногда также Забелин-ским, по имени
издателя). В нем названы 135 кушаний, в том числе 48 мясных и 55 рыбных.
Приведем некоторые из них. «Заяц черный, голова свиная под чесноком, ноги
говяжьи, тетерев под шафраном, лебедь медвяной, потрох лебяжий с шафраном и
тапешками, шейка лебяжья с шафраном, а кладетца по ней тапешки, а по-нашему
тапешки – калач в масле пряжен ломтями» (ДЗ., с. 160 – 162). Тут приходит на ум
какое-то современное фирменное ресторанное блюдо, подаваемое на лежащих в
тарелке гренках. Так же, как лебедя, рекомендуется подавать гуся, – дикого или
кормленого. Журавли под зваром с шафраном, утка верченая с простым зваром,
студень рябий (т. е. из рябчиков), грудь баранья верченая с шафраном, часть
говяжья верченая, язык верченый под простым зваром; так же подавали «середки
свиные верченые, почки заячьи верченые, зайцы в росоле, куря под брынцом
(особый сорт пшена) (Срезневский, 1, ст. 184), с шафраном, зайцы в лапше, зайцы
в репе, куря в лапше. Уха в зверине, а делается в груде говяжье и в лосине,
кале курячья или тетеревиная или утея» – это уже острые мясные деликатесные
похлебки. Подавали и вяленые (шестные) говядину с чесноком, кур, свинину.
Не менее разнообразны и рыбные блюда – соленые,
квашеные, вяленые, паровые: капуста кислая с сельдями, «белужья спинка
ветряная», лососина с чесноком, «осетрина шехоньская», «белая рыбица», спинка
осетровая, стерляжья, семужная, ры-бичья, (рыбца), «и всяких рыб спины», паровые
щуки, стерляди, лещи, щука под чесноком и «живопросольная», окунь, белужина,
белая рыбица в рассоле, «семга провесная», осетрина, лососина, семга, сиговина,
«лодожина под зваром» и, конечно, рыбные ухи «рядовые горячие»: щучья,
стерляжья, карасевая, окуневая, линевая, плотичья, «уха опекиванная (?)
окуневая черная застудить ее». Разные сорта икры подавались как закуска («Икра
всякая столовая ставить рядом») (ДЗ., с. 161). Далее перечислены некоторые
сорта икры: щучья, паюсная, осетровая свежая, осетровая осенняя и др. Источники
упоминают также икряник – печеное блюдо из теста с икрой, нечто вроде пирога
(СРЯ, вып. 6, с. 223). Какое-то рыбное блюдо попроще (вероятно, приготовленное
из измельченной – «щипаной» – свежей или вяленой рыбы) называлось щипаная. Устав
о трапезах Тихвинского монастыря упоминает «щипаную вялых сиговью», «щипаную
свежих под-нарную», щипаную щучью, лососью и просто без указания породы рыбы
(ДАИ 1, № 135 – II, с. 222 – 225). Разнообразно было употребление яиц. Если
Домострой говорит о них преимущественно как о начинке для пирогов или гарнире,
то монастырская трапеза упоминает и просто яйцо, и «яйца ко штям», и яйцо
печеное, и яичницу, и «яичницу в сковраде» (разница в приготовлении здесь не
ясна. – ДАИ 1, № 135 – II, с. 218, 225).
Русская кухня знала в те времена до 20 сортов
пирогов – простых подовых, блинчатых, пряженых (жареных), соленых, «кисленьких»
и сладких. В качестве начинки предпочитали рыбу – сельдь, сига, и др., а также
вязигу, любили и растительную начинку – капусту, горох, репу, морковь, мак, а
также творог («сыр»), яйца. Мясо употреблялось по преимуществу мелко рубленное
(тельное, пирог с телом), птица – крупными кусками, зачастую вместе с костями
(курник). Из грибных упомянуты пироги с рыжиками, с груздями. Не видя предела
разнообразию начинок, составитель Домостроя пишет о пирогах «с кашею... и с чем
бог послал» (Д., ст. 43, с. 44). Сладкие пироги делались с медом и,
по-видимому, с фруктовой начинкой. Пироги с репой, морковью были пищей
простонародья. Они упоминаются в монастырских уставах, но не в Домострое (ДАИ
1, № 135 – 1, с. 215 – 218), где находим зато «пирог с сочнями и меж пересыпаны
блины, пироги подовые кисленькие с горошком, пироги с маком большие пряженые в
конопляном масле» и т. п. (ДЗ., ст. 65, с. 162).
Ассортимент сладких блюд в богатом доме был
также очень велик; их готовили из фруктов на меду и патоке, с различными
добавками. Кроме сырых фруктов, широко употреблялись приготовленные в патоке
(видимо, аналогично более позднему варенью с сахаром) полосы (куски) арбуза,
дыни, яблоки, груши, вишни, яблоки и груши в квасу и в патоке, а также
различные взвары (нечто вроде компота) – «медвяные и квасные, простые, с изюмом
да со пшеном» (ДЗ., с. 163). Видимо, не чуждались при этом сочетаний сладкого,
острого и горького: мы называли уже раньше блюда из разной птицы и мяса «во
взваре». Здесь, видимо, речь идет о приправе с пряностями. Домострой упоминает
также разные мазюни (сладкая масса) из редьки с патокой и имбирем, с шафраном,
с перцем и также приготовленную патоку (вспомним, что патока с имбирем
упомянута и А. Н. Островским в качестве ритуального блюда на свадебном
сговоре), какая-то «редька по-царегородски». Из сладких печений Домострой
называет шишки, из фруктовых блюд – еще «пастелы всяких ягод» и сладкие
ягодные, медовые, молочные кисели (ДЗ., с. 152 – 157).
Из напитков наибольшее распространение в течение
всего рассматриваемого нами периода имел хлебный квас. Его употребляли все –
богатые и бедные, старики и дети, крестьяне и горожане. Квас готовили в каждом
доме из сухарей, замешивая их на воде с солодом, отрубями и мукой. Замесив,
парили в печи, а затем процеживали и заквашивали (Rabinowic, s. 171), после
чего ставили в погреб. Хлебный квас пили походя, наравне с водой, для утоления
жажды, из него готовили упомянутые уже нами блюда – тюрю, окрошку, ботвинью.
Объехавший весь свет, посетивший и Россию известный авантюрист Казанова писал о
русских: «У них есть восхитительный напиток, название которого я позабыл. Но он
намного превосходит константинопольский шербет. Слугам, несмотря на всю их
многочисленность, отнюдь не дают пить воду, но этот легкий, приятный на вкус и
питательный напиток, который к тому же весьма дешев, так как за один рубль его
дают большую бочку» (Casanova, p. 118). Помимо похвалы квасу, мы находим в этом
отрывке и указание на то, что в городе квас не обязательно было делать дома, а
можно было купить, т. е., видимо имелись и специалисты-квасовары. Еще в XIX в.
о бедном человеке говорили, что он «перебивается с хлеба на квас». Желая
подчеркнуть глубокую народность семейства Лариных, людей отнюдь не бедных, А.
С. Пушкин не забывает упомянуть, что «им квас, как воздух был потребен»
(Евгений Онегин, глава II, песнь XXXV). Но, кроме хлебного, общеупотребительны
были фруктовые квасы – яблочный, грушевый и др., малиновый морс, брусничная
вода (Д., ст. 45, с. 45). Шипучий напиток вроде кваса назывался кислые шти и
был широко распространен еще и в XIX в.
Другая группа напитков – частично
безалкогольных, частично хмельных – приготовлялась различными способами из
зерна или меда. Источники упоминают множество сортов пива и меда: «пиво обычно,
пиво сычено, пивцо, перевары, мед подельной, мед белый, мед обарной» (ДАИ, 1, №
135 – 1, II). При царском дворе в XVII в. готовили также «пиво подельное,
малиновое и иныи», мед сыченый, красный, ягодный, яблочный (Котошихин, с. 60).
В домашних условиях для приготовления браги или пива распаривали и затем
высушивали зерна ржи, ячменя, овса или пшена, подмешивали солоду и отрубей,
мололи, заливали водой, заквашивали дрожжами без хмеля (простая «ячневая»
брага, похожая на квас) или с хмелем (хмельная брага, пивцо, полпиво), варили и
процеживали. В зависимости от способа приготовления пиво получалось светлым ли
темным. Экономный хозяин снова заливал оставшуюся после процеживания пива гущу
горячей водой «и тот исток добре всей семье пити или, приквасив, делать кислые
шти» (Д., ст. 46, с. 46).
Городская знать издавна употребляла в довольно
большом количестве привозное вино. На первом этапе развития городов это были
преимущественно византийские виноградные вина. Находки обломков амфор –
излюбленной еще в Древней Греции тары для вина, воспринятой и в средневековой
Византии, – есть в больших и малых городах Древней Руси – в Киеве, Новгороде,
Рязани и в маленьких тогда Москве, Ярополче Залесском (Рабинович, 1971а, с.
102; Седова, 19786, с. 94). Характерно, что эти находки сосредоточиваются в
центральной укрепленной части городов – их кремлях, где в тот период
концентрировалась верхушка городских феодалов. Известные надписи на корчагах:
«Благодатнейша полна корчага сия» и «Новое вино добрило послал князю Богунка»
(Рыбаков, 1948, с. 370; Монгайт, 1955, с. 188) – не оставляют сомнения в
назначении сосудов и классовой принадлежности их владельцев. В более поздние
времена на Руси стали употребляться не только византийские, но и европейские
вина (Из Италии, Франции, Германии). Мы уже приводили список вин продававшихся
на Архангельской ярмарке в XVII в. Об употреблении водки, называвшейся в XVI –
XVII вв. горячим вином, о царской монополии и кружечных дворах и их печальной
роли в городах мы уже говорили в предыдущей книге (Рабинович, 1978а, с. 126 –
130). В этот период при царском дворе потребляли вино простое, двойное и
тройное (по крепости), а также «вино с махом» (смесь 2/3 простого и 1/3
двойного). Наряду с водкой там употребляли и «заморские пития» – «романею,
ренское, французское» (Котошихин, с. 60). В хозяйствах не столь высокого ранга
поступали иначе. Рядовой (в понимании составителя Домостроя) горожанин, «небогатой
и запасистой», держал в запасе для гостей пивцо (яичное и обычное), переварки,
медок. Все это держат «засеченным в лед» в бочках, а для почетных гостей
наливают в бочонки малые» по пять оловянников меду, заправляют мускатом,
гвоздикой и иными благовониями (их срочно подваривают в печи) и добавляют в
горячее вино «вишневого или малинового морсу или патоки 2 оловянника», получая
таким образом пять-шесть сортов вин и несколько сортов пива (Д., ст. 46, с 46).
Как тут не вспомнить ухищрения некоторых персонажей А. Н. Островского,
старавшихся без больших затрат угостить «не хуже людей».
Говоря о пище XVI – XVII вв. – третьего этапа
развития городов, мы назвали здесь около 200 различных кушаний и напитков.
Обилие, казалось бы, исключительное. Но следует ясно представить себе, что это
обилие было уделом очень немногих. Наш основной источник – Домострой, по самому
своему характеру энциклопедия домашнего хозяйства городской верхушки, стремится
перечислить как можно больше блюд, чтобы домохозяин мог выбрать из них и
надлежащую усладу для своего желудка и достаточно (т. е. как можно более)
экономную пищу для многочисленной дворни. Отсюда огромное количество
упоминаемых в нем блюд, которые знал, конечно, не всякий повар, а тем более не
каждая хозяйка.
Богатые Троице-Сергиев и Тихвинский монастыри
кормили братию уже отнюдь не по Домострою, но все же относительно хорошо.
Монастырский устав вообще не разрешал употребления мяса, и можно только
подивиться изобретательности монастырских поваров, сумевших создать для братии
– прославленных по всей Руси аскетов – пищу не слишком аскетичную. Три-четыре
рыбных блюда в день (исключая посты) обеспечивали в общем-то безбедное и не
слишком скучное житье.
С другой стороны, обилие блюд (если учесть, что
повара тогда не кончали высшего кулинарного учебного заведения, а отправлялись
от накопленного народным питанием опыта) говорит об относительной замкнутости
хозяйства, о сравнительно редких еще обращениях к рынку и отсюда – об
отсутствии той унификации питания, которая неизбежно приходит с развитием
массового производства пищевых продуктов и появлением специалистов по
изготовлению готовых кушаний. Например, отсюда может идти и то значительное
различие в питании монахов двух монастырей, находящихся в нескольких сотнях
километров друг от друга и, пожалуй, одинаково богатых. Тут надо учесть еще и
слабую изученность связанной с питанием терминологии, ибо одно и то же блюдо
могло называться по-разному в разных областях, городах и даже в разных
хозяйствах (например, кутья и коливо, каравай и коврига и т. п.).
Если летописи, монастырские уставы и
рекомендации Домостроя, а также записки Котошихина говорят в основном о пище
зажиточных горожан и вообще наиболее обеспеченных сословий тогдашней России, то
для четвертого периода, в частности для первой половины XIX в., в нашем
распоряжении имеется как «Полная хозяйственная книга» К. А. Авдеевой,
рассчитанная также на богатый городской дом (Авдеева, 1851), так и совершенно
иной источник – ответы на Программу Русского географического общества. Как нам
случалось уже отмечать, составители Программы стремились получить сведения не о
высших сословиях, а как раз о крестьянах, мещанах и разночинцах, «о всех тех,
которые живут еще попросту, по-русски» (Рабинович, 19716, с. 39). И в ответах
на программу, поступивших из городов, мы почти не находим сведений о питании
городской верхушки- – дворян и богатой буржуазии, зато получаем обильные
сведения о питании широких кругов городского мещанства и разночинцев из многих
десятков средних и малых городов тогдашней Российской империи. Естественно, что
тут нельзя ожидать столь богатого ассортимента кушаний и напитков прежде всего
потому, что исключены как раз самые богатые дома в городах, где, по
свидетельству корреспондентов Географического общества, держали поваров, бывших
на уровне высших достижений тогдашнего международного гурманства, в частности
французской, немецкой и английской кухни, и в условиях русского феодализма
изобретавших иногда блюда, основанные на русской кухне и имеющие широкое
распространение до наших дней. Из таких блюд достаточно назвать бефстроганов –
по преданию, изобретение повара барона Строганова, от которого барин требовал
кушанья себе «по зубам» (вернее, применительно к отсутствию зубов), в
результате появилось блюдо из мелко нарезанного мяса под острым соусом. К. А.
Авдеева называет 376 различных кушаний и напитков, почти в два раза больше, чем
Домострой. Среди них, помимо блюд, упомянутых уже французской, немецкой и
английской (например, четыре сорта пудингов) кухонь, названы голландские,
итальянские (в частности, колбасы и сосиски), голштинские, венгерские, но
больше всего блюд старинной русской кухни (в том числе, например, 4 вида щей,
ботвинья, окрошка, солянка, простокваша, молочная каша, 4 сорта соленой и
вяленой рыбы, 30 сортов варений и пастил, 17 сортов хлеба, среди которых только
один французский (пеклеванный), пироги, блины и пр.). Некоторые старинные
кушанья сохранили лишь названия: например, калья – это не суп, а острая закуска
из икры* (Авдеева, 1851, ч. I, с. 19 – 263). Все эти блюда может, по мнению
автора, приготовить повар или даже кухарка в доме зажиточного горожанина.
В четвертый период развития городов постепенно
вошли в употребление, как сказано выше, новые продукты – картофель, сахар,
помидоры, прованское масло, маслины и др. Однако основой питания простонародья,
городского мещанства и в значительной мере купцов оставались изготовленные в
домашней русской печи блюда старинной кухни – коротко говоря, традиционные щи и
каша. Большинство упомянутых в ответах на программу кушаний и напитков те же,
что и в предыдущий, третий, период, а изредка встречающиеся новые (например,
бараний бок с кашей), по всей вероятности, тоже традиционны, но почему-либо не
упомянуты в древних источниках. Если учесть сказанное выше о социальном
характере питания, с одной стороны, о развитии рыночных отношений и
общественного питания – с другой, то станет понятным, что в XVIII – XIX вв.,
несмотря на появление новых продуктов, стол горожан выглядит как будто бы менее
разнообразным, чем в предыдущий период. Здесь мог сказаться и увеличившийся
приток в город сельского населения, причем это было в основном как раз
беднейшее крестьянство, хотя питание собственно пролетариата- – появившихся уже
в городах рабочих – ответы на Программу еще не отражают.
Исходя из всего изложенного, мы не будем
рассматривать отдельно кушаний и напитков, бытовавших в городах в XVIII – • XIX
вв., тем более что большинство их названий сохранилось до нашего времени и
будет понятно читателю без объяснений. Те немногие блюда, которые потребуют
специальных пояснений, мы рассмотрим по ходу описания состава трапез.
__________________
Ср. финск. Kala – рыба. Возможно, и раньше
кальей назывался суп из рыбы.
__________________
ОБЕД И УЖИН
Как уже известно, русская городская семья знала
в общем четыре ежедневные трапезы – завтрак, обед, полдник и ужин (Рабинович,
1978а, с. 197). Но трапезы издавна не считались равноценными. Главными
трапезами, за которыми собиралась вся семья, обязательно начинавшимися
благодарственной молитвой за ниспосланный хлеб насущный, были обед и ужин. И
все источники, рекомендующие или просто описывающие состав трапез, говорят
только об обеде и ужине, лишь в отдельных случаях (и то только относящихся к
четвертому этапу) упоминая о полднике, еще реже – о завтраке. Но и в этих
редких случаях почти не говорится о подаваемых кушаньях. Поэтому, изучая
особенности питания русских горожан, распределения и сочетания в ежедневном
употреблении всего арсенала кушаний и напитков, которым посвящен предыдущий
раздел настоящего очерка, мы можем исследовать только состав обеда и ужина.
Впрочем, есть все основания думать, что эти две главные трапезы в достаточной
степени характеризуют питание русских горожан вообще.
Мы не имеем сколько-нибудь определенного
представления о календарных особенностях питания русских до принятия ими
православия. Нельзя поэтому сказать и о том, существовали ли в те отдаленные
времена какие-либо предписания и пищевые запреты, касающиеся ежедневного
пищевого рациона в то или иное время. Наблюдения над первобытными племенами и
народами, находящимися на стадии раннего классового общества, позволяют
предположить, что и у русских должны были быть в этом отношении какие-то табу –
запреты, связанные с хозяйственными и гигиеническими соображениями и с
религиозными верованиями, и вместе с тем какие-то праздники, когда еда была
более обильной и изысканной. Нужно думать, что и режим питания, предписываемый
христианской церковью, имеет гораздо более древние корни и известные
территориальные различия.
На протяжении почти всего рассматриваемого нами
периода пища горожан по составу употребляемых продуктов резко делилась на пост
и мясоед. В пост запрещалось употреблять (как непосредственно, так и для
приготовления каких-либо кушаний) мясо, молоко и молочные продукты, в мясоед
все это разрешалось. На протяжении всего года два дня в неделю – среда и
пятница – объявлялись постными. Кроме того, были длительные посты: весной –
главный – Великий (семь недель перед пасхой), леток – Петровский (через восемь
недель после пасхи, до 29 июня), Успенский – с 1 по 15 августа, зимой –
Рождественский, или Филипповки (перед рождеством), с 15 ноября по 24 декабря) и
еще некоторые, более короткие. Всего в году более 200 дней были постными,
мясоед составлял меньшую часть года.
Более обильный стол (соответственно возможностям
каждой семьи) бывал, конечно, по праздникам. Праздничными днями в течение всего
года еженедельно были воскресенья (древнерусское название – неделя *). Церковь
предписывала свои праздники – пасху, покров, рождество и др. В каждом городе и
в каждом церковном приходе были еще храмовые праздники в честь соответствующих
святых патронов. Мы уже говорили об общественных праздничных столованьях горожан
– братчинах (Рабинович, 1978а. с. 133 – 141). Но и в каждой семье стол в эти
дни был праздничным. Государственными праздниками были в XVI – XIX вв. царские
именины. В семье праздновали также именины членов семьи (что тогда еще не было
характерно для крестьян), родины и крестины и, конечно, свадьбы. Таким образом,
праздничных дней набиралось тоже немало, и праздничный стол зависел не только
от достатка семьи, но и от того, приходился ли праздник на мясоед или пост (а
свадеб в пост вообще не играли). Поэтому все нормативные источники, начиная с
Домостроя, говорят о кушаньях и напитках, подаваемых к столу на обед и ужин в
мясоед и в пост, в праздники и в будни.
Об обеде и ужине рядовых горожан на первых двух
этапах развития городов достаточно полных сведений нет. Для третьего этапа мы
можем составить о них более или менее приближенное представление по характеру
питания слуг в богатом господском доме. Домострой рекомендует в мясоед «челядь
кормити по вся дни (обед. – М. Р.) – шти да каша с ветчиною житкая, а иногда
густая с салом, переменяя часть мяса... а в неделю и в праздники (речь идет о
прибавке к обычному столу. – М. Р.) иногды пирог, а иногды кисель, а иногды
блины или какая ества, оу вужины шти да молоко или каша; а в поены дни (обед. –
М. А) – шти да кашка житкая иногды с соком, иногды горох, иногды сушь, иногды
репня, а оу оужины иногды шти, капуста, толокно, иногды росол, иногды ботвинье,
а по неделям и по праздникам к обеду пироги какие или гуща или яглы или
селедовая каша или блины или кисель, а у вужину капуста, росол, ботвинья,
толокно» (Д., ст. 51, с 50-51; ДЗ., с. 164).
Таким образом, питание простых слуг в богатом
доме (которое, вероятно, было близко к питанию бедных или даже рядовых горожан)
строилось строго по принципу чередования жидких и густых кушаний – «щи да каша»
в обед и в ужин. Мясные прибавки в мясоед полагались каждый день, но это были
именно прибавки к каше. В постные дни такой прибавкой была «сушь» – сушеная
мелкая рыба – снеток. Праздничная еда отличалась до-
__________________
* Официальным обоснованием выбора именно этих
дней служило то, что среда считалась днем осуждения, пятница – днем казни
Христа, а «неделя» – аи ем его воскресения.
__________________
бавкой к обеду какого-либо вкусного блюда
(преимущественно пирога или блинов). Слуги рангом повыше, выполнявшие более
важную для дома работу, получали еще прибавку из остатков с господского стола,
а «лучшие люди, которые торгуют, тех государь в столе у себя сажает» (Д., ст.
51, с. 50). Такими людьми, например, в доме богатого купца могли быть
приказчики. Для поощрения слуг среднего ранга остатками с барского стола
расчетливый составитель Домостроя рекомендует производить своеобразные
заготовки таких остатков: «что оу стола останстца и целого и едено и оух и
преспеху всякого, а целую еству перебрати, а початое о себе и мясное и рыбное
покласти в суды в чистые и в тверды и покрыть и в леду засечь; а початая ества
и всякие остатки давати на обиход как по пригожу, а целое блюсти про государя,
и про государыню, и про гость, а питье в стол давати» (Д., ст. 49, с. 48).
А что же ели сами господа и их гости на обед и
на ужин? Составить представление об этом труднее, так как Домострой предлагает
здесь не определенный комплект пищи, а большой выбор блюд типа позднейшего
меню. По всей вероятности, все это не готовилось и тем более не подавалось в
один день. Но несомненно все же, что каждый раз подавалось по выбору хозяина и
хозяйки множество блюд. Так, в «великоденский мясоед», «с велика дни», т. е.
начиная с пасхи, «в стол еству подают» на обед «лебеди, потрох лебяжий,
жоравли, чапли, утки, тетереви, ряби, почки заячьи верченые, куры росольные,
пупки, шейки, печенцы курячьи, баранина росолная, баранина печеная, ухи
курячьи, каши путные, солонина, полотки, языки, лосина, зайцы в сковрадах,
зайцы росолные, смолочи* заячьи, куры верченые, черевца, пупки, печенца
курячьи, жаворонки, потрошек бараней сандрик» (закуска из баранины или свинины.
– Картотека СРЯ, ящ. 580), «свинина, ветчина, караси, сморчки, кундумы» (мучное
кушанье вроде клецок – СРЯ 8, с. 121), «двои шти» (ДЗ., с. 144). Эти 34 кушанья
(если учесть повторы, которые могут объясняться либо опиской источника, либо
тем, что некоторые «перемены», как их называли в старину, могли повторяться за
одной трапезой) расположены все же в некоем порядке: сначала дичь, потом
домашняя птица, мясо разных сортов, затем жидкое блюдо и каша – и снова закуска
из мяса, дичи и птицы (рыбное блюдо только одно), наконец, грибы и после всего
– два сорта щей. Примерно тот же порядок перечисления блюд и на ужин: «студень
рябий, зайцы печены, утки, ряби верченые, тетерева, баранина, полотки, зайцы
росолные, куры верченые, свинина, ветчина, ухи шафранные окуневые, плотичьи,
лещевые, карасовые, а росолного белая рыбица свежая, стерлядина свежая,
осетрина свежая, головы щучьи с чесноком, голцы, осет-
__________________
* В Архангельской обл. «смолочью» называли вымя
коровы (Картотека СРЯ, ящ. 617). В Домострое упоминаются смолочи говяжьи и
заячьи (возможно, соответствующие железы самки зайца).
__________________
рина шехонская, осетрина косячная» (ДЗ., с.
145). Здесь вдвое меньше блюд (16, из них 11 – рыбных), но изысканность и
богатство трапезы те же. И также жидкие блюда подаются в середине стола.
Вызывает удивление, что не упомянуты пироги – ни за обедом, ни за ужином. Но
при описании различных сортов пирогов, которое приведено выше, составитель
Домостроя советует подавать их «меж ух,» (мясной или рыбный суп ели с
пирогами), так что, видимо, здесь они не названы по каким-то случайным
обстоятельствам. Не названы и сладкие блюда, видимо, потому, что они были
одинаковы в мясоед и в пост.
На «летнее говейно» – Петровский пост- –
Домострой рекомендует подавать (не различая обеда и ужина) преимущественно
рыбные блюда: паровые сельди, щуки, лещи, сухая (сушеная? – М. Р.) лососина,
белорыбица, осетрина, спинки стер-ляжьи и белорыбицы пареные, пруты белужьи,
ухи щучьи с шафраном, черные, лещевые, карасевые, векошники песнощевые и плотичьи,
опеченые окуни, тавранчук (селянка – Картотека СРЯ, ящ. № 668), осетрий и
стерляжий». Далее перечислено «росолное» (т. е., видимо, соленая рыба):
«белорыбица и стерляди свежие живопросольны, осетрина свежая и просольная,
голова щучья с чесноком, гольцы, стерлядь навислая (возможно, вяленая –
«провесная»), осетрина шехонская и косячная». Потом указаны грибы вареные,
печеные и вешеные (сушеные), шти, караси и раки (ДЗ., с. 145 – 246). Всего
перечислено 32 блюда (опять-таки без пирогов и сладостей). Для сравнения
напомним, что за столом рядовых слуг в том же доме фигурировало (опять-таки –
для выбора) за обедом 6 – 10, за ужином 3 кушанья. За каждой едой челяди
полагалось в будни два, в праздники за обедом три блюда (включая пироги и пр.).
И если за господским столом подавалось к тому же множество напитков, то для
челяди держали лишь квас, кислые шти, изредка – брагу или пиво.
Подобные же перечни достаточно обильных и
изысканных блюд Домострой предлагает для осеннего «Госпожина говейна» и
следующего за ним мясоеда, Филиппова говенья, великого мясоеда после рождества;
среди блюд здесь фигурирует, например, «лосиная губа» (ДЗ., с. 147 – -151).
Интересно, что на «масленежной неделе» как бы в
виде исключения указаны разные сласти – хворосты, орехи, е.щы (печенье), ядра,
мисеное (сладости, подававшиеся в миске или блюде), шишки, «да кисели сладкие,
да преснечники» (печенье из пресного теста), а также «сыры губчатые молочные
вареные» (т. е. именно сыр в нашем современном понимании этого слова) и «сыры
сметанные сухие», но ничего не говорится о блинах. В следующий за масленой
неделей великий пост («великое гоненье») рекомендуются «хлебцы постные, икра
паюсная, икра осетрия осенняя и свежая, икра стерляжья, ксени (икра. –
Картотека СРЯ, ящ. № 274) лососисти («красная». – М. Р.), щучьи с шафраном и
черные, кашка белые рыбицы, судачья, белужья, севрюжья, снетки, суши, пласти
карасовые, икры вареные и пряженые, пупки сухие и пресносольные, вязиги в
уксусе, стер-ляднна бочечная и кислая, языки мокрые, теши осетровые и белужьи,
лапша гороховая, яглы (катышки из мха – ягеля. – М. Р.) с маковым соком, горох
чадцкой цежоный и витой, двои шти, блины, да луковники, да левашники (жаренная
на сковороде сладкая лепешка с начинкой в одном углу. – М. Р.), да пироги подовые
с маком» (ДЗ., с. 151 – 152). Таким образом, и в самый строгий пост за столом
богатого горожанина можно было увидеть 36 различных кушаний, в том числе 21
рыбное.
Описание в Домострое трапез господ и слуг
показывает, что роскошь питания городской верхушки все увеличивалась, пропасть
между богатыми и бедными все углублялась. Разрыв этот, впрочем, ощущался весьма
болезненно и за 300 лет до создания Домостроя. «Насыщался многоразличными
брашны... веселяся сладким питием... помяни мя, сух хлеб ядущего», – писал
своему отцу – князю Ярославу Всеволодичу – ссыльный Даниил (СДЗ, с. 65 – 66).
С точки зрения распределения блюд значительный
интерес представляет пища монахов уже упомянутых нами монастырей, поскольку в
указах о трапезах кушанья фиксированы более точно (в некоторых случаях был и
выбор, хотя довольно ограниченный). Правда, указы не отражают разницы в питании
различных категорий монахов, но если принять этот материал как «усредненный»,
то питание монахов по своему уровню занимало как бы промежуточное место между
питанием богатых и бедных горожан (пожалуй, ближе все-таки к последним). Обычно
монастырский обед и ужин состояли из жидкого блюда (типа щей), блюда более
густого (типа каши), какого-то вида печеного хлеба и какого-то питья (кваса, пива,
вина). В праздники блюд бывало гораздо больше.
Как уже сказано, очень ценные сведения о пище
рядовых горожан содержат ответы на Программу Русского географического общества.
Однако далеко не все корреспонденты Общества вообще отвечали на пункты Программы,
посвященные пище, а те, кто отвечал, не все придерживались формулировок
Программы, давая иногда чрезвычайно общие сведения. В нашем распоряжении
имеется материал из 40 малых городов разных губерний Европейской России. Но
только в десяти случаях дано более или менее полное, хотя и не совсем
соответствующее Программе (без разделения на обед и ужин) описание. Например,
об «употреблении пищи между обывателями Торжка» (АГО, 41, Л«
У бедного обывателя в будние скоромные дни ели
щи с говядиной и кашу (а иногда одни щи), в постные – капусту с квасом и
«серые»* (без приправы, как пишут корреспонденты) щи; на первой неделе великого
поста – сухари с квасом, толокно с водой, редьку с солью и пареную свеклу. В
праздничные скоромные дни обед в бедной семье составляли щи с говядиной, пирог
с кашей и жареный картофель. У богатого обывателя в будни и праздники обед был
одинаково обильным: в скоромные дни – пирог с говядиной и яйцами, студень с
уксусом и огурцами, щи «белые» – с говядиной и сметаной, похлебка из курицы с
перловой крупой, жареный поросенок, набитый кашей из «сарацинского пшена»
(риса), жареный гусь, масло, молоко с сахаром и еще какое-то блюдо – «арское на
вицах». В постные дни – пирог с вязигой, щи с белым хлебом (это замечание
показывает, что вообще-то в Торжке ели преимущественно черный хлеб), холодная
щука с уксусом и хреном, севрюга, уха из налима, жаркое (нужно думать –
какая-либо жареная рыба), пирог с вареньем или малиной. В наиболее строгий пост
– на первой и последней неделях великого поста – сухари с квасом и хреном,
грузди с уксусом (маринованные?) и огурцами, «подъельники» (видимо, грибы) с
уксусом, отварные грибы, «разварка» с белым хлебом масленная, с изюмом или
черничная, с французским черносливом. В остальные великопостные недели – пирог
с черными грибами, щи с белыми грибами, жареные грибы (черные и белые),
разварка сладкая из ягод, сладкий пирог. Разница в питании богатой и бедной
городской семьи показана здесь весьма убедительно.
Корреспонденция из Торжка рисует картину, в
общем типичную для питания горожан в конце изучаемого нами периода. Вероятно, и
к большинству горожан в середине XIX в. можно было применить характеризующую,
как принято думать, питание крестьян поговорку: «Щи да каша – пища наша». Это в
особенности верно для малых городов вроде Торжка, но в несколько измененном
виде относится и к жителям крупных, даже столичных городов. Так, описывая быт
одного из окраинных районов Петербурга в
В обоих приведенных нами случаях видна и
глубокая традиционность обычаев питания, восходящих, по-видимому, к седой
старине, и известные инновации, вносимые эпохой. Мы не будем поэтому приводить
весь обильный материал ответов на Программу (см. приложение V), ограничимся
лишь указанием на важнейшие новшества в питании и областные его особенности.
Судя по некоторым данным, все глубже внедрялось
в мещанских семьях то четырехразовое питание, о котором, как сказано
__________________
* По более поздним сведениям, «серые» и «белые»
щи различались по сорту капусты – соответственно серой или белой, – из которой
их варили.
__________________
выше, мы узнаем еще в XVI в.: завтрак, обед,
полдник, ужин. Оно несколько усложнялось (до пяти раз) и иначе распределялось
по времени суток. В корреспонденции из г. Медыни
В целом питание горожан было довольно близко к
крестьянскому. Но везде, где это удается проследить, питание горожан
представляется более обильным как за счет потребления мяса, так и, не в
последнюю очередь, за счет более обильной растительной пищи, более широкого
круга употребляемых огородных овощей и фруктов. За столом горожанина появляются
в первую очередь и иноземные новшества, иногда очень важные, имеющие
перспективу широкого распространения и в деревне, например картофель, сахар,
чай. Все это приводит и к созданию новых блюд (например, винегрет) и к
увеличению числа трапез до четырех-пяти.
Питание горожан отражает резкие социальные
различия. Городская верхушка – дворяне, чиновники и богатые купцы питаются на
европейский лад, держат поваров. Роскошь их стола вполне сравнима с отмеченной
Домостроем, а по разнообразию блюд даже превосходит ее. Книга Е. А. Авдеевой
рекомендует в день четыре трапезы – завтрак, обед, чай и ужин – и сохраняет
традиционное различие питания в пост и в мясоед, в будни и в праздники. Так,
простой завтрак мог быть «дешевым» (бутерброд с солониной, ветчиной или сыром,
вареный «в мундире» картофель, яйца всмятку, мясной винегрет) или «дорогим» (с
добавлением горячего мясного блюда – солянки, бараньей головы, жареной телятины
или телячьей печенки). Званый завтрак – на именины или в приходский праздник –
устраивался после обедни. Обязательны были два стола: первый – с водкой и
закуской, второй – с холодным и жарким, птицей, паштетом, непременной кулебякой
с рыбой или круглым мясным пирогом (Авдееева, 1851, ч. I, с. 179 – 182).
Обеды тоже бывали различными: из трех, чаще
всего из пяти, из девяти блюд. Автор предлагает несколько десятков вариантов
обеда: например, в пост в будни – окрошку, жареную рыбу и сливочные вафли; в
мясоед – щи из свежей капусты, баранью ногу с огурцами, оладьи; в пост- – уху
из рыбы, заливную рыбу, котлеты из рыбы, жареную начиненную рыбу, компот из
абрикосов; в мясоед летом – суп из лимонов, фаршированную баранью ногу, цветную
капусту, курицу, фаршированную печенкой, малину со сливками; обедов из девяти
блюд предложено лишь два меню (Там же, с. 165 – 176). Видно, что довольно
твердо установилась уже новая очередность блюд: жидкое – густое – сладкое,
сохранившаяся и до наших дней.
«Кроме Петербурга и Остзейских губерний, – пишет
К. А. Авдеева, – где более употребляют кофей, во всей остальной России по утрам
пьют чай как в богатых, так и в бедных домах». Черный байховый предпочитают
цветочному. «Знающие в чаю вкус никогда не пьют его со сливками или с лимоном,
не кладут ни сыропов, ни морсов». Чай подают и во второй половине дня – -тогда
накрывается с сухарями, кренделями, белым и пеклеванным хлебом и, видимо, для
«не знающих в чаю вкуса» – со сливками и лимоном. Разливает чай хозяйка или
старшая дочь (Авдеева, 1851, ч. II, с. 66 – 67).
Кофе (если употребляли вообще) подавали после
обеда, прямо за обеденным столом, но чаще – спустя некоторое время, в гостиной,
за разговором. Разливала кофе хозяйка (Там же, с. 62).
Рачительная хозяйка, как и в XVI в., стремилась
экономить, давая к ужину остатки от обеда. Блюда с остатками кушаний относили
после обеда в девичью или в официантскую, где хозяйка или экономка решали, что
оставить к другому дню, что подать к ужину (Авдеева, 1851, ч. II, с. 10 – 11).
Среднее и бедное мещанство твердо держится
традиционной основы питания – «щей и каши», но серьезно ее расширяет прежде
всего за счет продуктов огородничества и садоводства. Редкие сведения о питании
нового городского класса – промышленных рабочих рисуют картину даже более
бедную, чем питание зависимых людей в средневековом городе, – сухомятку и
вообще неустройство.
Наряду с этим все большее место в питании
горожан (в особенности мужчин) занимает то, что мы теперь называем общественным
питанием. Уже в XVI в. на городском торгу бывало обычно много торговцев
готовыми съестными изделями и напитками. Торговали, что называется, с рук или
имели палатки. Так или иначе, на торгу можно было при желании закусить и
выпить. Той же цели служили корчмы, а позднее – кружечные Дворы, в известной мере
– торговые бани, трактиры и иные заведения (Рабинович, 1978а, с. 126 – 132).
Роль питания вне дома усиливалась, и в крупных городах семья, не имевшая
условий для содержания собственной кухни, а главным образом холостые деловые
люди, широко пользовались разного рода ресторациями, трактирами,
кухмистерскими. В
Даже при поверхностном взгляде на состав
кушаний, подававшихся за обедом и ужином горожан среднего и низкого достатка,
можно заметить областные особенности, связанные по большей части с
соответствующими чертами сельского хозяйства, поскольку привозные издалека
продукты попадали главным образом на стол зажиточных горожан. Так, северные
города, находившиеся в областях, где плохо произрастала капуста, почти не знали
капустных щей, заменяя их крупяными. Капустные щи преобладали в центральных
губерниях, а в Среднем и Нижнем Поволжье и на юге Европейской России чаще
готовили борщ из свеклы или из свеклы и капусты. Таким же образом – в
направлении от севера к югу – усиливалось употребление овощей. Интересно
отметить, что новый, очень важный продукт – картофель в северных губерниях
употреблялся либо с крупами, либо в «чистом» виде (лишь с приправой капусты и
огурцов), а в южных – крошенным с другими овощами – солеными огурцами, квашеной
капустой, свеклой, а то и с уксусом (vinaigre), от которого это кушанье и
получило в некоторых местах французское название «винегрет».
Подобным же образом и сорта мяса употреблялись
по-разному: на севере и северо-востоке предпочитали баранину и говядину, на юге
и юго-западе – свинину. Нужно отметить и влияние пищи соседей: в
северо-восточных губерниях, например, были распространены пельмени – кушанье,
по-видимому возникшее в результате тесных контактов с обскими уграми; в южных
губерниях чувствуется влияние украинской кухни.
Нужно сказать еще несколько слов о появившемся у
рядовых горожан в конце XVIII в. и распространившемся в XIX в. обычае чаепития,
который, как уже отмечено, имел большое влияние на весь городской быт. Ответы
на Программу Географического общества показывают (вопреки приведенному выше
утверждению К. А. Авдеевой), что в первой половине XIX в. «самоварная роскошь»
(если иметь в виду средние и беднейшие слои горожан) только начала еще
распространяться из больших городов в малые. Среди наших материалов имеются сведения
лишь о семи городах (не считая столичных и губернских, из которых ответов почти
не поступило), где чаепитие развилось в различных формах: питья чая в трактирах
(преимущественно мужчинами), домашнего угощения для посетителей (оно иногда
было специфически женским) и, наконец, излюбленной семейной трапезы, без
которой не начинают дня и не ложатся спать. В дальнейшем чаепитие прочно вошло
в быт всех слоев населения больших и малых городов. Сама процедура чаепития –
самовары и чашки за обычным обеденным столом – складывалась в России (в
городах, а потом и в деревнях) по западноевропейскому, а не по восточному
образцу. Чай пили преимущественно черный, а не зеленый, без разного рода
добавок, столь характерных для восточных соседей – кочевников, и, уж конечно,
не употребляли специальных чайных низеньких столиков, составлявших с древних
времен характерный аксессуар дальневосточной чайной церемонии.
Отметим в заключение, что в питании горожан
отразилась и усилившаяся в XVIII – XIX вв. мобильность населения. Сильнее всего
она ощущалась в новых крупных торговых и промышленных городах. Наиболее ярким
примером служит, разумеется, Одесса – тогдашний город-новостройка. «Стол
одесский, как народонаселение Одессы, – смесь кушаньев разных наций: русские
блины, пироги и щи; малороссийский борщ и вареники; польские голубцы и разные
запеканки; молдавская мамалыга, азиятский пилав и греческия кушанья – все
сделано общим. Но русские сохранили свой драгоценный квас, хотя большая часть
из них пьют воду с вином, которое очень дешево...» (Авдеева, 1842, с. 90 – 91).
РИТУАЛЬНАЯ ЕДА
Наш очерк питания русских горожан в эпоху
феодализма был бы не полон без анализа пищи ритуальной. Торжественные городские
и праздничные (в том числе и ритуальные) пиршества-братчины, угощения в
храмовые праздники, свадебный, крестильный и поминальный столы уже описаны в
очерках общественного и домашнего быта (Рабинович, 1978а, с. 136 – 141). Здесь
мы расскажем о ритуальной еде, как она складывалась главным образом внутри
семьи и вообще в быту, так сказать, внутреннем.
В качестве обрядовых блюд в городе, как и в
деревне, чаще всего употреблялись кушанья, распространенные и в повседневном
быту, но тщательнее приготовленные из специально для : того предназначенных
(обычно и лучшего качества) продуктов. Так, в различные ритуалы прочно вошла
каша – по-видимому, очень древняя ритуальная еда восточных славян. Иногда кашей
называлось вообще праздничное пиршество, а то и весь обряд. Так, еще в XIII в.
молодой князь Александр Ярославич (прозванный впоследствии Невским) «оженися и
венчася в Торопчи, ту кашю чини, а в Новгороде другую» (НПЛ, с. 77). Кормление
молодых кашей было и в XVI – XVII вв. одним из важных элементов свадебного
обряда, вероятно восходивших к глубокой дохристианской древности. Нам уже
случалось говорить о роли каши в крестильном цикле обрядов (бабина каша).
Сладкая, неразваренная каша – кутья или коливо – была обязательной на тризне по
умершим. Она же стала важной составной частью трапезы в рождественский
сочельник (Дворникова, с. 394). Например, в Тихвинском монастыре в
Блины были важнейшим ритуальным блюдом в
праздник масленицы – проводы зимы. Исследователи считают, что и сама круглая
форма блина связана с солярным культом, что блин являлся символом солнца. Блины
на масленице ели с разными приправами, какая кому была доступна; даже бедняки
позволяли себе смазывать их сливочным маслом (которое вообще употребляли редко)
и забелой (сметаной). Только что мы привели упоминание блинов с соком очевидно
– конопляным) и маком. При обилии в русской кухне рыбных блюд уже очень рано
должен был появиться у зажиточных горожан обычай есть блины с икрой, разными
сортами соленой и копченой рыбы. В Курске, на юге России, в начале 1840-х годов
гречневые блины ели с маслом, сметаной, икрой и маслинами (Авдеева, 1842, с.
74). Но собственно ритуальное значение имел только сам блин. Масленая неделя
рассматривалась, кроме того, как преддверие великого поста – естественно, что
есть стремились как можно лучше, предвидя долгое и значительное ограничение в
пище. Обильная еда, трапезы, устраивавшиеся иногда молодежью вскладчину,
являлись и неотъемлемой принадлежностью самого обряда проводов зимы (Соколова,
с. 52 – 53).
Богаче всего стол горожанина был на первый день
пасхи – велик день, как называли его. Здесь имело значение и то, что это был
первый день по окончании Великого поста (говения), когда следовало
разговляться. К столу подавались лучшие блюда, какие только были доступны по
состоянию. Ритуальное значение при этом имели крашеные (мазаные) яйца, а также
специально выпекавшийся и по возможности освящавшийся в церкви высокий круглый
хлеб из белого сдобного теста – хлеб пасочен, пасха или, как стали называть его
позже, кулич и сырная (творожная) пасха, изготовлявшаяся иногда в специальной
форме. Кажется, этот комплекс пасхальных блюд складывался постепенно. В конце
XVI в. в Троице-Сергиеве монастыре в Велик день «на братью ества: колачи да по
два яйца ко штем, да осетрина шехоньская, да ина рыба добра ж, да по три меры
меду, а на ужине рыба же да по две меры – меду» (ДАИ, 1, № 135 – I, с. 281). В
Тихвинском же монастыре «в начале трапезы келарь раздает хлеб пасочен с яицы
печен и сыр, по кусу и по яйцу, вместо же ржаных хлебы пшеничны, с маслом и
яицы печены и мазаны яицы ж: 1-я шти капусты, 2 – сиги или лещи жарены, 3-я
сковрады сиговы, ли мневы (налимьи. – М. Р.), 4 – карасы телные, 5 – лососина
ли лбдога просольная, квас поделной, мед». Ужин: «1 – шти, 2 – млеко, ли каша
крутая, ли саломата, ли серка каша, ли лососья, 3 – остатки обед-ные, рыба и
колачи, квас же обычный» (ДАИ 1, № 135 – II, с. 220). Все три ритуальных
кушанья (если считать упомянутый в указе «сыр» сырной – творожной – пасхой)
подавали в Тихвинском монастыре, а в Троицком только «яйца ко штем» и калачи,
видимо игравшие роль пасочного хлеба. В целом монастырский пасхальный стол
довольно обилен. Если заменить некоторые рыбные блюда мясными, можно составить
представление и о пасхальном «разговлений» в доме средней руки посадского
человека. Ритуальные пасхальные кушанья – кулич и сырная пасха – по-видимому,
связаны с древними дохристианскими ритуальными хлебом (караваем) и сыром,
вошедшими, например, и в народный свадебный обряд, как рождественские кутья и
блины связаны с древней земледельческо-солярной символикой, с кушаньями, вошедшими
в обряд погребальной тризны.
Сходство ритуальной святочной еды с поминальной
отмечал еще Д. К. Зеленин. «Обрядовые блюда восточнославянского рождественского
праздника, – писал он, – не оставляют сомнения в том, что этот праздник некогда
представлял собой поминки, был посвящен культу предков» (Zelenin, S. 375).
Наиболее полно обосновал это положение В. Я.
Пропп, указав на важность самой даты рождества, приходящейся на зимний
солнцеворот – традиционный период поминовения предков (Пропп, с. 14 – 17).
Весьма важно его объяснение выбора в качестве ритуального кушанья кутьи тем,
что она приготовлена из нераздробленных и по возможности длинных, а не круглых
зерен (пшеницы, в городах – риса). Но утверждение, что блины сами по себе
лишены ритуального значения и представляют собой лишь наиболее простое угощение
покойников (связь круглой формы блинов с солярным культом В. Я. Пропп отрицает
вовсе), нуждается, по нашему мнению, в дополнительной аргументации.
Что же касается сходства ритуальной пасхальной
еды со свадебной, то в научной литературе нам не встретилось объяснений этого.
Но думается, что сам характер пасхи как весеннего праздника возрождения имеет
много общего со свадебным «весельем», в центре которого стоит забота о
продолжении рода, об изобилии. С этой точки зрения особенно интересны функции
пасхальных яиц. В. Я. Пропп отмечает, что яйцо одновременно и знак воскресения
из мертвых и средство оживления растительных функций (например, хлеба. – Пропп,
с. 96 – 97), и приводит примеры использования пасхальных яиц в магии
плодородия. «Яйцо, – пишет он, – обладает теми же свойствами, что и семя: оно
охраняет, содержит жизнь и воссоздает ее» (Пропп, с. 16). Обрядовое значение
свадебного каравая как древа жизни, символа всякого плодородия хорошо показано
в книге Л. Ф. Артюх (с. 91 – 96). Ритуальный сдобный хлеб – пасха, каравай, сыр
– сырная пасха, яйца органично входят поэтому как в весенний пасхальный
праздник, так и в свадебный обряд. Православная церковь, разрабатывая свой
комплект ритуальных блюд, вероятно, использовала древние, дохристианские обряды
и обычаи.
Из свадебных ритуальных кушаний следует назвать
еще печеную (жареную) курицу (о символике плодородия мы уже говорили в другой
связи. – Рабинович, 1978а, с. 230), пряник и круглые булочки – шишки, которые
раздавали гостям преимущественно в южнорусских и украинских землях (Артюх, с.
97).
Чрезвычайно велико было ритуальное значение
пирогов (особенно в семейных праздниках и обрядах). Пожалуй, ярче всего оно
проявлялось в празднике именин, о чем нам уже случалось писать (Рабинович,
1978а, с. 251 – 254). Отметим здесь, что именинный пирог считали тесно
связанным с личностью именинника и даже называли «именинник». Пирог должен был
получиться таким же удачным, как тот, в чью честь его испекли.
В Курске отмечен связанный с этим интересный
магический обряд: перед именинным обедом, когда уже садились за стол, двое из
старших членов семьи разламывали пирог над головой именинника, сопровождая это
действие пожеланиями счастья и долгих лет. Если при этом сыпалась начинка,
приговаривали: «Так бы сыпались на тебя золото и серебро». Затем половину
пирога оставляли имениннику, другую раздавали всем присутствующим;
отсутствующим родственникам посылали тоже «именинники», но без начинки (Авдеева,
1842, с. 71). В обряде этом можно увидеть магию подобия, направленную как на
благополучие именинника, так и на укрепление единства всей семьи. Вспомним в
этой связи наблюдение Д. Флетчера, что те, кто вкушает кусок свадебного
каравая, «чувствуют себя как бы крохами одного хлеба» (Флетчер, с. 113).
На именины, а также на крестины в Курске в
середине XIX в. пекли «пряженые пироги с кашей и яйцами» (в пост – с кашей, с
рыбой, с грибами). Видное место отводилось пирогу и в похоронно-поминальном обряде.
Пироги для церковного причта приносили на похороны в церковь семья и
родственники умершего, а на тризне в его доме (хотя главную роль как обрядовое
блюдо играли блины) конец поминального обеда традиционно обозначался тем, что
подавали на большом блюде окруженный свечами пирог, который тут же резали и
раздавали нищим (Авдеева, 1842, с. 72, 74 – 75).
Были и другие ритуальные печенья, связанные с
более поздней христианской обрядностью. Наиболее распространенное из них,
применявшееся при церковных службах, – просвиры или просфоры – пшеничные
булочки, крестообразно разделенные на четыре части. Их употребляли регулярно в
течение всего года, и для выпечки просвир при церквах и монастырях были
специальные лица (обычно женщины) – просвирни или проскурницы. Из домашнего
ритуального печенья нужно отметить кресты крестообразные булочки, выпекавшиеся
в январе, на крещение. Ранней весной, на 8 марта, в ознаменование прилета
первых птиц и для заклинания весны пекли жаворонки, напоминавшие по форме
птицу. Известны и другие печенья в форме животных – козули, коровушки.
В дни поминовения умерших в XIX в. пекли лесенку
– продолговатый, открытый сверху пирог, разделенный, подобно лестнице,
перекладинами из теста, между которыми клали сладкую начинку. Лесенку брали в
церковь на панихиду по умершим, а потом оставляли церковному причту либо
относили на могилу. По некоторым сведениям, относящимся к середине XIX в.,
раньше лесенку пекли на праздник вознесения; она символизировала подъем на небо
Христа. Позднее эта своеобразная помощь в достижении рая распространилась на
всех умерших. В. Я. Пропп отмечал также применение лесенки в земледельческой
магии (Пропп, с. 29 – 30).
Наконец, поминальным блюдом был кисель,
подававшийся на тризнах. Ритуальное значение имели также и некоторые хмельные
напитки. В древности это были пиво и мед, широко употреблявшиеся при различных
обрядах. Ритуальное питье хмельных напитков из особых, специально
предназначенных для этого сосудов-рогов известно с глубокой древности. Есть археологические
находки самих рогов X в. (Рыбаков, 1949, с. 46) и изображений ритуальной пляски
с рогом (XII в. – Рыбаков, 1981, с. 436 – 437) на браслетах, предназначенных
для русальской пляски. Ритуал питья на пирах круговой чаши «за здоровье»
прослеживается на первых трех этапах развития городов (IX – XVII вв.). С этим
ритуальным значением хмельных напитков связано и то, что самое их изготовление
сопровождалось особым ритуалом. Пивные праздники – кануны, коллективная варка
пива для братчин, восходящие к средневековью, сохранились в русской деревне до
начала XX в. Воеводские наказы, в которых разрешается горожанам варить пиво к
семейным праздникам (ДАИ III, № 18 – 20, с. 77 – 92), позволяют предполагать,
что еще в XVII в. в городах существовали кануны, хотя братчины отошли в
прошлое. Хмельные напитки, вероятно, и в древности играли большую роль в
ритуале разговления.
В православной церковной службе, видимо, с
самого введения на Руси христианства важное место занимало вино, претворявшееся
в «кровь Христову»: при причастии полагался глоток вина.
Итак, ритуальная еда горожан по составу кушаний
восходила к древним, дохристианским временам и была тесно связана с
земледельческим характером хозяйства. Православная церковь, внеся в эту область
питания кое-какие новшества, все же восприняла и многие древние кушанья, так
что в городском быту и в освященных церковью ритуальных действах можно было
проследить еще в недавние времена кушанья весьма древние. В некоторых случаях и
самое ритуальное их употребление говорит о древности кушаний. Иные ритуальные
блюда (например, блины) к XIX в. широко вошли и в повседневный быт горожан,
составляя «любимый завтрак» даже в будни. В целом древнейшие ритуальные кушанья
– деревенского происхождения, но город и, в частности, церковь внесли, как мы
видели, в ритуальную еду серьезные новшества, воспринятые потом и сельским
населением.
УТВАРЬ
Утварь, которой пользовались русские горожане
для хранения, приготовления и принятия пищи, имела по своему происхождению
общенародный характер, но городская жизнь требовала более широкого и
специализированного ее ассортимента.
Бочки и кадки, лари и короба для хранения
сыпучих и жидких продуктов, засолки рыбы, мяса, капусты и огурцов были примерно
тех же форм и размеров, что и в деревне, но, например, миниатюрные бочоночки
для хранения и разливания лучших сортов вин, о которых говорит Домострой, как и
металлические оловяники, по-видимому, городское изобретение. Остатки такого
бочонка емкостью литра в два найдены при раскопках в Москве на территории
Великого посада (Рабинович, 1964, с. 291 – 292). В богатых домах
(преимущественно у живущих в городе феодалов) дорогое привозное вино и масло
хранили (в IX – XIII вв.) также в тех сосудах, в которых они были привезены, –
в корчагах – средневековых византийских амфорах. Находки обломков амфор всегда
сосредоточены, как уже сказано, в феодальном центре города.
Для переноски воды служили на первых трех этапах
развития городов деревянные клепаные ведра с железными дужками. Дужки эти –
довольно частая находка при раскопках городов. На четвертом этапе только еще
появляются металлические ведра, в дальнейшем вытеснившие деревянные. Нужно
отметить, что размер ведер стал примерно одинаковым в различных хозяйствах и
селениях очень рано, поскольку уже Русская Правда (Краткая редакция) знает
ведро в качестве общепринятой меры количества продуктов (ПРП I, ст. 42).
Ведра носили по два на гнутом коромысле,
которое, судя по изображениям, в древности, по-видимому, имело ту же форму, что
и в наши дни (Колчин, 1968, с. 80; Балдина, с. 137). Другой тип коромысел,
известных в средневековой Европе, – прямых, с подвижными привесками – в наших
материалах не встречается.
Но существовал в древнерусском городе еще один
способ носки воды, исчезнувший на рубеже XVII – XVIII вв., – носка воды
кувшинами. Глиняный кувшин имел меньшую емкость, чем ведро, и при переноске
ставился на плечо. В XIX – XX вв. такой способ переноски воды еще был широко
известен на Ближнем и Среднем Востоке (Кавказ, Средняя Азия, Причерноморье) и в
Средиземноморье, включая Испанию. И как ни экзотично в нашем представлении
выглядит девушка, идущая по воду с кувшином, мы должны ясно представить себе,
что так могла выглядеть и русская горожанка. Кувшины для воды – частая находка
в культурном слое русских городов. Это крупные, красивые сосуды, иногда с
надписями, указывающими на их принадлежность. В Москве найдено два таких
кувшина с надписями: «Федорин кувшин» и «Кувшин добра человека Григорья
Офонасьева». И если личность Федоры так и осталась не установленной, то
относительно Григория Афанасьева удалось выяснить, что это был довольно
зажиточный посадский человек, имевший лавку в Китай-городе и дом в Земляном
городе, где-то в районе современного Казарменного переулка (Рабинович, 1984, с.
178 – 182). Нужно думать, что он не сам ходил за водой. В крупных городах, где
проблема водоснабжения стояла иногда довольно остро, имелись специалисты –
водовозы, развозившие воду на лошадях, в особых больших бочках с колесами. В
XVIII – XIX вв. фигура водовоза была характерна для городского пейзажа. Нужно
думать, что хозяева крупных усадеб
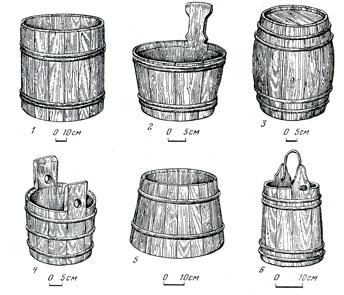
16. БОНДАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. НОВГОРОД, Х-ХШ ВВ. (ПО Б.
А. КОЛЧИНУ): I, 5 – кадки; 2 – шайка; 3 – бочка; 4 – ушат; 6 – ведро
в XVII в. могли иметь водовозов в числе своей
дворни и, следовательно, водовозные бочки в составе усадебного инвентаря. Но
источники о таких бочках не упоминают. Вода хранилась в крупных бочках и кадках
обычно в доме, где-либо возле места, где готовили пищу; могла быть и еще бочка,
побольше, во дворе для поения скотины и иных хозяйственных нужд.
Переходя к утвари для приготовления пищи,
необходимо напомнить, что как у горожан, так и у крестьян пищу готовили женщины
в так называемой русской духовой печи, одновременно отапливавшей помещение.
Особенность устройства этой печи, важная для понимания форм утвари, была в том,
что сосуды с приготовляемой пищей находились на одном уровне с горящими дровами
и обогревались сбоку. Очаг или печь иного устройства, в которых огонь находился
бы ниже готовящейся пищи, в рассматриваемый нами период на Руси не применяли и
соответственно почти не знали котлов, подвешиваемых над огнем, и иной
аналогичной утвари. Ее применяли только в походных условиях, когда приходилось
варить на костре. Русская летопись описывает как исключение, что князь
Святослав Игоревич, передвигаясь быстро, налегке, без обозов, не брал с собою котлов
(ПВЛ 1, с. 45). Котлы как принадлежность «поваров и хлебников» в богатом
городском доме упоминает Домострой (Д., ст. 48, с. 47). Возможно, в таком
хозяйстве в XVI в. и позже котлы вмазывались в печь или было еще какое-то
приспособление для варки пищи или напитков в котлах. Но для кухни рядового
горожанина в течение всего рассматриваемого нами периода котлы не были
характерны. С развитием чугунного литья стали делать горшки из чугуна – чугуны.
Главным кухонным сосудом на Руси, как в деревне,
так и в городе, был глиняный горшок, специально приспособленный именно к
готовке в русской печи, чем обусловлена и его форма – узкая внизу,
расширяющаяся кверху по определенной кривой, с таким расчетом, чтобы можно было
использовать, например, жар углей. Горшки такой формы, как уже отмечалось
исследователями, были характерны не только для русских, но и для славян вообще
и распространены в эпоху раннего средневековья на широкой территории от Эльбы
до Волги (Арциховский, 1930, с. 89 – 94; Токарев). Для того чтобы ставить
горшки в печь, передвигать и вынимать их служил особый инструмент – ухват –
железная дужка на длинной деревянной рукояти; работа ухватом требовала
сноровки, которая приобреталась длительной практикой.
Будучи приспособлены для приготовления пищи,
горшки применялись и для хранения продуктов и кушаний, и для подачи на стол.
Они бывали разнообразных размеров – от огромной корчаги до маленького горшочка
емкостью грамм 200 – 300. Можно отметить, что орнамент, украшавший поверхность
горшков, был богаче всего на первом этапе развития городов и вообще
орнаментация находилась в некоей обратной пропорции к развитию ремесла (в
частности, в деревне горшки орнаментировались богаче, чем в городах), но сами
технические качества их (крепость, огнестойкость) неуклонно повышались. Притом
горшки, предназначенные для подачи на стол, отделывались снаружи тщательнее,
чем печные. Горшками в хозяйстве дорожили, и если горшок давал трещину и не
годился уже для печи и стола, его тщательно оплетали берестяными лентами, если
нужно, скрепляли кое-где металлическими заклепками и употребляли для хранения
продуктов. Домострой специально указывает, что у хорошего хозяина вся посуда
«перекреплена» и служит поэтому долго (Д., ст. 48, с. 47). Еще в XIX в.
сохранилась и народная загадка: «Был ребенок не знал пеленок, стар стал –
пеленаться стал» (Даль, 1957, с. 602), имевшая в виду такой скрепленный горшок.
Оплетенные берестой сосуды – довольно частая находка при археологических
раскопках городов.
Если для крестьянского хозяйства, особенно в
древности, горшок был универсальной и едва ли не единственной домашней посудой,
то в доме горожанина уже на первом этапе развития городов можно было увидеть
более широкий ассортимент посуды, в том числе посуды глиняной. Для
приготовления жареной пищи употребляли глиняные сковороды или, как их еще
называли, латки, сосуды, напоминавшие кастрюлю, несколько расширяющуюся кверху,
подобно нижней части горшка, и имевшие полую глиняную же ручку, в отверстие
которой вставлялась деревянная рукоятка.
В богатых домах, по-видимому, бывали и
металлические сковороды, по форме похожие на глиняные, тоже с довольно высоким
краем. Их можно увидеть в коллекциях музеев, относящихся к XVII в. Судя по
находкам отдельных фрагментов, в XVI – XVII вв. употреблялись и глиняные
сковороды больших размеров с низким краем, напоминающие современные сковороды
без ручки. Найден и железный сковородник или чапельник, которым можно было
передвигать и поднимать такие сковороды за край.
Различными горшками и сковородами ограничивалась
собственно печная посуда рядового горожанина. В зажиточных домах, как уже
сказано, упоминаются в XVI – XVII вв., кроме этого, еще котлы, о которых иногда
оговаривается, что они «путные» (дорожные – М. Р.) и притом «небольшие»
(ТВорУАК, V, с. 128). Для жаренья применялись вертели.
Была еще кухонная утварь, служившая для
приготовления пищи, но непосредственно с огнем не связанная: преимущественно
деревянные ведра, решета и сита для просеивания муки, квашни для приготовления
теста, корыта и ночвы. И хотя в письменных источниках упоминаний нет, вряд ли
можно было обойтись без веселки для размешивания теста и скалки для его
«еканья» – раскатывания при изготовлении различных изделий. Целая группа
сосудов (преимущественно глиняных) предназначалась для обработки молока и
приготовления кисломолочных продуктов. При раскопках городов найдены и корчаги
со специальным носком для снятия сливок, и сосуды со множеством отверстий в дне
для откидывания творога, а также горшки и кувшины с высоким горлом,
приближающиеся по форме к позднейшим крынкам. Масло сбивали деревянными
мутовками, обычно вырезавшимися из молодого ствола сосны или ели с характерным
кольцом сучков. Кухонную посуду Домострой предписывает держать в чистоте, мыть
горячей водой по крайней мере раз в день и вытирать. Ведра, ночвы, квашни,
корыта, решета, сита, горшки, кушины, корчаги отнюдь не должны валяться
кое-как, но лежать «ниц» (т. е. вверх дном), «а всякие суды с питием и ествою
было бы покрыто, а в избе- – повязано от тараканов и всякия нечистоты» (Д., ст.
38, с. 36).
Столовая и парадная посуда горожан в течение
рассматриваемого нами тысячелетия обогащалась как по ассортименту, так и по
качеству. По-видимому, уже с глубокой древности в составе ее были по крайней
мере два обязательных предмета – горшок и миска (рис. 17, 1 – 2, 3 – 5). Среди
керамических остатков, найденных в древнейших горизонтах городского культурного
слоя, есть фрагменты горшков и мисок. Размеры мисок были разнообразны –
встречались очень большие, явно предназначенные для коллективной трапезы, но
уже довольно рано наряду с ними попадаются и небольшие керамические и
деревянные миски индивидуального пользования. Миски были глубокие,
приспособленные как для жидкой, так и для густой пищи. Большую общую миску, из
которой ели несколько человек, Даниил Заточник (XII в.) называет солилом (СДЗ,
с. 56).
Ели жидкую и густую пищу преимущественно ложками
– деревянными, костяными, металлическими. Отношение к этому предмету
демонстрируется известной летописной притчей о том, как дружинники князя
Владимира сетовали, что едят деревянными, а не серебряными ложками. Князь
тотчас велел «исковать» для них серебряные ложки, примолвив, что серебром и
золотом не добудешь дружины, а с дружиной добудешь и золото и серебро (ПВЛ 1, с.
86). Эта притча указывает косвенно и на коллективный характер питания дружины
за княжеским столом, с княжеской посудой.
Находки деревянных ложек при раскопках городов часты,
костяных и металлических – значительно реже. Детали их формы различаются как по
областям, так и во времени. Но «рабочая часть» ложки повсюду одинакова –
округлая, иногда несколько суживающаяся к концу, весьма схожая с деревянными
ложками, выделываемыми кое-где и сейчас. Есть находки деревянных ложек с
христианской символикой – разного рода крестиками-оберегами, с богато
орнаментированными рукоятками (Колчин, 1968, с. 85, табл.27, 28; Рабинович,
1964, с. 294, рис. 127), а также дорогих привозных резных костяных ложек,
видимо привезенных из Западной Европы. В некоторых собраниях сохранились еще и
драгоценные, художественной работы металлические ложки московской феодальной
знати. Так, среди ценностей, хранивших-
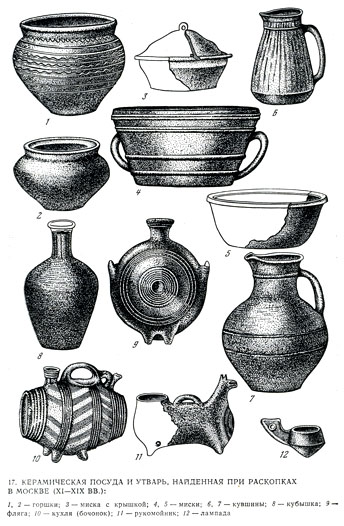
17. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА И УТВАРЬ, НАЙДЕННАЯ ПРИ
РАСКОПКАХ В МОСКВЕ (XI – XIX ВВ.):
1,2 – горшки; 3 – миска с крышкой; 4, 5 – миски;
6,7 – кувшины; 8 – кубышка; 9 – фляга; 10 – кухля (бочонок); 11 – рукомойник;
12 – лампада
ся в ризнице Троицкого монастыря имеется
серебряная ложка – вклад князя Федора Борисовича Волоцкого (конец XV – начало
XVI в.). На вогнутой поверхности ее рабочей части выгравирована фигура сидящего
на низком табурете юноши с ладьевидным ковшом в руке. Над головой – древо жизни
– один из важнейших древнерусских благопожелательных символов (Николаева, с.
242, рис. 77).
Драгоценные ложки обычно берегли, носили при
себе в футлярах; простые деревянные хранились дома в стойках-ложечниках или за
настенной жердочкой (Колчин, 1968, с. 85).
Наряду с ложкой для еды был необходим железный
нож, который всегда носили на поясе. Сильно сточенные ножи – частая находка в
культурном слое городов. Ложка и нож составляли весь обязательный для еды
комплект инструментов (если можно так выразиться) на первых трех этапах
развития городов. Даже в XVII в. и царский стол не знал еще вилок: кусок,
отрезанный ножом, брали рукой или ложкой – «чем было способнее». Вилки
появились в городском обиходе в XVIII – XIX вв.
Для питья были также индивидуальные и
коллективные сосуды – кубки, рога, чары. Красивые керамические зеленые поливные
кубки расходились по всей Руси из Любеча. Знать пользовалась стеклянными
бокалами сирийского и вообще восточного производства (Макарова, табл. 15 – 16).
Обломки тех и других сосудов встречены в культурном слое многих городов
Древнерусского государства, связанных с Киевщиной; о рогах мы уже упоминали.
Наиболее роскошными считались крупные рога тура, оправлявшиеся чеканным
серебром.
К XII в. относится дошедшая до нас чара
черниговского князя Владимира Давыдовича – большой сосуд для кругового
заздравного питья, о чем говорит вычеканенная по краю сосуда надпись: «А се
чара князя Володимирова Давыдовича, кто из нее пьет тому на здоровье, а хваля
бога своего и господаря великого князя» (Ржига, с. 53). Уже Русская Правда (в
Краткой редакции) предусматривает и такие неприятные случаи, связанные,
очевидно, с пиршествами, когда муж может ударить мужа «чашею или рогом» (ПРП I,
ст. 3). Кроме упомянутых сосудов для питья (уже не только хмельного), широко
применялись разного рода ковши – деревянные или металлические. Находки ковшей и
их обломков в культурном слое городов нередки (Колчин, 1968, табл. 31-32;
Рабинович, 1964, с. 297).
Для подачи на стол и разливания напитков служили
кувшины (глиняные, реже – металлические). Иногда водолеями служили дорогие
привозные металлические сосуды в виде фигур людей или фантастических существ.
Городская знать заказывала местным ремесленникам роскошные металлические сосуды,
которые могли служить как для круговой здравицы, так и для разливания вина.
Широко известны два таких сосуда, сделанные для новгородских посадников
мастерами Братилой и Костой в XII и XIV вв. (Рыбаков, 1948, с. 294 – 300).
Вероятно, уже к первому этапу развития городов относится появление престижных
функций сосудов. Дорогой, красивый сосуд мог просто украшать парадное помещение
или стол во время пира, показывая собравшимся богатство хозяина.
На втором этапе развития городов – в XIII – XV
вв. – ассортимент столовой посуды обогатился довольно мало. По-прежнему основой
его оставались горшок и миска, ложка и нож. На смену исчезнувшим стеклянным и
керамическим бокалам пришли у богатых горожан среднеазиатские чаши – пиалы
(Латышева, 1971, с. 223 – 226) и металлические кубки. Несколько обогатились
формы кувшинов. Наряду с крупными кувшинами для доставания и хранения воды
появились небольшие кувшины-кружки, которые могли служить и для питья.
Существенно улучшилось качество керамической посуды в связи с усовершенствованием
гончарного производства, распространением обжига посуды в специальных горнах, а
не в домашней печи. В течение XIV в. процент посуды, обожженной в горнах, резко
увеличился (Рабинович, 1971а, с. 104 – 110). Такие сосуды служили лучше, дольше.
У богатых горожан появилась металлическая – медная и оловянная – столовая
посуда, и мода на нее привела к созданию красной и черной лощеной керамической
столовой посуды, блестевшей, как металлическая. Но развитие производства такой
посуды относится к третьему этапу – к XVI в., когда применение
восстановительного обжига позволило придавать лощеным сосудам аспидно-черный
цвет, более удачно имитировавший металлическую оловянную и даже серебряную
посуду (Рабинович, 1971а, с. 104 – 105). Так средние слои горожан стремились
подражать зажиточным. Чернолощеная столовая городская посуда XVI – XVII вв.
отличалась и богатством ассортимента. Кроме горшков, различных мисок, сковород
и кастрюль (вспомним, что некоторые блюда не только изготовлялись, но и
подавались к столу «в сковрадах»), появились бутыли с округлым туловом –
кубышки – для подачи на стол и разливания жидкостей, фляги, приспособленные как
для подачи на стол, так и для походного быта (они могли подвешиваться на
перевязи через плечо), кумганы – сосуды, похожие на кувшины, но с высоким, как
у современного кофейника, носиком. Все эти три формы имеют аналогии в
керамической и металлической посуде соседних восточных стран (Кавказа, Средней
Азии). Из оригинальных керамических сосудов следует назвать еще рукомойники
(рис. 18, 11), представлявшие собой в ту пору сосуд, который мог подвешиваться
или же ставиться на стол. Последнее обстоятельство сближает рукомойники с
упомянутыми выше древними водолеями и позволяет предположить, что они играли
определенную роль и в сервировке стола, особенно если учесть, что тогда не
употребляли вилок. По археологическим находкам XVI – XVII вв. известны
чернолощеные рукомойники двух форм: обычный горшок с двумя носиками,
оформлявшимися обычно в виде голов животных – лошади или барана, и (наиболее
распространенная) несколько стилизованная фигура круторогого барана на коротких
ножках-подставках; вода наливалась через специальный венчик на спине барана и
выливалась через морду. Бывали и усложненные рукомойники этого стиля, с
головами двух животных – обычно барана и лошади – на концах. Воспоминание о
таких рукомойниках сохранились и в середине XIX в. в бытовавших в некоторых
городах (например, в Туле) поговорках-загадках типа: «Встану рано, пойду к
барану, к большому носу, к глиняной голове» (Рабинович, 1947а, с. 61).
Из металлических сосудов, распространившихся в
быту горожан в XVI – XVII вв., назовем блюда, миски, плоские тарелки, ковши,
стаканы, разнообразные небольшие чарочки для крепких напитков и два особенно
характерных сосуда – братину, напоминавшую по форме небольшой горшок с
шаровидным туловом и служившую для питья вкруговую (откуда и ее название), и
ендову – невысокий сосуд с округлым туловом и удлиненным носиком-сливом.
«Оловянник», служивший в XVI в. и мерой жидкостей, нами уже упомянут.
Кроме всех описанных сосудов, непременную часть
сервировки стола горожанина составлял набор для разного рода острых приправ –
уксуса, соли, перца, всяких соусов, для которого источники употребляют общее
название судки. Можно предположить, что в качестве судков употреблялись и
обычные сосуды, но малого размера – горшочки, кубышки, кувшинчики и т. п.
Находки таких чернолощеных сосудиков, которые считаются обычно игрушечными, в
городах нередки.
Источники XVI – XVII вв. называют среди домашней
утвари разнообразную металлическую столовую посуду – большие оловянные мисы,
оловянные блюда разных размеров – большие, средние и меньшие (ДАИ III, № 55, с.
206 – 207). «А столовые сосуды: оловяники и братины и ковши, оуксусницы,
перечницы, росольницы, солоницы, ставци, блюда, лошки, скатерти, фаты (накидки.
– М. Р.) всегда бы было чисто и готово на стол и на подставци... а ества и
питие на стол понести, осмотря, чтобы то судно было чисто же бес пороха и бес
пригарины... да тут ни кашлять, ни сморкать – отшед, вычистить нос или
выкашляться, ино не скаредно, а вежливо». Всю столовую посуду Домострой
предписывает мыть после еды трижды в день горячей водой и вытирать (Д., ст. 48
– 49, с. 48 – 49).
В богатых домах вырастает значение парадной столовой
(в особенности металлической – серебряной, позолоченной и пр.) посуды. Поставцы
с красивыми и дорогими сосудами украшали помещения, где принимали гостей.
Престижно было, чтобы на поставцах стояли и такие сосуды, которые в данной
трапезе не Употреблялись. У крупных феодалов и богатых купцов можно было
увидеть сосуды как русской работы, так и иноземные. Представление об этом дают
коллекции Оружейной палаты, изобилующие драгоценными сосудами, подаренными
иноземными государями, поднесенными купцами или просто купленными за границей.
Вероятно, у придворных и гостей собрания драгоценной посуды были не так богаты,
но все же немалоценны. Во всяком случае, отдельные вещи, сохранившиеся от этих
собраний и попавшие в музеи, обычно хорошей работы. Впрочем, и посуда самих
московских князей, как справедливо отмечает К- В. Ба-зилевич, до конца XV в. не
была так обильна драгоценными сосудами, поскольку не позволяли средства
(Базилевич). Это, впрочем, надо понимать так, что в более поздние времена
князья и цари сделались еще богаче, но относительно среднего горожанина роскошь
их была велика. Среди дорогих сосудов художественной работы, принадлежавших
московской великокняжеской семье, были ковши разных размеров и форм –
ладьевидные для разливания, круглые для питья. Первые назывались также наливка,
чернило, вторые – овкач, чум, питий ковш. Плавной ковш для разливания
представлял собой как бы маленькую серебряную ладью с фигурным «носом»-ручкой:
он должен был плавать в сосуде с напитком. В больших круглых блюдах (лебяжьих,
гусиных, поменьше – икорных) кушанья подавали на парадный стол. Высокие
цилиндрические или призматические, а иногда расширявшиеся кверху достаканы были
предками современных стаканов и позже стали делаться из стекла. В XIV – XV вв.
они были редки и привозились из Византии («достакан царегородский»).
Индивидуальными сосудами были для крепких напитков чаши и чарки (Николаева, с.
206 – 216).
Среди имущества волоцкого князя Ивана Борисовича
(начало XVI в.) названы 30 серебряных блюд, 5 мисок, перечница, уксусница, 3
солонки, 9 чарок, 8 ковшей, 1 достакан, 1 сковорода и еще какой-то
«серебряник». Еще 3 ковша и кубок были заложены. К концу жизни князь сохранил
жалкие остатки прежнего фамильного серебра – 65 драгоценных предметов. У
некоторых других князей столового серебра было значительно больше: например, у
углицкого князя одних серебряных блюд имелось 125 (Николаева, с. 241 – 242). С
таким столовым запасом уже можно было давать пиры, не рискуя ударить лицом в
грязь перед гостями. А сколько же столового серебра должен был иметь сам
великий князь московский?
Возможно, что и у рядового горожанина в избе на
грядках (полках) красовались столовые сосуды, какие были ему доступны. В
частности, черные лощеные сосуды зачастую были прекрасно выполнены и, по-видимому,
ценились. На это указывают приведенные выше надписи.
В XVII в., в особенности в его середине и второй
половине, распространилась новая мода на утварь. Русские гончары освой ли
технику изготовления поливных ценинных сосудов, среди которых преобладали также
горшки, но много было кувшинов и иной столовой посуды. Особенно красивы были
парадные кувшины сложных форм для подачи на стол напитков – кваса, браги, меда.
Но ценинная посуда была дорога; она не вытеснила из обихода рядовых горожан
посуды чернолощеной. Нужно сказать, что отдельные ценинные изделия
(погребальные сосуды, плитки для полов и т. п.) производились и применялись уже
в XIV в., но были достоянием только самого высшего круга феодалов; несколько
более распространены были упомянутые выше привозные восточные поливные чаши –
пиалы, но и они были дороги и потому редки.
Наряду с ценинной стала производиться и
стеклянная посуда – стаканы, рюмки и в особенности бутылки, – квадратные в
сечении, разных размеров штофы из мутно-зеленого стекла, которые особенно
распространились в связи с тем, что в них разливалась казенная водка. Осколки
штофов очень часты в слоях XVIII в. Однако хрупкость стекла и вообще его низкое
качество обусловили и узость применения стеклянной посуды.
XVI – XVII века были временем наибольшего
расцвета производства и наиболее широкого применения деревянной посуды (рис.
19). Еще в XVI в. С. Герберштейн отмечал специализацию некоторых районов на
производстве токарной посуды (например, в Калуге выделывали «кубки и другие
вещи из дерева, имеющие отношение к домашнему хозяйству») (Герберштейн, с.
108). Крупные центры этого производства были также в селах и слободах
Владимирского, Московского, Тверского уездов, сбывавших свою продукцию в города
(Просвиркина, с. 7, 19). Широко употреблялись деревянные ковши, скобкари (с
двумя ручками), ополовники (разливательные ложки), маленькие ков-шиш-наливки,
ендовы, ставцы (сосуды с крышками), братины, маленькие чашки на ножках – чарки
и более широкие и глубокие мисы, тарелки. Местные мастера производили сосуды,
отличавшиеся размерами, деталями формы, особенностями орнамента и отделки
поверхности (Просвиркина, с. 25 – 50). Если братины, чарки, ставцы, ендовы
подражали городским металлическим сосудам, то ковши, скобкари и пр. носили явный
отпечаток крестьянского творчества. Наряду с привозной из деревни посудой
горожане продолжали пользоваться и продукцией городских
ремесленников-деревообделочников. Найденная при раскопках городов деревянная
посуда с остатками росписи свидетельствует о древности этого способа украшения.
Изменения в пище, которые мы отметили для
четвертого этапа развития городов, и особенности появления у высших слоев
городского населения множества блюд западноевропейской кухни требовали и иного
оборудования самой поварни, которая стала называться на немецкий лад кухней. В
XVIII – XIX вв. с увеличением тесноты застройки городов, развитием
строительства доходных домов уже не всякий даже зажиточный горожанин мог иметь
поварню отдельно от дома и отводил под кухню одну из комнат квартиры. А у
рядовых горожан кухня все чаще отделяется от жилых комнат того же дома. К. А.
Авдеева отмечает, что кухня должна находиться вблизи погреба и иметь холодный
чулан. Наряду с русской печью (такой величины, чтобы могла вместиться корчага с
квасом) в кухне устраивалась плита без духов-

18. ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА XII – XIX ВВ.:
1, 2 – ложки (Новгород XIII в., Москва XV в.); 3
– черпак XV в. (Москва); 4 – ковш XIX в. (Козмодемьянск); 5 – ковш XVII в. из
капа; 6 – 8 – миски XIV – XVI вв. (Москва); 9 – тарелка XVI в. (Москва), видны
следы резания мяса; 10 – ставец с росписью северодвинского типа, XII в.; 11 – братина
конца XVII в. с росписью северного типа и надписью «Господа гостите, пьяны не
напивайтесь, вечера не дожидайтесь»; 12 – кубок XIV в. (Новгород); 13, 14 –
блюда (Новгород)
ки («английская») или с духовкой. Открытый очаг,
пишет Авдеева, нужен только для жаренья на вертеле, «без чего можно обойтись».
Кухонную мебель составляли полки для посуды и каток – стол для разделки
продуктов, ларь и шкаф одновременно. Чтобы не разводились мухи, тараканы и пр.
кухню необходимо убирать не реже, чем раз в неделю (Авдеева, 1851, ч. I, с. 1 –
2).
Расширился и ассортимент кухонной посуды
(Авадеева называет 56 ее видов, среди которых и традиционные для русского
города горшки и корчаги, деревянные квашни, чашки, лохани, бочонки, ушаты,
ведра, сита, решета, веселки – в форме весла – для размешивания теста, скалки и
лопаты для сажания хлебов, а также железные сковороды, листы для хлебов,
ухваты, сковородки, сечки и чугуны. Есть и специальная посуда для приготовления
западноевропейских блюд: медные формы для желе и пудингов, жестяные терки,
шумовки, формы и резцы для пирожного, шпиговальные иглы, особый веничек для
сбивания сливок) (Там же, с. 3 – 9).
Оживившиеся сношения с Западной Европой,
путешествия, даже войны способствовали проникновению в Россию среди прочих
новшеств и массовой посуды западноевропейского образца. Это были пивные кружки,
стаканы,чайные (см. с. 247), кофейные и столовые сервизы. Сервизы были
разнообразны: от «солитера» – набора посуды для трапезы одного только человека
– до огромных сервизов на десятки персон, состоящих из сотен предметов.
Появление и распространение сервизов относится в основном к середине и главным
образом ко второй половине XVIII в., когда освоено было производство фарфора.
До того русские фабриканты производили фаянсовые сервизы. Фарфор на первых
порах был очень дорог, и фаянсовая посуда бытовала одновре-

19. ЧАЙНЫЕ ЧАШКИ И БЛЮДЦА РУССКОЙ РАБОТЫ
СЕРЕДИНЫ XIX В.
менно с ним в не очень богатых домах (или для
прислуги). Фарфоровая и фаянсовая посуда, распространенная и в Западной Европе,
постепенно проникала и в быт рядовых горожан, вытесняя и деревянную, и
глиняную, в значительной степени и металлическую. В XIX в. фарфоровые или
фаянсовые тарелки и чайные чашки можно было найти едва ли не в каждом городском
доме. Вместе с тем особенности русского городского быта сказывались и в самом
составе выпускаемых промышленностью сервизов. Так, обычай пить чай в трактирах
привел к выпуску специального набора «пара чаю», включавшего два чайника –
большой для кипятка и малый для заварки, чашки и блюдца на подносе.
Вообще распространение обычая чаепития довольно
сильно повлияло на состав домашней утвари. К концу рассматриваемого нами
периода самовары были не только в общественных заведениях но и во многих домах.
Даже о маленьком городе Кадникове корреспондент Географического общества писал,
что почти в каждом доме имеется «все для чая» (нужно понимать – самовар с
трубой, поднос и чайная посуда). Если в конце XVIII – начале XIX в. преобладали
еще самовары западноевропейских форм (например, в стиле классицизма – похожий
на античную ; урну) и вообще формы самоваров были разнообразны и приспособлены
для разных особенностей быта, то с развитием тульского самоварного производства
этот вид утвари стал более массовым и утратил первоначально присущий ему
аристократизм.
Одновременно с внедрением в быт столовых и
чайных сервизов обогатился и набор инструментов для еды. Деревянные ложки в
городах были в значительной степени вытеснены металлическими, причем в обиходе
различали ложки разных размеров и назначений: чайные, десертные, столовые;
появились специальные столовые ножи, а также вилки. Вилка была и в середине XIX
в. даже для городских чиновников предметом сравнительно новым и отчасти
аристократическим, так что можно было, например, не нарушая хороших манер,
угощать за столом соседку со своей вилки.
При всем том, что в городском быту
распространялась утварь европейского образца, социальные различия в этой
области оставались весьма глубокими. У богатых вилки, ножи и ложки бывали
серебряными (существовал даже термин «столовое серебро»), тарелки и чашки –
тонкого фарфора, рюмки, стаканы и графины – хрустальные или тонкого прозрачного
стекла, и вообще накрытый стол изобиловал дорогими предметами. Стол богатого
горожанина украшали также сосуды, так сказать, служебного назначения – передачи
(бутылки и рюмки на столе непосредственно не ставились, а вставлялись в
бутылочные и рюмочные передачи; сами эти названия говорят о том, что сосуды
должны были при угощении передаваться из рук в руки). У бедного горожанина
ложки, вилки и ножи были железными, с деревянными или костяными черенками,
тарелки и чашки – фаянсовые, стеклянная посуда – из толстого зеленого стекла,
да и вообще всего этого было гораздо меньше, так что приглашая гостей,
приходилось, как уже было сказано, иногда брать ложки у соседей. Как и в более
ранние времена, посуду берегли и бедные и богатые. Хозяйственная книга середины
XIX в. рекомендовала рачительному хозяину оставить для ежедневного употребления
лишь самую необходимую посуду, а остальное держать в шкафу для торжественных
случаев. Сервировали стол индивидуальными приборами (причем некоторые
серебряные вещи рекомендовались и для небогатых) с подставками под ножи, вилки
и бутылки, корзинами для хлеба – плетеными или из папье-маше, граненым или
литым хрусталем. Автор отмечает, что «фарфор теперь не дорог», но фарфоровые
сервизы есть только у богатых и тоже употребляются не каждый день, что у
русских фаянсовая посуда еще «отстала от заграничной», что оловянную посуду
гостям не подают, а для семейного употребления хорошо «польское серебро»
(Авдеева, 1851,ч. II, с. 21 – 32).
В заключение нужно отметить усиление влияния
городской утвари на деревенскую. Это выразилось прежде всего в распространении
индивидуальной посуды: хотя до конца рассматриваемого нами периода в
крестьянской семье ели по большей части из одной общей посуды, в каких-то
случаях стала употребляться и посуда индивидуальная. Так, А. Н. Радищев видел в
крестьянской избе «деревянные кружки, тарелками называемые» (Радищев, с. 186),
которые, возможно, употреблялись, как и в древности, для нарезывания мяса в щи
(тут же упомянута и деревянная чашка), но могли быть и индивидуального
пользования, как это было в городах еще в XVII в., – ведь местность эта
расположена на Петербургско-Московском тракте. Многие предметы утвари, прежде
распространенные в городах и оттесненные в XVIII – XIX вв. утварью
западноевропейского образца, продолжали распространяться в деревню и на
последнем из намеченных нами этапов. Еще обогатился, в частности, ассортимент
керамической посуды. Деревня наряду с городом стала важным потребителем
продукции таких промышленных районов, как Гжель, Скопин и др. Нарядная поливная
посуда часто встречалась в это время и в крестьянских избах.
Мы рассмотрели питание русских горожан в его
развитии за тысячу лет. Ни круг используемых продуктов, ни состав кушаний, ни
трапезы, ни связанные с ними обычаи не оставались неизмененными. Освоение новых
территорий, хозяйственный прогресс, торговые и культурные взаимосвязи с
соседними и отдаленными народами, социальное расслоение, общность и
противоположность города и деревни, наконец, сложение всероссийского рынка –
все эти факторы оказывали влияние на формирование русской кухни, на
формирование стола горожанина. На каждом из четырех этапов развития городов
были общие черты русской кухни и свои, местные особенности. Вчерашние инновации
в одних случаях укоренялись, становились традициями, в других не приживались,
отмирали, исчезали бесследно. Мы видели это на примерах взаимопроникновения
областных блюд и способов питания, освоения русскими горожанами блюд народов
Приуралья, Сибири, Востока и Европы и вместе с тем наблюдали стойкость традиций
питания, готовки в русской печи, многовековую приверженность к столу, основой
которого были хлеб и квас, щи и каша, что не мешало обогащению русской кухни
сотнями новых блюд.
Из всех областей материальной культуры пища
обнаруживает, пожалуй, наибольшую близость горожан к крестьянам (что связано
прежде всего с общностью сельского хозяйства). Вместе с тем и в этой области
можно наблюдать явления, которые возникли в деревне, но уже очень рано
трансформировались в городе и, в свою очередь, оказали влияние на деревню.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели главнейшие области материальной
культуры русских горожан – жилище, одежду, пищу и утварь- – в период
феодализма. Другие проблемы городской жизни – хозяйственные занятия, застройка
и планировка городов, а также общественный и домашний быт горожан – были
предметом исследования нашей предыдущей работы «Очерки этнографии русского
феодального города. Горожане, их общественный и домашний быт». Выводы,
предлагаемые теперь вниманию читателя, построены в значительной мере на
материале обеих книг, которые с самого начала были задуманы как единое
исследование. Некоторые положения, лишь намеченные в первой книге, получили
развитие во второй.
Сюда относится, например, определение
хронологических рамок исследования. С самого начала было решено рассматривать
тысячелетний период феодализма целиком. Это первая в нашей исторической науке
попытка охватить в одном исследовании столь длинный хронологический период
развития русских городов и городской жизни. Наши предшественники даже в
обобщающих работах ограничивались обычно значительно более короткими отрезками
этого пути – несколькими столетиями, одним столетием или даже полустолетием, притом
взяв лишь часть территории или часть проблематики (например, «Древнерусские
города», или «Города Московского государства в XVI в.», или
«Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII в.»).
Безусловно, их опыт показал, что выбор короткого
хронологического отрезка имеет ряд преимуществ: такой период обычно лучше
обеспечен источниками и позволяет более подробное рассмотрение объекта. Но уже
тогда было выявлено обилие разнообразных источников и для тысячелетнего
периода, а в ходе дальнейшей работы выяснились и такие преимущества
рассмотрения всего периода феодализма целиком, как создающаяся при этом
значительно более глубокая историческая перспектива, возможность проследить
исторические корни многих явлений городской жизни, пути их развития,
преемственность типов. Благодаря такому подходу удалось доказать древность
многих этнических традиций, выявить особенности соотношения традиций с
инновациями. Пожалуй, наиболее эффективно рассмотрение в глубокой исторической
перспективе как раз явлений материальной культуры, характеризующих городской
образ жизни. Наиболее ярким примером является сложение типа жилого дома
рядового горожанина с его немногими вариантами, восходящими к древнему
восточнославянскому жилищу середины I тысячелетия н. э. Рассматривая это
явление в его развитии век за веком, мы видим и постоянные тесные
взаимоотношения горожан и крестьян, взаимосвязи и взаимовлияния городского и
сельского жилища.
Подобный же эффект дает рассмотрение в
исторической перспективе женской городской одежды: получив от окрестного
славянского сельского населения комплекс женского костюма с поневой, горожане
создают на его основе комплекс одежды с сарафаном, который уже в XVI – XVII вв.
стал активно проникать из городов в сельские местности, вытесняя поневу. Но не
успел этот процесс закончиться, как в XIX в. из городов пошла новая волна
городской моды – женский костюм, состоящий из кофты и юбки, – так называемая
парочка.
Пожалуй, наибольшая и притом очень устойчивая
зависимость города от окрестного сельского населения видна в сфере питания. Это
и естественно, поскольку в течение всего рассматриваемого периода деревня была
питательной средой города и не только в переносном, но (от века к веку все
больше) и в прямом смысле. Крестьянский тип питания «щи да каша» преобладал у
простых горожан и в XIX в. Однако мы указали в соответствующем очерке довольно
много блюд и такие установившиеся для всего народа обычаи, как чаепитие,
активно воспринимавшееся крестьянами из города еще в XVIII – XIX вв., когда его
называли «самоварной роскошью».
Та же картина тесной связи и взаимных влияний
города и деревни выявляется и при рассмотрении на протяжении длительного
периода основных и подсобных занятий горожан, в особенности их земледельческих
занятий, которые также корнями своими уходили в деревню, но, получив в городе
высокотоварный характер, в свою очередь, оказали значительное влияние на
крестьянское хозяйство.
Мы привели здесь лишь наиболее впечатляющие,
наиболее обобщенные примеры. В тексте книги их несравненно больше. Можно
сказать, что почти каждое явление материальной культуры, общественного и
семейного быта горожан коренилось в крестьянскому быту, но серьезно
перерабатывалось в городах и снова возвращалось в сельскую местность значительно
измененным (в большинстве случаев обогащенным, но иногда и упрощенным). Такой
обмен культурными ценностями, формирование общих явлений культуры в результате
взаимосвязей и взаимовлияний происходили непрерывно и играли большую роль в
создании народной культуры как целого. Город, таким образом, активно
взаимодействовал с традиционной народной культурой, являлся важным участником
ее формирования. Это особенно ясно видно при рассмотрении длительных
хронологических периодов.
Изучение развития материальной культуры за
тысячелетний период приводит еще к одному общему выводу: материальная культура
города не в такой степени, как материальная культура села, зависит от природных
условий, от ландшафта. Причина этого, как нам представляется, в самом характере
города как поселения: в его значении местного культурного, экономического,
зачастую – и административного центра, в развитии промышленности и торговли, в
оживлении связей с другими городами и землями, благодаря чему в городах более
распространены разного рода инновации и усовершенствования. На несколько
столетий раньше, чем в сельской местности, в городе исчезают полуземлянки, и
уже с XIII в. повсюду распространяются наземные рубные дома с той разницей, что
в местностях, бедных лесом, на строительство идут деревья менее подходящих
пород, а иногда сруб сооружают даже из «розного лесу», т. е. не из отборного, а
из подручного материала. В городах раньше распространяются агротехнические
новинки, новые сельскохозяйственные культуры (в особенности садовые и огородные),
более эффективные породы скота. Сельскохозяйственная зональность оказывается в
городах как бы несколько сдвинутой или стертой: широкие возможности обмена
(включая обмен семенами, обмен опытом и т. п.) как бы размывают ее границы.
Например, горожане в Московии еще в XVI в. освоили выращивание теплолюбивой
дыни.
Вместе с тем городской быт испытывал влияние
деревенского. Например, в древнем городе Чернигове – некогда важном центре
Древнерусского государства в XIX в. наблюдались специфические украинские
бытовые черты не только в такой близкой к сельскому населению сфере, как
питание, но и в такой, как домостроительство, где город занимал ведущее место:
на столе черниговца нередок был борщ, а в интерьере дома – так называемый «пiл»
– невысокая площадка для спанья рядом с печью.
Мы говорили выше, что народная культура
создавалась крестьянами и горожанами в тесном контакте. Наиболее широкой и
устойчивой зоной контактов между крестьянами и горожанами были малые города –
местные экономические и культурные центры. Общение и обмен культурными
ценностями были здесь практически беспрепятственны и непрерывны. Сельская
местность начиналась непосредственно у самой городской черты, и еще в XIX в.
окраинные городские приходы включали и соседние деревни, не имевшие своих
церквей, так что постоянное общение крестьян и горожан шло не только на
городском рынке, не только на гуляньях или при взаимных гостеваньях, но и во
время церковной службы.
При этом весьма высок был престиж города. В
ответах на Программу Географического общества неоднократно встречаются указания
на то, что крестьяне стремятся во всем подражать горожанам: и в одежде, и в
строительстве домов, и в пище, и в некоторых обрядах. Если же учесть, что
задолго до того основные элементы народного костюма, жилых и хозяйственных
построек, народной кухни были получены горожанами от крестьян, перед нами
свидетельство того обмена культурными ценностями, о котором только что
говорилось. Конечно, речь идет не только о простом обмене «деревня – город – деревня»
(хотя и он, по-видимому, происходил неоднократно). Город передавал деревне то,
что раньше получил от нее, как сказано, в измененном виде. И в процессе
переработки немалую роль играли влияния близких и отдаленных областей и
иноземные влияния, которые, будь то христианство с его обрядами, или некоторые
новые сельскохозяйственные культуры (например, картофель или подсолнечник), или
фасоны обуви и одежды, попадали в русскую деревню через города, так что
обратная волна влияний несла еще дополнительные инновации внешнего
происхождения.
Малые города были наиболее широкой и постоянной,
но отнюдь не единственной зоной соприкосновения горожан и крестьян. Контакты
имели место и в сельской местности, на ее многочисленных рынках. Более
отдаленные, но зато и более крупные рынки и культурные центры – средние и
крупные города – также были важной зоной контактов. Помимо рыночных отношений,
тут имел место более или менее регулярный (особенно на III и IV этапах развития
городов) отход, обучение у ремесленников и в учебных заведениях, рекрутчина и
совместное участие горожан и крестьян в войнах, наконец, богомолья, посещение
монастырей, – все это были различные формы контактов, также способствовавшие
обмену культурными ценностями.
Как отмечал В. В. Покшишевский, одной из
особенностей процесса урбанизации в России было то, что «города страны четко
сложились в сеть, иерархической основой которой были административные ранги
городов; две столицы – Петербург и Москва, центры генерал-губернаторств
(главным образом на окраинах), губернские и уездные города, заштатные
(«безуездные») города, местечки (в некоторых западных губерниях)» (Озерова,
Покшишевский, с. 38). В предлагаемой книге, говоря о малых, средних и крупных
городах, мы имели в виду как раз постепенное складывание такой иерархической
структуры еще на первой стадии процесса урбанизации, на которой находились, по
мнению исследователей, русские города эпохи феодализма (Покшишевский, с. 137 –
138).
Если на двух древнейших из намеченных нами
этапов развития городов выделяются города «стольные» – столицы княжеств и более
мелкие местные центры (принцип их определения см.: Куза, с. 63 – 65), если
третий этап знал уже только одну столицу, крупнейшие из бывших стольных городов
продолжали существовать как значительные центры, а меньшие стольные города
сохранили роль местных центров, то на четвертом этапе сложилась уже
окончательно описанная только что сеть городов.
Мы видели, что разные категории городов – каждая
по-своему – отдавали деревне то, что было получено городом в целом, участвовали
в постоянном обмене культурными ценностями, приводившем к созданию народной
культуры. Тут действовала непростая схема «деревня – малый город – средний
город – крупный город», хотя и такую схему можно представить себе как частный
случай. Несомненно, были важные территориальные и хронологические особенности
процесса, которые следует учитывать.
Так, в исторической литературе не раз отмечались
уже особенности развития в эпоху средневековья северо-западных русских городов
– Новгородской и Псковской земель, где малые города были редки и, по-видимому,
не играли столь большой роли, а главные города были очень крупными, важнейшими
торговыми и культурными центрами. Анализ берестяных грамот показал крепкие
непосредственные связи Новгорода со многими частями его волости. Но, во-первых,
и в Новгородской, и в Псковской земле все же существовали тогда малые города,
которые не были только крепостями (достаточно назвать Старую Русу или Старую
Ладогу), а, во-вторых, с основанием в XVIII в. Петербурга исключительное
значение Новгорода и Пскова отошло далеко в прошлое, и Санкт-Петербургская,
Олонецкая, Псковская и Новгородская губернии получили ту же
административно-территориальную структуру, что и остальная Россия со множеством
малых городов.
Уездные и заштатные города России, много раз
обрисованные в литературе «медвежьи углы», вместе с другими, более крупными
центрами сыграли все же огромную роль в развитии русской народной культуры, в
становлении этнического самосознания народа в целом и классового самосознания
каждой социально-профессиональной группы в частности. Будучи центрами местных
рынков, они активно участвовали в образовании единого всероссийского
внутреннего рынка.
Приступая впервые к обобщающему исследованию русских
городов эпохи феодализма, мы, естественно, стремились выявить прежде всего те
общие черты, которые роднили городские поселения между собой и отличали их от
поселений сельских. Вместе с тем очевидно, что при общем характере городских
поселений и множестве общих этнокультурных черт оставалось также достаточно
особенностей, как местных, так и присущих различным типам городов,
существовавших на определенном отрезке времени. Однако эти особенности яснее
обрисовываются при рассмотрении относительно более коротких периодов и со
значительно большим трудом прослеживаются на протяжении всего тысячелетия. В
большинстве своем они характерны для тех или иных его частей. Выделение типов и
исследование локальных особенностей городов, лишь намеченное в предлагаемой книге,
остается задачей дальнейшей работы.
Русский феодальный город много способствовал
созданию и развитию лучших традиций, формированию народной культуры,
этническому и этнокультурному развитию русской народности и нации.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОПИСАНИЯ ДВОРОВ XVI-XVII вв.
(обзор источников)
Для выяснения состава городского двора XVI –
XVII вв. основные материалы дают письменные источники, в особенности разного
рода акты, которые зачастую содержат довольно подробные перечисления
находящихся на усадьбе построек и, что особенно ценно, сообщают их точное
назначение и наименования. Приводя здесь выдержки из множества актов, мы
предпосылаем им несколько кратких замечаний.
Этот источник обилен, но все же неполон. Прежде
всего приходится отметить некоторую неточность описаний дворов, вернее, их
неполноту. Например, трудно представить себе какую-либо городскую усадьбу без
ворот и забора. Между тем ворота упоминаются в актах сравнительно редко, разного
рода заборы – несколько чаще, и лишь в отдельных случаях мы встречаем подробное
описание ворот (с точеными или резными вереями, одним или двумя полотнищами, с
калиткой или без, покрытых или непокрытых) и заборов (например, сколько прясел
«замета»). Точно так же, встречая в описи имущества какого-либо посадского
человека крупный и мелкий рогатый скот, свиней, кур, мы по большей части тщетно
ищем среди построек хлев, курятник, даже конюшню, хотя в других усадьбах того
же города такие постройки упоминаются. При археологических раскопках в городах
всегда открывается множество заборов.
Словом, более или менее полный перечень
построек, составлявших городской двор, мы можем сделать лишь на основании всей
совокупности письменных источников, дополняя их изобразительными и
археологическими материалами. В письменных источниках мы находим до четырех
десятков названий различных жилых и хозяйственных построек. К жилым относятся
изба, горница, светлица, комната, задец, повалуша, жилой подклет, пристен, а
также сени (мост), чулан, чердак, клеть, крыльцо, поварня, баня (мыльня),
припере-док (предбанье); к хозяйственным – клеть, чулан, амбар, сарай, житница,
конюшня, хлев, лавка, подклет, подызбица, подсенье, сенник, мелник, гумно,
овин.
Разумеется, далеко не все эти постройки можно
было встретить на одном (даже очень богатом) дворе. Вариативность в составе
усадьбы была очень велика у различных социальных слоев населения; рядовые
усадьбы имели существенные областные особенности и, разумеется, различия между
усадьбами горожан и крестьян. Богатая же усадьба была почти одинакова и в
городе, и в деревне, на севере и на юге страны. Например, далеко на
северо-востоке в крепости Орле-городке на р. Каме усадьба Строгановых
представляла настоящую крепость с оборонительными стенами и башнями, церковью,
башенными часами (которые в
Раскопки, произведенные В. А. Обориным в
Орле-городке, вскрыли эту богатую усадьбу с деревянными и каменными строениями,
с печами, облицованными изразцами работы балахнинских мастеров (Оборин). На
полвека раньше, в
На южной оконечности изучаемой нами территории,
в позднейшей Воронежской губ., в с. Грезном был описан в
Мы видим, что усадьба богатого воронежского
кабатчика из дворян мало чем отличалась от усадьбы «именитого человека» или
новгородского дворянина. Во всяком случае, она не уступала им по обилию и
добротности надворных построек.
Перейдем к описанию дворов рядовых горожан и
сравнению их с крестьянскими. Воеводские наказы и в XVII в. продолжают
употреблять для общей характеристики крестьянского и городского посадского
двора привычное выражение «изба да клеть». Так, в
Но и крестьянские усадьбы в этот период имели
большее, чем раньше, количество построек, хотя жилой по-прежнему оставалась
одна изба. Так, в упоминавшемся уже нами поместье воронежского таможенного и
кабацкого головы Аггея Лосева селе Грезном было описано и имущество его
крестьян. Эта заведомо неполная (Рабинович, 1975, с. 187) опись показывает,
во-первых, относительное обилие и разнообразие крестьянских построек,
во-вторых, довольно далеко зашедшее имущественное расслоение крестьян. Если у
крестьянина Саввы Прасолова на дворе стояла одна лишь изба, то у Еремея
Васильева в общей сложности было девять добротных построек (даже клеть на
подклете). Не считая заборов-частоколов и ворот, на 6 крестьянских дворах
имелась 21 постройка (в среднем более 3 построек на двор). Одинокая изба была
только на одной усадьбе, «изба да клеть» – тоже на одной, на трех усадьбах
были, кроме того, конюшни, на двух – омшаники, на одной – овин, на одной (самой
богатой) – хизак ** и погреб. Избы у всех однокамерные, размером 2,5 – 3
саженей (5,4X5,4 – 6,5X6,5 м), т. е. больше, чем в предыдущие периоды. Ни на
одном дворе не было ни сеней, ни бани. А вот клети, очевидно, расширялись (1,5
– 2 сажени, т. е. 3,2X3,2 – 4,3X4,3 м). В двух случаях клеть была «с
приклетом», в одном – на подклете. И именно при такой расширенной клети на двух
дворах было еще по одной «клетке» ***.
Примерно в то же время и, кажется, по тому же делу
было описано имущество еще у тринадцати воронежских кабацких и таможенных
целовальников, принадлежавших к различным социальным группам. Сейчас нас
интере-
__________________
* В Заразске (Зарайске) в
гумна (АМГ, т. I, № 244, с. 263).
** Это слово того же корня, что «хызка», «хыза»,
«хижина» (ср.: Срезневский, т. III, стб. 1426).
*** А. А. Шенников справедливо полагает, что
клетки могли служить жильем для отдельных пар большой семьи (Шенников, с. 72).
__________________
суют лишь находившиеся на усадьбах постройки. У
казака Евсея Полухина на дворе были «изба да клеть»; у стрельца Семена
Бороздина – «изба, да клеть, да сени ветхи, да баня ветха»; у казака Микиты
Позднякова – «изба, клеть, конюшня, овин на гумне»; у посадского Данилы
Самойлова – изба, клеть, баня; у вдовы посадского человека Никона Третьякова
Дарьи- – «изба да клеть на подклете»; у казацкого атамана Ивана Дубровина –
изба, клетьи сени, «онбарец на погребе», баня, повет, конюшня; у стрельца
Терентия Клю-чанского – «изба да клеть»; у казака Якова Дехтерева – «изба, да
клеть... да баня ветха... да конюшня, да хлев»; у посадского Матвея Долгова –
«изба да клеть на подклете, меж ними сени... баня, конюшня, овин»; у посадского
Тимофея Моисеева – изба, клеть, конюшня; у пушкаря Давыда Прибыткова – «изба...
баня с присенцы»; у посадского Трофима Сукочего – изба, клеть, баня; у
посадского Афролея Исаева – «изба, да клеть, да сени ветхи» (ТВорУАК, V, с. 43,
63 – 73, 478 – 481).
Всего на 13 дворах было 45 построек, т. е. в
среднем более 3 на двор^ (точнее – 3,5), как и у крестьян. В числе построек
упомянуты овин, гумно, хлев, говорящие о сельскохозяйственных занятиях этих
горожан. Однако городская усадьба примерно в половине случаев имела баню, в
одной трети – сени, которых, как мы видели, вовсе не было у крестьян того же
уезда. Жилище из одной избы отмечено лишь один раз (и то на усадьбе этого
пушкаря была еще «баня с присеньем»), жилище типа «изба да клеть» встречено 8
раз, трехкамерное жилище типа «изба – сени – клеть» – 4 раза (два – у посадских
людей, один – у стрельца, один – у казацкого атамана).
Мы говорили, что трехкамерное жилище появилось в
городах еще в XII – XIII вв. и распространилось более или менее широко лишь в
XVI – XVII вв. Приведенный пример, по нашему мнению, подтверждает это
положение. При всей отрывочности приведенных описаний 1671 – 1676 гг. видно,
что горожане Воронежа (который в ту пору отнюдь нельзя было причислить к крупнейшим
городам России) переходили к трехкамерному жилищу раньше окрестных крестьян.
Ту же картину, но на более обильном материале
наблюдал Н. Д. Чечулин. Произведя выборку по писцовым книгам XVI в. владений
Симеона Бекбулатовича в Тверской земле, он насчитал 345 крестьянских дворов. На
этих дворах было всего 937 построек (т. е. менее трех на двор – еще меньше, чем
в Воронежской земле). В их числе – 309 изб. На 15 усадьбах изб не оказалось
вовсе, зато на 6 было по две избы, 15 пристенов. Бань было 54 (т. е. одна баня
приходилась почти что на семь дворов), клетей – 215, сенников и сенниц – 153,
напогребиц – 37, овинов – 21, житенок и житниц – 21, поварен и хлебен – 12,
конюшен и хлевов – тоже только 12, 11 мшаников, 9 повалуш и 1 амбар. «Чаще всего,
– писал Н. Д. Чечулин, – встречаем дворы, состоящие из избы и клети или избы и
сенника с какою-нибудь еще одною постройкою» (Чечулин, 1893, с. 56; ПКМГ II, с.
65 – 68). Добавим от себя, что сеней («моста») не оказалось ни на одной из 345
усадеб. Следовательно, крестьянское жилище обширного района к северу от Москвы
в XVI в. еще не знало ни двух- ни тем более трехкамерной связи. То же можно
сказать и о значительном районе на юге Московского государства в Кромском и
Елецком уездах позднейшая Орловская губ.). А. А. Шенников привлек материалы
XVIII в. по 175 крестьянским дворам этих уездов. На них оказалось в общей
сложности 233 постройки (в том числе две избы на дворе – 34 раза, изба да клеть
– 6 раз, изба с сенями – 5 раз, трехкамерная связь «изба – сени – клеть» –
всего два раза, притом на одном и том же дворе). «Образование связей, – пишет
он, – еще только начиналось и господствующий тип связи еще не определился»
(Шенников, с. 65 – 68). Тем с большим основанием это можно сказать о XVI – XVII
вв., когда подавляющее большинство крестьянских жилищ, как мы видели, были
однокамерными.
Рассмотрим еще некоторые данные письменных
источников о составе двора и жилищах горожан в XVI – XVII вв. В том же Воронеже
в
Дважды, в 1674 и 1684 гг., была по разным
поводам описана усадьба упомянутого уже ранее воронежского посадского человека
Логина Осьминина. За эти 10 лет в составе ее не произошло никаких изменений –
огороженный тыном двор, на нем изба, клеть, «тынный» (т. е. столбовой
конструкции) погреб с напогребицей, баня (ТВорУАК, V, № 1810/524, с. 121).
Довольно скромным мог быть даже воеводский двор
в небольшом городе. Так, острогожский воевода в
В г. Орле на усадьбе Алисовых в
В Калуге в
В г. Шуе в
В г. Угличе нам известно описание всего семи
усадеб. Из них три – второй половины XVI в. Посадский человек – колпачник
Савелий Серпов – продал Кирилло-Белозерскому монастырю свой двор в г. Угличе:
«на посаде у торгу... изба плоская (т. е. без подклета. – М. Р.) трех сажен без
лохти, а на мосту чюлан, житница мучная полутретья сажени, амбар в столбах (т.
е. столбовой конструкции, вероятно, «взамет». – М. Р.) двух сажен, горенка меж
углы двух сажен, у тое же горенки сени дубовые круглые полутретьи сажени,
напогребица трех сажен, в погребе струб двух сажен, мылня все бревно дву сажен,
перед мылнею пристен рубленой; а в огороде поварня квасная две стены в столбах
четырех сажен, а две стены трех сажен; ...в огороде колодязь ворота с
притворьем». Весь двор с огородом занимал участок 30x13 сажен (немного более
Другой угличанин – Е. М. Толмачов – был
значительно богаче. Он владел в городе, по крайней мере, двумя усадьбами, одну
из которых в
Четыре описанных угличских усадьбы – XVII в. Две
из их (одна принадлежала посадскому человеку – зеленщику, другая – вдове
посадского человека) имели только избу с пристеном (у зеленщика особо отмечено,
что постройки еловые и есть ворота). На дворе Е. Е. Черногузовой, заложенном ею
в
В Смоленске в
Описание Москвы московским послом в Риме
Дмитрием Герасимовым содержит и общую характеристику московских домов начала
XVI в. Епископ Павел Иовий, записавший рассказ Герасимова в
Иную картину представляла собой с XVI в. усадьба
крупного феодала. Вот как описал свой московский двор князь Юрий Андреевич
Оболенский: «А что на Москве на моем подворье хоромов на заднем дворе горница с
комнатою, перед комнатою сени, перед горницей повалуша да сени же, да на заднем
дворе две избы хлебные, да пивоварня, да поварня, да мыльня, а на переднем
дворе две повалуши да анбар, а по другую сторону ворот два погреба, конюшня,
две сенницы да житница. А столовую горницу с комнатою и с нодклеты, да повалушу
комнат... да сени с задним крыльцом и с переходы, да горница одинака на
конюшенном дворе» (АФЗиХ, II, № 207, с. 212). Из этого завещания можно понять,
что на улицу выходил крепкий частокол с воротами, по сторонам которых стояли
амбар, погреба, конюшня, две сенницы. На переднем дворе высились два
башнеобразных здания – повалуши; господский дом с его горницами, комнатами,
сенями, повалушами и переходами стоял в глубине усадьбы, за ним, на заднем
дворе были обслуживавшие господский стол хлебные избы, пивоварня, поварня, а
также баня. Видимо, отдельно стояла столовая изба с повалушей, сенями и
переходами. Был еще и конюшенный двор с особой горницей. Возможно, и это
описание не совсем полное, так как в таком дворе должны были быть еще «людские»
избы для княжеской челяди.
Для характеристики московского жилища XVII в.
имеется обильный материал. Не приводя здесь полностью описаний усадеб, в
значительной части уже опубликованных нами (Рабинович, 1964, с. 228 – 232),
попытаемся дать суммарную характеристику известных нам дворов. В нашем
распоряжении имеются характеристики 16 усадеб, из которых 8 принадлежали
служилым людям (переводчику Посольского приказа, трем подьячим, двум
стольникам, стряпчему и вотчиннику – князю Гагарину), а 8 – посадским тяглецам
(одному – Кожевенной слободы, двум – Кадашевской, трем – Бронной слободы, одному
купцу Новгородской сотни, одному колокольнику) (См. АШ № 34, с. 58 – 59; АМГ
II, № 147, с. 96; АМГ III, № 11, с. 18; АЮБ I, № 95, стб. 603 – 605; АЮБ II, №
126 – XIX, стб. 18 – 19; 126 – XVI, стб. 20 – 21; 148 – XIX, стб. 402 – 403;
148 – XX, стб. 404 – 405; 148 – XXIII, стб. 409 – 412; 244 – II, стб. 743; 258
– VIII, стб. 803 – 804; АЮБ III, № 304 – II, стб. 112 и др.). На восьми дворах
посадских людей было 49 построек, т. е. в среднем на двор приходилось более 6
построек (вспомним, что в Воронеже было примерно 3,5). Но от этой средней цифры
были значительные отклонения – у зажиточных колокольника и одного из кадашевцев
было по 9 построек, у тяглеца Новгородской сотни и другого кадашевца – только
по 3, тяглецы Бронной слободы (хлебник, ствольник и кузнец) имели по 6
построек, тяглец Кожевенной слободы, – 7. Но именно у него и у тяглеца
Новгородской сотни не было сеней. На всех остальных известных нам московских
усадьбах жилище было по меньшей мере трехкамерным. Всего на 16 усадьбах
насчитывалось 19 сеней, т. е. у некоторых, особенно у феодалов, были не одни
сени. Тяглецы имели, как правило, поземные избы (кроме богатого колокольника),
служилые феодалы – горницы на жилых подклетах, повалуши о двух-трех жильях.
Вообще, на этих богатых усадьбах было гораздо больше построек: на 8 дворов –
97, т. е. в среднем более 12 построек на двор (от 8 до 19). Характерно, что
бани на дворах были менее чем у половины владельцев: на 16 дворов всего 7 бань.
Остальные постройки распределялись примерно так: горниц на жилых подклетах –
12, повалуш – 3, поземных изб белых – 8, черных – 5, клетей – 4, чердаков – 4,
чуланов – 6 (в том числе 2 отхожих), людских чуланов (для дворни) – 4, конюшен
– 7, навесов – 2, погребов – 11, ледников – 2, сушил – 5, поварен – 2, кузниц –
2 (у ствольника и у кузнеца в Бронной слободе), крылец – 5, колодцев, амбаров и
сенников по 2. Гумно и овин не отмечены ни разу. Обилие жилых и хозяйственных
построек на подклетах, характерное для богатой московской усадьбы, можно
проследить и по дошедшим до нас изображениям московских улиц XVII в. *
Наиболее распространенным типом жилища в Москве
в XVII в. был трех-камерный. У посадских людей – преимущественно в варианте
«изба – сени – клеть» или «изба – сени – чулан»; изба с навесом встречена всего
один раз, изба с сенями – тоже один. У зажиточных людей преобладал вариант
трех-камерного жилища - – «две горницы через сени» (сюда мы включаем вариант
«горница – сени – повалуша»), хотя были и многокамерные дома с множеством
горниц и комнат, сообщавшихся разнообразными переходами.
Характерно, что каменные жилые дома строили тоже
трехкамерными в плане. Так, в
Ценные сведения о постройках дают псковские
акты. В
__________________
* Например, на чертежах Приказа тайных дел.
__________________
пальни. Жилой дом, как видим, представлял собой
трехкамерную связь типа «горница – сени – повалуша», все на подклетах. В
В конце XVI в. сам псковский «владыка»
(архиепископ) жил в обычном срубном доме. В
В Новгороде Великом на Кузмодемьяне улице в
К началу XVII в. (1612 – 1613 гг.) относятся описания (в связи
с продажей) 11 усадеб, из которых 8 принадлежали ремесленникам, 1 – дьячку, 1 –
монастырю и 1 – князю Федору Кропоткину. Еще одна купчая на двор певчего дьяка
и одна на двор двух зажиточных посадских людей относятся к 1631 и 1669 гг.
Всего, таким образом, в Новгороде описано 14 дворов (АЮБ II, № 148 – II, стб.
386; 148 – III, стб. 386 – 7; 148 – V, стб. 388; 148 – VI, стб. 389; 148 – XII,
стб. 394 – 5; 148 – XIII, стб. 396; 148 – IX, стб. 391 – 2; 148 – X, стб. 392 –
3; 148 – XI, стб. 394; 148 – VIII, стб. 390 – 91; 148 – VII, стб. 289 – 90; 126
– X, стб. 13 – 14; АЮ № 99, с. 134). Единственная княжеская усадьба была
недостроена, построек на ней мало – всего 4. Дворы же дьячка и певчего дьяка, а
также монастырский двор по числу построек не превосходили дворов ремесленников
– на них по 8 – 9 построек (в среднем даже больше, чем в Москве). Больше всего
построек – 12 – на дворе зажиточного посадского человека – шелковника,
продавшего свой двор другому посадскому человеку – «свежему рыбнику»
(«вероятно, торговцу, а не рыбаку). Вообще социальный характер усадеб при
продаже большинства их сохранился: покупал двор тоже посадский человек.
Масленик продал двор мельничному засыпщику, портной – щёпетнику, шапочник –
ржанику, хлебник – шапочнику. Вдова станичника продала двор кузнецу (и на дворе
еще нет кузницы).
Характерной чертой новгородских построек
является их двухъярусность. Только у одного масленика были поземные постройки,
все остальные – на подклетах. Всего на 13 усадьбах XVII в. было 13 горниц на
подызбице (причем, судя по тому, что в одном случае продавец оговорил себе
право остаться жить в подызбице, эти подклеты могли быть и жилыми), 2 поземные
(или «плоские») избы и какая-то «избушечка», 11 сеней *, 9 клетей, 4 повалуши,
8 сенников, 9 бань, 2 конюшни, 4 житницы (на монастырском, княжеском и певчего
дьяка дворах), 2 амбара, 2 погреба, 3 мшаника, 4 мелника, 1 чулан, 1 крыльцо и
1 каменная палатка с погребом (у богатого шелковинка). Обращает на себя
внимание малое количество погребов и полное отсутствие ледников. Видимо, их
заменяли разнообразные подклеты и мшаники. Характерно, что усадьбу, где была
каменная палатка с погребом, купил именно «свежий рыбник». В 6 случаях указаны
печи во дворе или в огороде. Наиболее типичной жилой связью была «горница (изба)
– сени – клеть или «горница – сени – повалуша». Повалуши были на монастырском
подворье, у дьячка, у певчего дьяка и у станичника, усадьбу которого на
Холопьей улице купил кузнец. Неоднократно подчеркнута «связь» строений. Так,
шапочник, продавая свой двор на Никитине улице ржанику Поспелу Семенову, особо
отметил, что его «горница на подызбице, да сени на подсенье, да клеть на
подклете, да вверху сенница, да в подсенье чуланец, да байна, да мшаник – в
одной связи под одной кровлей» (АЮБ II, № 148 – II, стб. 389). Шелковник продал
свежему рыбнику не весь двор, а половину – «верхнюю связь», видимо, оставив
большинство нижних помещений себе. Наверное, в этом же смысле следует понимать
и другие случаи, когда в купчей оговаривается, что продается «во всем половина».
Баня была не на каждой усадьбе, но только один посадский человек – портной – не
имел бани. Без бани обходились как раз дьячок и певчий дьяк, не было ее и на
монастырском подворье. Огород и сад имели почти все, у многих была печь «с
припередком» во дворе или в огороде. Видимо, в Новгороде довольно строго
придерживались указов правительства летом не топить изб, а готовить во дворе
или на огороде. Хочется отметить и интересное западное новшество – в доме
хлебника на Коржеве улице было пять «стекольчатых окончин» (АЮБ II, № 148 –
XIII, стб. 395; № 148 – IX, стб. 392). Интересно, что именно в Новгороде ворота
и ограда двора описаны более подробно, чем в других городах. Упоминаются
точеные столбы, кровли, запасные вереи ворот.
В конце XVII в. в связи с тяжбой из-за земельных
участков, которыми хотел завладеть Розважский монастырь, были «явлены»
владельцами купчие грамоты на эти дворы. В
Другой двор на Розваже улице принадлежал
стрелецкому сотнику Я. Т. Дедевкину, который продал его за 63 р. подьячему
Савве Михайлову. На дворе был двухэтажный трехкамерный дом с вышкой («две
горницы: передняя на жилом подклете, а задняя – на подзавалье, завалинке, а
против горниц сени с перерубом, а в задних сенях чулан, а над сенями вышка»),
погреб с сушилом наверху. Усадьба имела огород и сад, в котором стояла баня.
Ограда была смешанной конструкции: с улицы («по лицу»)- – «заметом» (в купчей
сказано «тын лежачий»), а вокруг сада и огорода – «частокол стоячий». Ворота
одностворчатые («щитом»), с калиткой (Греков, 1926, с. 8, 10).
Описание этих усадеб представляет тем больший
интерес, что они изобра-
__________________
*Их не было лишь на монастырском и недостроенном
княжеском дворах, да на дворе хлебника, и в последнем случае писец, кажется,
допустил ошибку, написал вместо «сени» «сеньница».
__________________
жены на прилагаемом чертеже. Однако нам не
удалось найти на нем характерных признаков описанных усадеб – вышки и стоячего
тына на дворе Саввы Михайлова, двух домов на дворе Карпа Иванова. Вообще
соответствия между описью и рисунком не прослеживается. Это может быть вызвано
как перестройками дворов после их продажи и составления купчих, так и
условностью манеры изображения. Разработка методики исследования древних
чертежей еще продолжается. Всего в Новгороде с конца XVI до конца XV11 в.
описано по имеющимся документам 16 дворов.
В Устюжне в
В Вятке расходная книга земского старосты 1678 –
1680 гг. упоминает на воеводском дворе не только хоромы вообще, но и горницы с
кирпичными печами и косящатыми окнами, сени большие (были, вероятно, и малые),
повалушу, чулан, баню с предбаньем и печью, каменный погреб летний (со льдом)
теплый, поваренную избу, сарай, сушило, конюшню, заплот (забор) вокруг двора
(ТВятУАК, V – VI, с. 1 – 105). Видимо, здесь была связь «горница – сени –
повалуша», а может быть, и более сложная («горница – большие сени – повалуша –
малые сени – горница»).
В Олонце в
В Вологде в 1619 – 1620 гг. крестьянин Богдан
Яковлев сын Федоров купил двор: «изба да клеть, да промеж избою и клетью сенцы,
да передние ворота; около огорожен забором 12 прясел» (АЮБ II, № 148 – XV, стб.
398). В этой скромной усадьбе дом был трехкамерный, но, кажется, поземный,
какие и в других севернорусских городах нередко встречались.
В
В Чарондском посаде в
Стрелецкий двор в Архангельске в
В Холмогорах на посаде в
В заключение нужно отметить, что во многих из
указанных городов имелись общественные здания (гостиные дворы, кружечные дворы,
тюрьмы и т. п.), постройки которых возводились в той же технике и из того же
материала, что жилища, иногда даже сходной планировки. Так, в Чаронде был
гостиный двор с двумя избами, сенями, чуланами и множеством амбаров. На
кабацком (кружечном) дворе были «горница с комнатою на подклете, сени с
подсеньем, повалуша, погреб, поварня» (АЮБ II, № 128 – II, стб. 50 – 52). В
Великих Луках было «на кабаке хором: горница, да клеть стары, меж ними сени с
чуланом, под ними – подвал, на дворе ледник, над ним сушило, стоечная изба •с
комнатою, поварня, старое погребище с навесом» (ДАИ III, № 22, с. 96 – 98). Не
исключена возможность, что под кабак была приспособлена какая-то старая
усадьба.
В Шуе тюремная изба была на подклете, с
пристеном и сенями (названы «мост»); губная изба имела «предызбье» (сени? – М.
Р.) и чулан (АШ, № 123, с. 218 – 222). В Туле казенная изба также имела пристен
(АЮБ III, № 347; I, III, стб. 376 – 378). В Курске на кружечном дворе были
«горница дубовая на жилом подклете, сени дощатые с крыльцом, в подклете чулан»,
на дворе – два ледника, несколько амбаров. Все крыто лубьем. Казенная мельница
в этом городе была дубовая, кузница – липовая (АМГ, III, № 15, с. 23). В Короче
построили в
Можно легко заметить, что по мере продвижения с
севера на юг и казенные постройки становятся менее высокими, рубятся из худшего
леса, иногда имеют каркасную, столбовую, даже плетневую конструкцию.
Трехкамерная связь прослеживается часто, но не во всех случаях.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
УПОМИНАНИЯ ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В АКТАХ XVII
в.
Приведем некоторые упоминания в источниках
женских головных уборов и их частей. Чаще всего они перечислены в составе
приданого. В
ПРИЛОЖЕНИЕ III
КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ ГОРОЖАН (обзор источников XVI –
XVII вв.)
Источники XVI – XVII в. содержат перечни
предметов, дающие представление о комплекте городской одежды. Так, в кабальной
записи нижегородского посадского человека, данной в
В середине XVI в. один новгородец заложил за 6
р. «однорядку багрову аспидну пояс на ней золот, пуговицы тафтяны, телогрею
кунью под камкою, камка на червчатой земле узорчата шелк рудожелт, торлоп белей
череви а на нем камка куфтерь голуба, вошвы оксамитны золоты, ожерелье женское
на черной тясме делано серебром волочоным, запястья серебром шиты да золоты,
птур (каптур? – М. Р.) – все новое» (ДАИ, т. I, № 51 – VIII, с. 76). Если не считать
однорядки, которая могла быть и женской и мужской, перед нами комплект верхней
женской одежды. В
Н. И. Костомаров приводит гардероб подьячего
Красулина, сосланного в XVII в. в г. Колу: 2 пары штанов, 3 кафтана, 3
однорядки, 1 ферязь, 2 стоячих ожерелья и 4 шубы, из них одна особенно нарядная
– крыта камкой с серебряным кружевом и пуговицами (Костомаров, с. 811). В
данном случае это, по-видимому, была своеобразная служебная одежда приказного.
В описи очень богатого приданого дочери В. И.
Бастанова, которую выдавали в
В богатом приданом зачастую не значатся сарафаны
(АЮБ, т. III, № 328 – IV, V, стб. 266 – 314; 334 – VI, VII; 336 – V). Но обычай
перечислять телогреи и шубы через одну (например, в Волхове в
В конце XVI в. Д. Флетчер описал довольно
подробно мужской и женский костюм. Мужскую рубаху, «изукрашенную шитьем потому,
что летом они дома носят ее одну», распашной шелковый зипун длиной до колен,
узкий длиной до лодыжек кафтан «с персидским кушаком, на котором вешают ножи и
ложку», подбитую мехом ферязь или охабень, очень длинный, с рукавами и
воротником, украшенным каменьями (вероятно, речь идет об «ожерелье»). Поверх
всего, как пишет Флетчер, надевалась однорядка из тонкого сукна без воротника.
На ногах – сафьяновые сапоги с онучами. Иностранец заметил также манеру носить
на голове богато вышитую тафью, которую он называет «ночной шапочкой». «На шею,
всегда голую, – пишет он также, – надевается ожерелье из драгоценных камней
шириною в три и четыре пальца» (Флетчер, с. 125). От англичанина не ускользнули
и социальные различия: «У бояр платье все золотое, у дворян иногда только
кафтан парчовый, а все остальное суконное». «Мужики» (вероятно, все же
горожане, а не крестьяне, как следует из дальнейшего описания) одеты очень
бедно; под однорядкой у них кожух «из грубого белого или синего сукна», на
голове – меховая шапка, на ногах – сапоги (Флетчер, с. 126 – 127). «Женщина,
когда она хочет принарядиться, надевает красное или синее платье и под ним
теплую меховую шубу зимою, а летом только по две рубахи, одна на другую, и дома
и выходя со двора. На голове носят шапки из какой-нибудь цветной материи,
многие также из бархата или золотой парчи, но большею частью повязки. Без серег
серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите женщины, ни
замужней, ни девицы». К женскому наряду Флетчер возвращается несколько раз.
Особенно много внимания он уделил головному убору. На голове женщин, пишет он,
повязка из тафты, чаще – красной, поверх нее – белый убрус, затем – шапка «в
виде головного убора из золотой парчи» с меховой опушкой, жемчугом и каменьями.
«С недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом (речь идет, вероятно, о
женщинах высшего круга. – М. Р.), так как жены дьяков и купцов им подражают». В
ушах женщин серьги «в два дюйма и более». Летом носят «полотняное белое
покрывало, завязываемое у подбородка, с двумя висящими кистями», унизанное
жемчугом. В дождь женщины носят шляпы с цветными завязками. На шее – ожерелье,
на руках – запястья «шириной пальца в два». Из верхней женской одежды Флетчер
описывает ферязь, поверх которой надевают летник с широкими рукавами и
парчовыми вошвами, на него – еще опашень с рукавами «до земли». Золотые и
серебряные пуговицы были, по словам Флетчера, «с грецкий орех». Наряд дополняли
сапожки из белой, желтой, голубой или иной цветной кожи, вышитые жемчугом
(Флетчер, с. 125 – 127). Мы видим, что иностранец не всегда мог разобраться в
названиях, покрое и порядке разнообразных верхних мужских и женских одежд
(например, поверх шубы надевали, видимо, не платье), в сложном устройстве
женского головного убора, но в целом наблюдательность позволила ему составить
верное представление о городском костюме.
Домострой перечисляет предметы одежды, которые шьются
в домашних условиях. Кроме упомянутых уже нижних и верхних («красных») рубах,
портов, сарафанов, кафтанов и летников, названы шуба, терлик, однорядка,
кор-тель, каптур, шапка, ноговицы. Не упущено указание, когда лучше стирать:
«Коли хлеба пекут, тогда и платье моют». «Красные» рубашки и лучшее платье моют
мылом и золой, полощут, сушат, катают (утюги тогда не были известны). Выгода
двойная: экономия дров и зола под рукой. Есть, конечно, и рекомендация, как
хранить одежду и украшения: «А постеля и платья по гряткам (полкам. – М. Р.) и
в сундуках и в коробьях и оубраны, и рубашки, и ширинки все было бы хорошенько
и чистенько и беленько оуверчено и оукла-дено и не перемято... а саженье, и
мониста, и лутшее платья всегда бы было в сундуках и в коробьях за замком, а
ключи бы (хозяйка. – М. Р.) держала в малом ларце». А платье похуже –
«ветчаное, и дорожни, и служни» (упомянуты епанчи, шляпы, рукавицы) –
полагалось держать в клети (Д., ст. 31, с. 29; ст. 29, с. 28; ст. 33, с. 31;
ст. 55, с. 53).
В г. Воронеже в конце XVII в. в домах посадских
людей описаны короба, в которых среди прочего имущества оказались рубахи
мужские и женские, кодман, тулуп бараний, шапка мужская с соболем, сарафаны (у
одной женщины – шесть штук), золотые сороки, серьги, мониста, перстни, цепи,
головные платки, заготовки сапог и пр. (ТВорУАК V, № 2750/1524, с. 331 – 333).
По этому подробному перечню можно судить отчасти о женском костюме (рубашка,
кодман; сорока, платок, сапоги), а главное – о том, что в хозяйстве горожанина
было все для тканья, шитья и вышивания одежды и даже заготовки сапог. Дорогие
привозные материи и меха Домострой рекомендует покупать сразу в больших
количествах (разумеется, учтя рыночную ситуацию) (Д., ст. 16, с. 14; ст. 41, с.
39 – 40).
Иногда и в крестьянской клети могло по
каким-либо причинам храниться имущество феодала. В
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ ГОРОЖАН СЕРЕДИНЫ XIX в.
(обзор ответов на Программу Географического
общества
В г. Мезени в праздник надевали тафтяные
сарафаны, но носили уже и ситцевые юбки с кофтами, на голове – повойник, обвязанный
узко сложенным шелковым платком, на ногах – нитяные чулки с башмаками. В
холодную погоду носили полушубки, обшитые позументами (Быстрое, с. 304). В г.
Пинеге традиционный «бабий» головной убор уже заменил – по крайней мере в
свадебом обряде – платок (гумулька), которым жених покрывал голову невесты
после благословения ее родителями перед венчанием, но сохранилась, например,
старинная накладная «кабатуха», «кабатейка», надеваемая поверх теплой одежды
(АГО I, №
В г. Пудоже «с недавнего времени начали носить
платья и капоты, но очень мало. Головной убор в этом случае (т. е. при платье.
– М. Р.) – косынка» (АГО 25, №
В Белозерске (
В Подмосковье также наблюдалось вытеснение
древнего костюма. «Старинное платье, – писал корреспондент из Дмитрова, – как
то: сарафаны... юбки с золотыми цветами, телогрейки парчовые, кокошники, фаты –
совершенно оставлено... носят обыкновенные платья из ситца, вместо капотов и
шуб – нынешние салопы» (АГО 22, № 19).
Подобная же картина наблюдалась и к югу от Москвы.
В Калужской губ., в городах Мещовске, Медыни, Лихвине, Перемышле молодые
женщины и девушки носили длинные платья с рукавами, головные платки, чепцы и
шляпки (но дома – повойник, кисейные сорочки, китайчатые сарафаны, телогреи);
кокошники, холодники, безрукавные епанчи встречались либо у старух, либо (реже)
у молодых мещанок. Девушки ходили с открытыми волосами, но после замужества
носили повязку. Верхнюю одежду составляли салопы – холодные или на меху (АГО
15, № 55, с. 5 – 6; №
В Воронежской губ. в г. Валуйки и в конце 1840-х
годов можно было увидеть такую комбинацию: платье или парочку женщины носили с
кокошником, поверх которого повязывали платок. Девушки носили платок без других
элементов головного убора; на ногах – кожаные туфли; поверх платья – шубы,
крытые материей, с лисьими воротниками. В г. Бирюче женщины носили в будни
ситцевую парочку – юбку и кофту, на голове – ситцевый платок, на босу ногу –
башмаки. По праздникам надевали парчовый кокошник, обвязывая его сверху
шелковым платком, иногда – ситцевое платье, «сшитое наподобие пудроманта».
Украшения бисерные. Зимой – черные длинные овчинные шубы с отложными
воротниками, крытые китайкой или плисом (АГО 9, №
В Новгороде-Северском Черниговской губ. женский
простонародный костюм состоял из рубахи, поверх которой по праздникам надевали
нарядную спидницу и юбку с рукавами (юбка без рукавов называлась «корсет»).
Юбка зимой была на меху, но все же короткая – до колен. Поверх юбки повязывали
передник из холста или белого коленкора. На голове носили колпак, поверх
которого повязывали платок, или же один платок (у девушек, как сказано выше,
из-под платка виднелась коса); на ногах – башмаки или сапоги. Купчихи носили
платья, салопы, головные платки, по праздникам – чепчики (АГО 46, Л»
В г. Краснокутске Харьковской губ. в костюме
горожанок видно сильное украинское влияние (плахта, красные сапоги, парчовый
очипок, полушубок с «усами» сзади – нагольный или крытый китайкой) (АГО 44, №
ПРИЛОЖЕНИЕ V
ПИТАНИЕ ГОРОЖАН В СЕРЕДИНЕ XIX в.
(обзор ответов на Программу Географического
общества в
Корреспондент из г. Вытегры отмечает большое
сходство пищи «многих в городе» с той, что известна у окрестных крестьян. Здесь
мясные щи варили с ячневой крупой, в конце обеда давали молоко со стряпней –
сладким пирожным, или калитку – тонкий круглый пирог из пресного теста,
начиненный ячневой крупой (приводится рецепт изготовления) или просом, «которое
здесь называют пшеном». Распространен и колоб – круглый, из кислого теста,
начиненный толокном, замешанным на сметане с яйцами, или очень мелкой ячневой
крупой (АГО 25, №
В Пудоже в
Венцом местной кулинарии были «житные пироги»,
начиненные блинами с крошенными яйцами и сыром. В праздники вместо молока
давали мед, осенью – ягоды с толокном, кисель из высевок овсяной и ржаной муки
(у богатых – картофельный кисель с медом). Этот довольно скудный в общем стол
горожан, если не считать отдельных праздничных блюд вроде пирогов, мало чем отличался
от крестьянского той же местности. Существенным отличием было распространение
чая и кофе (в особенности среди женщин) (АГО 25, №
В г. Вышний Волочек Тверской губ. местной
особенностью были сладкие похлебки из ягод и рыбники – пироги с рыбой,
отличавшиеся чем-то от широко распространенных на Русском Севере рыбных пирогов
(АГО 41, №
В Вологодской губ. жители г. Кадникова готовили
в
В г. Ирбите Пермской губ. хлеб ели пшеничный, а
щи из ячменной крупы (
В Ростове Ярославском, этом городе огородников,
естественно, более широко, чем в других городах, употреблялся картофель,
который ели холодным, вареным, печеным и жареным, а также огородные овощи. В
остальном постная и скоромная пища ничем особенным не отличались (АГО 47, №
В описании Вознесенского Посада Владимирской
губ. (нынешний г. Иваново), сделанном в
Особенностью питания жителей г. Галича
Костромскй губ. (
Из Костромской губ. имеются подробные сведения о
пище жителей г. Галича. Основу питания, как и везде, составляли щи (в пост –
без мяса) и каша. Любопытно употребление молока, которое давалось в летний
мясоед всегда кислым, разбавленным свежим, что было в обычае у финноязычных
народов.
В других русских городах о такой смеси не
упоминается. Более разнообразен ассортимент употребляемых в постные дни грибов
– названы волнушки, грузди, рыжики, брюковники. Корреспондент отмечает особо,
что репы и свеклы в деревнях не употребляют. В городе в мясоед праздничный обед
включает 12 блюд, которые все перечислены: «1. Пирог круглый на сковороде с
грудинкой бараньей; 2. Голова баранья или телячья; 3. Студень из ног разных
животных; 4. Крошеные губы говяжьи; 5. Языки с хреном; 6. Щи с мясом; 7. Кашица
или похлебка; 8. Лапша; 9. Жареная середка баранья; 10. Поросенок жареный и
курица; 11. Короваец с маслом; 12. Пирог с ягодами с медом. В пост: капуста,
грибы с хреном, судак с квасом, щи, похлебка из картофеля, лапша с грибами,
колобья из рубленой мелкой рыбы (тельное? – М. Р.), горох. Жаренья: рыба,
картофель, грибы; пирог с ягодами. Всякое кушанье сопровождается рюмкою вина и
стаканом пива» (АГО 18, №
В г. Ядрине Казанской губ. стол отличался
разнообразием.. Здесь в постные дни готовили, кроме обычных серых щей и
различных каш, нечто вроде винегрета – кислую белую капусту с вареным
картофелем и свеклой, перме-ни – вареники с белой капустой, печеную тыкву. Если
на пост приходился праздник, то ели уху, похлебку с картофелем и морковью,
пироги («из черной пшеничной муки») с картофелем, морковью, капустой, кашей,
рыбой и луком, жареный картофель, грибы или рыбу. Из скоромных блюд стоит
отметить молочную лапшу, пельмени со свининой. Вообще свинина в Ядрине
преобладала, хотя употреблялись также говядина, баранина. Была даже поговорка:
«Ета свинья скотина скверна, но на стол-то она перва». Картофельником
называлось кушанье вроде запеканки с яйцами, маслом, молоком; битым – тоже
запеканка, как пишет корреспондент, но в нашем понимании скорее что-то в роде
омлета из сбитых с водой и запеченных в форме яиц и масла; нежин-кой – бисквит;
каравайцем – круглый пирог с курицей и яйцами (АГО 14, №
В Среднем Поволжье вообще свинина была дешевле
других видов мяса. В
Ничем не выделялась и пища жителей г. Лихвина
Калужской губ. «Соусы, бульоны, салаты, – писал корреспондент Географического
общества в
Из Тульской губ. сведения о пище поступили из
городов Одоева, Черни и Епифани. Особенностями, характерными для юга России,
являются здесь упот-
__________________
* По сообщению М. Н. Шмелевой, в XX в. это было,
например в Муроме, простонародное кушанье: в купеческих семьях его тоже с
удовольствием ели, но скрывали это от посторонних.
__________________
ребление в пищу свиного сала (Епифань) и состав
традиционной «тройки», которой угощали гостей в Одоеве: на поднос ставили не
водку, вино и пиво, а виноградное вино, мед и брагу (АГО 42, №
Предпочтение свинины другому мясу и употребление
свиного сала характерно также для городов Воронежской губ. (Валуйки, Бирюч,
1849 – 1859 гг., Павловск,
В Черниговской губ. в г. Погаре (древний
Радогост) отмечены значительные социальные различия в питании («богатые держат
поваров»). Рядовые горожане ели борщ, а не щи, любили картофель в разных видах.
Больше сведений о питании жителей г. Новозыбкова, которое корреспондент
сопоставляет с питанием окрестных крестьян. В городе «любимый завтрак – блины»;
на обед – холодное: кислая капуста, окрошка, соленая говядина или рыба с квасом
и огурцами, приправленная хреном, луком и перцем, красная икра. В праздники –
щи или борщ с жирной говядиной (в пост – с белугой, осетриной или севрюгой).
Эту пищу автор называет «самой простой и суровой». В деревне говядину,
баранину, свинину, рыбу видели только по праздникам; обычная пища – борщ или щи
из бураков, капусты, огурцов со свиным салом, картофель, гречневая каша. В г.
Городне праздничный скоромный стол отличал пшеничный пирог, будничную постную
пищу – свекла с огурцами и квасом или кочанная капуста, праздничную постную –
винегрет, соленые грибы, сладкая похлебка и сладкий пирог. При обильном
употреблении свеклы борщ не назван; упомянуты щи. Особо отмечается, что в
городе нет трактиров и существует поговорка: «В Городне своим хлебом
пообедаешь» (АГО 46, №
Совсем иным предстает перед читателем питание
мещан белорусского города Суража Витебской губ. Вот что писал корреспондент
Географического общества суражский священник П. Пороменский: «Пища мещан и
крестьян весьма скудна и бедна, так что, бывая на их обедах по должности
священства, приходишь в дом полуголодный. В скоромные будние дни бывает варена
сеченая полубелая капуста и четверть фунта свиного сала или фунт говядины на 5
человек и крупёня (крупеник. – М. Р.) из ячных круп с такою же приправою, а в
праздник прибавляют или кашу с салом, по неимению масла коровьего, или фунта
два жаркого мяса, или картофель жаренный на сковороде. В постные дни – та же
пища или с грибами, или с рыбою, или с олеем (растительном маслом? – М. Р.). У
крестьян почасту наскоро для пригона готовят так называемый кулеш. В горячую
воду сыпят муку ржаную или ячную, или овсяную, или гороховую, или грешневую, а
богатейшие все эти муки мешают в одну... а бедные... пресную варят и едят,
полагая ложку масла, а нет, то часто без всего, только посоля солью. По большей
части употребляют кисель и толокно из одной овсяной муки... хлеб вообще у
крестьян весьма пушной». Описывается и приготовление киселя, толокна, хлеба из
муки с примесями травы («костра») и т. п. Только у богатых мещан к свадьбе пекут
каравай из «пшенной» (АГО 5, №
ЛИТЕРАТУРА
[Авдеева К. А] 1842. Записки о старом и новом
русском быте К. А. Авдеевой, СПб.
Авдеева К. А. 1851. Полная хозяйственная книга.
СПб. Ч. I – IV.
Авдусин Д. А., Тихомиров М. Н. 1950. Древняя
русская надпись//ВАН СССР. № 4.
Аделунг Ф. А. 1827. Собрание рисунков
путешествия Мейерберга. СПб.
Айналов Д. В. 1914. Очерки и заметки по истории
древнерусского искусства. СПб. Вып. V. Коломенский дворец.
Александров В. А. 1964. Русское население Сибири
XVII – начала XVIII В.//ТИЭ. Т. 87.
Александров В. А. 1971. Памфлет на род
С\'хотиных//История СССР. № 5. '
Альбом Мейерберга: Виды и бытовые картины России
XVII в.: Рисунки Дрезденского альбома, воспроизведенные в натуральную величину.
1903. СПб.
Андреев Н. П. 1929. Указатель сказочных сюжетов
по системе Аар-не. Л.
Анохина Л. А., Шмелева М. Н. 1977. Быт
городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем на примере городов
Калуга, Елец, Ефремов. М.
Артюх Л. Ф. 1977. Украшська народна кулинар1я,
Ки1в.
Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок,
село.
Арциховский А. В. 1930. Курганы вятичей.
Арциховский А. В. 1944. Древнерусские миниатюры
как исторический источник. М.
Арциховский А. В. 1948. Одежда//
ИКДР. Т. 1. Арциховский А. В. 1949. Раскопки на
Ярославове дворище в Новгороде//
МИА. № 11.
Арциховский А. В. 1954. Новгородские грамоты на
бересте: (Из раскопок
Арциховский А. В. [1970] Одежда//
ОРК.
Базилевич К- В. 1926. Имущество московских
князей в XIV – XVI вв //Тр ГИМ. Вып. 3.
Бакланова Н. А. 1928. Привозные товары в
Московском государстве во второй половине XVII в.//Там же. Вып. 4.
[Бакмейстер Л.] 1777. Топографические известия,
служившие для полного географического описания Российской империи. СПб. Т. I.
Баранов А. В. 1981. Социально-демографическое развитие крупного города. М.
[Бартенев С. П.] 1912 – 1916. Московский Кремль
в старину и теперь. Кн. I: Стены и башни Московского Кремля; Кн. II: Государев
Двор. Дом Рюриковичей. [М.]. Бахрушин С. В. 1954. Ремесленные ученики XVII
в.//Науч. тр. М. Т. 2. Белецкая Е., Крашенинникова И., Чер-нозубова Л., Эрн И.
1961. «Образцовые» проекты в жилой застройке русских городов XVIII – XIX вв. М.
Белинский В. Г. 1845. Петербург и
Москва//ФП. СПб. Т. I. Белов В. И. 1982. Лад. М.
Берман Е., Курбатова Е. Д. 1960 – 1961. Русский костюм. М. Вып. 1 – 2.
Бломквист Е. Э. 1956. Крестьянские постройки
русских, украинцев и бе-лорусов//Восточнославянский этнографический сборник. М.
Борисевич Г. В. 1982. Хоромное зодчество Новгорода//Новгородский сборник: 50
лет раскопок Новгорода. М. Бромлей Ю. В., 1983. Очерки теории этноса. М.
Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю.
А. 1980. Эволюция феодализма в России: Соц.-экон. проблемы. М.
Быстрое А. 1844. Город Мезень (1839)//ЖМВД. Ч.
5, отд. 4. Вахрос И. С. 1959. Наименования обуви в русском языке. Хельсинки.
Введенский А. А. 1962. Дом Строгановых XVI –
XVII вв. М.
Векслер А. Г. 1971. Палаты Наталии Кирилловны в
Московском Кремле: (Опыт реконструкции по документам и археол.
данным)//Древности Московского Кремля. М.
Висковатов А. В. 1899 – 1948. Историческое
описание одежды и вооружения российских войск. СПб.; Л. Т. 1 – 34.
Воронин Н. Н. 1934. Очерки по истории русского
зодчества XVI – XVII вв. М.; Л.
Воронин Н. Н. 1948. Пища и утварь// ИКДР. Т. 1.
Воронин Н. Н. 1960. Медвежий культ в Верхнем
Поволжье в XI в.// Краевед, зап. Ярославль. Вып. 4.
Воронин Н. И. 1961. Зодчество Северо-Восточной
Руси XII – XV вв. М. Т. 1. XII столетие.
Воронин Н. Н. 1977. Смоленская живопись XII –
XIII вв. М.
Георги И. Г. 1794. Описание российского
императорского столичного города С.-Петербурга и достопамятностей в
окрестностях оного: В 15 отд-ниях, в 3 ч. СПб.
Георгиев Г. 1983. София и софиянци, 1878 – 1944.
С.
Герберштейн С. 1906. Записки о мос-ковитских
делах. СПб.
[Гиляровская //.] 1945. Русский исторический
костюм для сцены: Киевская и Московская Русь//Сост. Н. Гиляровская. М.; Л.
[Гмелин С. Г.] 1771. Самуила Георга Гмелина...
путешествие по России для исследования трех царств естества. СПб. Ч. I.
Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска в 1768 и 1769 гг.
Гоголь Н. В. 1950. Собрание сочинений: В 6 т. М.
Т. 2, 5.
Голубева Л. А. 1960. Белозерская
экспедиция//КСИА. № 81.
Голубева Л. А. 1973. Весь и славяне в Белом
озере X – XIII вв. М.
Гольденберг П., Гольденберг Б. 1935. Планировка
жилого квартала Москвы XVII, XVIII, XIX вв. М.; Л.
Города Сибири: Эпоха феодализма и капитализма.
1978. Новосибирск.
Греков Б. Д. 1926. План части Новгорода конца
XVII в. Л.
Греков Б. Д. 1960. Опыт обследования
хозяйственных анкет XVIII в.// Избр. тр. М. Т. 1.
Гринкова Н. П. 1955. Височные украшения в
русском народном жен-
ском костюме//МАЭ. Л. Вып. XVI.
Громов Г. Г. 1977а. Жилище.//ОРК. М.
Громов Г. Г. 19776. Русская одежда// Там же.
Гуссаковский Л. П. 1956. Древнерусское народное
жилище VIII – XIII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.
Давыдов А. Н. 1984. Работы по комплексному
архитектурно-этнографическому изучению Архангельска// СЭ. № 2.
[Даль В. И.] 1882. Толковый словарь живого
великорусского языка Владимира Даля. СПб. Т. I – IV.
[Даль В. И.] 1957. Пословицы русского народа:
Сб. В. Даля. М.
Даркевич В. П., Монгайт А. Л. 1978. Клад из Старой
Рязани. М.
Даркевич В. П., Фролов В. П. 1978.
Старорязанский клад
Дворникова Н. А. 1964. Пища//На-роды мира:
Народы СССР: Восточная Европа. М. Т. 1.
Достоевский Ф. М. 1956. Повести и рассказы: В 2
т. М. Т. 1.
Дроченина Н. Н., Рыбаков Б. А. 1960. Берестяная
грамота из Витебска// СА. № 1.
Дубинин А. Ф. 1945. Археологические исследования
г. Суздаля//КСИИМК. Вып. 11.
Ефимова А. М., Хованская О. С, Калинин Н. Ф.,
Смирнов А. П. 1947. Раскопки развалин Великих Болгар в
Жирнова Г. В. 1980. Брак и свадьба русских
горожан. М.
Журжалина Н. П. 1961. Древнерусские
привески-амулеты и их дати-ровка//СА. № 2.
[Забелин И. Е.] 1862. Домашний быт русских царей
в XVI и XVII сто-летиях/Соч. И. Забелина. М.
[Забелин И. ?.] 1869. Домашний быт русских цариц в XVI и
XVII сто-летиях/Соч. И. Забелина. М.
Забелин И. Е. 1900. Русское искусство: Черты
самобытности в древ-нерус. зодчестве. М.
Забелин И. Е. 1918. Домашний быт русских царей.
4-е изд. М. Т. 1, ч. I.
[Зайончковский П. А.] 1971. Справочники по
истории дореволюционной России: Библиография/Науч. руководство ред. и вступ.
ст. П. А. Зай-ончковского. М.
Засурцев П. И. 1959. Постройки древнего
Новгорода//МИА. № 65.
294
Засурцев П. И. 1963. Усадьбы и постройки
древнего Новгорода//МИА. № 123.
Засурцев П. И. 1972. Каменные гражданские
постройки XV в. в Новго-роде//Новое в археологии. М. Засурцев П. И., Янин В. Л.
1975. [ Рецензия]//СА. № 3. Рец. на кн. Спегальский Ю. П. Жилище
Северо-Восточной Руси IX – XIII вв. Зеленин Д. К. 1937. Тотемы-деревья в
сказаниях и обрядах европейских народов. М.; Л.
Зеленин Д. К- 1940. Об исторической общности
культуры русского и украинского народов//СЭ. Вып. III. [Ибн-Фадлан] 1939.
Путешествие
Ибн-Фадлана на Волгу. М.; Л. Изюмова С. А. 1959.
К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого//МИА. № 65.
[Иовий] 1908. Павла Иовия Новоком-ского книга о посольстве Василия, великого
государя Московского к папе Клименту \'П//Герберштейн С. Записки о московитских
делах. СПб. Каргер М. К. 1958. Древний Киев. Л. Т. 1.
Кильдюшевский В. И., Овсянников О. В. 1983.
Приемы домостроительства в городах северо-запада Руси в XIV – XV вв.//Проблемы
изучения древнего домостроительства в VIII – XIV вв. в северо-западной части
СССР. Рига.
Кириченко Е. И. 1962. Доходные жилые дома Москвы
и Петербурга (1770 – 1830 гг.)//Архитектурное наследство. М. № 14. Кирпичников
А. Н. 1969. Раскопки древнего Орешка//АО, 1968.
Кирпичников А. Н. 1971. Изучение древнего
Орешка//АО, 1970. Киселев С. В. 1936. Старинные одежды, найденные на метро//По
трассе первой очереди Московского метрополитена. Л.
Клепиков С. А. 1965. Библиография печатных
планов Москвы XVI – XIX вв. М.
[Ключевский В. О.] 1867//Кирхман П. История
общественного и частного быта/Доп. В. Ключевским. М. Ч. 1. Ковальчук Н. А.
1955. Деревянное зодчество: Горьковская область// Памятники русской
архитектуры: Обмеры и исследования АН СССР. М.
Колединский Л. В., Ткачев М. А. 1983.
Строительная техника и строительные материалы средневекового Витебска//Проблемы
изучения древнего домостроительства... Рига.
Колчин Б. А. 1956. Топография, стратиграфия и хронология
Неревского раскопа//МИА. № 55. Колчин Б. А. 1957. Русский феодальный город
Великий Новгород//СА. № 3.
Колчин Б. А. 1968. Новгородские древности:
Деревянные изделия// САИ. Е – 1. Вып. 55. Колчин Б. А. [1970] Ремесло//ОРК
Колчин Б. А. 1975. Становление ремесла древнего Новгорода//Тез. докл. сов.
делегации на III между-нар. конгр. славян, археологии, Братислава,
Колчин Б. А., Хорошев А. С. 1978. Михайловский
раскол/Археологическое изучение Новгорода. М. Колчин Б. А., Хорошев А. С, Янин
В. Л. 1981. Усадьба новгородского художника XII в. М.
Колчин Б. А., Янин В. Л. 1978. Итоги и
перспективы новгородской археологии/Археологическое изучение Новгорода. М.
Колчин Б. А., Янин В. Л. 1982. Археологии
Новгорода 50 лет// Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М.
Комелова Г. 1961. Сцены русской народной жизни
конца XVIII – начала XIX в. по гравюрам из собрания Государственного Эрмитажа.
Л. Корб И. Г. 1906. Дневник путешествия в Московию (1668 и 1699 гг.). СПб. [Костомаров
Н. #.] 1860. Очерк домашней жизни и нравов великорус -скаго народа в XVI и XVII
столетиях Н. И. Костомарова. СПб. [Котошихин Г.] 1840. О России в царствование
Алексия Михайловича: Соврем, соч. Григорья Котошихина. СПб.
Кочин Г. Е. 1937. Материалы для
терминологического словаря древней России. М.
Кочин Г. Е. 1965. Сельское хозяйство на Руси в
период образования Русского централизованного государства: Конец XIII – начало
XVI в. М.; Л.
Кошлякова Т. Н. 1986. Мужские рубахи конца XVI –
начала XVII в. из погребений царя Федора Ивановича, царевича Ивана Ивановича и
князя М. В. Скопина-Шуйского в Архангельском соборе Московского Кремля//Древняя
одежда народов Восточной Европы. М.
Крупянская В. Ю., Полищук Н. С. 1971. Культура и
быт рабочих горнозаводского Урала: (Конец XIX – начало XX в.). М. Крылов И. А.
1956. Басни. М. Куза А. В. 1984. Малые города Древней Руси X – XIII
вв.//Древнерусский город. Киев.
Куфтин Б. А. 1926. Материальная культура Русской
мещеры. Ч. 1. Женская одежда: рубаха, понева, сарафан//Тр. Гос. музея
Центрально-пром. обл. М. Вып. 3. Кучкин В. А. 1967. Захоронение Ивана Грозного
и русский средневековый погребальный обряд//СА. № 1. [Ламанский В. И] 1861.
Сборник чертежей Москвы, ее окрестностей и города Пскова XVII столетия/ Сост.
В. И. Ламанским. СПб. Латышева Г. П. 1954. Раскопки курганов у ст. Матвеевская
в
Латышева Г. П. 1971. Торговые связи Москвы в XII
– XIV вв.//Древности Московского Кремля.
М. Лебедева Н. И. 1927. Народный быт в верховьях
Десны и в верховьях Оки//Мемуары Этнографического отдела ОЛЕАиЭ. М. Вып. 2.
Лебедева Н. И. 1956. Прядение и ткачество
восточных славян в XIX – начале XX в.//Восточнославянский этнографический
сборник. М.
Левашова В. П. 1959а. Обработка кожи, меха и
других видов животного сырья//Очерки по истории русской деревни X – XIII вв. М.
Левашова В. П. 19596. Изделия из дерева, луба,
бересты//Там же.
Левашова В. П. 1966. Об одежде сельского
населения древней Руси// Археологический сборник.
М. Левашова В. П. 1967. Височные кольцам/Очерки
по истории русской деревни X – XIII вв. М.
Левашова В. П. 1968. Венчики женского головного
убора из курганов X – XII вв.//Славяне и Русь. М.
Левинсон-Нечаева М. Н. 1954. Ткани и одежда XVI
– XVII вв.//Государ-ственная Оружейная палата Московского Кремля. М.
Левинсон-Нечаева М. И. 1959. Ткачество//Очерки
по истории русской деревни X – XIII вв. М.
Либсон В. Я- 1969. Ювелирный труд
реставраторов//Стр. и архитектура Москвы. № 2.
Липец Р. С. 1969. Эпос и Древняя Русь. М.
Лихачев Д. С. 1982. Поэзия садов: К семантике
садово-парковых стилей. М.
Лотман Ю. М., 1980. Роман А. С. Пушкина «Евгений
Онегин»: Комментарий. Л.
Макарова Т. И. 1967. Поливная посуда: Из истории
керамического импорта и производства Древней Руси//САИЕ 1 –
Маковецкий И. В. 1962. Архитектура русского
народного жилища: Север и Верхнее Поволжье.
М. Мангазея: Мангазейский морской ход. 1980//М.
И. Белов, О. В. Овсянников, В. Ф. Старков. Л. Ч. I.
Мангазея: Материальная культура русских полярных
мореходов и землепроходцев XVI – XVII в.
Мас.юва Г. С. 1954. Историко-культурные связи
русских и украинцев по данным народной одежды//СЭ. Л» 2.
Маслова Г. С. 1956. Народная одежда русских,
украинцев и белорусов в XIX – начале XX в.//Восточнославянский этнографический
сборник. М.
Маслова Г. С. 1974. Значение картографирования
русского традиционного костюма для этногенетических исследований//Проблемы
картографирования в языкознании и этнографии. Л.
Маслова Г. С. 1978. Орнамент русской народной
вышивки как историко-этнографический источник. М.
Маслова Г. С. 1984. Народная одежда в
восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – начала XX в. М.
Масса И. 1937. Краткое известие о Московии в
начале XVII в. М.
Матейко К- I- 1977. Украинський народный одяг.
Киев.
Мейерберг А. 1903. Виды и бытовые картины России
XVII в. СПб. Милое Л. В. 1968. О так называемых аграрных городах России XVIII
в.// ВИ. № 6.
Милославский М. Г. 1956. Техника деревянного
строительства на Руси в XVI – XVII вв.//Тр. Ин-та истории естествознания и
техники. Т. 7.
Милославский М. Г. 1962. К вопросу о
реконструкции дворца Ивана Грозного в Коломне//Архитектурн. наследство. Вып.
14.
Моисеенко Е. Ю. 1974. Мастера-портные «немецкого
платья» в России и их работы//Тр. Гос. Эрмитажа. Вып. 15.
Молотова Л. Н. 1974. Русские кокошники –
памятники народного искусства/Дам же.
Монгайт А. Л. 1955. Старая Рязань// МИА. № 49.
Монгайт А. Л. 1961. Рязанская земля. М.
Монгайт А. Л. 1975. Художественные сокровища
Старой Рязани. М.
Недошивина Н. Г. 1968. О датировке Белевского
клада//Славяне и Русь. М.
Некрасов Н. А. 1950. Стихотворения. 2-е изд. Л.
Т. 1. (Б-ка поэта. Малая сер.).
Нидерле Л. 1956. Славянские древности. М.
Никитский А. И. 1859. Очерки из жизни Великого
Новгорода. I Правительственный совет//ЖМНП. Ч. 145.
Николаева Т. В. 1976. Прикладное искусство
Московской Руси. М.
Носов Е. Н. 1983. Новые данные о
домостроительстве конца I тысячелетия н. э. в Приильменье//Пробле-мы изучения
древнего домостроительства VIII – XIV вв. в северозападной части СССР. Рига.
Оборин В. А. 1957. Орел-городок// СА. № 4.
Овсянников О. В. 1980. О некоторых компонентах
севернорусского жилища XVI – XVII вв.//Исследования по истории крестьянства
европейского Севера России. Сыктывкар.
Ожегов С. С. 1984. Типовое и повторное
строительство в России XVIII – XIX вв.
Озерова Г. II., Покшишевский В. В. 1981.
География мирового процесса урбанизации. М.
Олеарий А. 1906. Описание путешествия в Московию
и через Московию в Персию и обратно. СПб.
Оятева Е. И. 1973. Белозерская кожаная обувь//Л.
А. Голубева. Весь и славяне на Белом озере X – XIII вв. М.
Оятева Е. И. 1974. Обувь из раскопок
Переяславля Рязанского//Археология Рязанской
земли. М.
Оятева Е. И. [б. г.] Обувь и другие кожаные
изделия Земляного городища Старой Ладоги//Материалы и исследования по
археологии европейской части СССР. Л.; М.
Петрей Петр де Эрлезунда. 1867. История о
великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних
смутах, проведенных там тремя Лжедмитриями, и о московских законах правления,
вере и обрядах... М.
[Поганкин]. 1870. Книги псковитина посадского
торгового человека Сергея Иванова сына Поганкина/Списал с подлинника действительный
член Псковского губернского статистического комитета К. Г. Евлентьев. Псков.
Кн. I – V.
Подобедова О. И. 1965. Миниатюры русских
исторических рукописей: К. истории русского лицевого летописания. М.
Покровский М. Н. 1933. Русская история с
древнейших времен. [М.] Т. 1.
Покшишевский В. В. 1978. Население и география:
Теорет. очерки. М.
Поликарпов Н. И. 1902. Черты из жизни св.
Митрофана//Тр. Воронеж. УАК. Вып. 1.
Полонский Я. П. 1957. Стихотворения. 3-е изд. Л.
(Б-ка поэта. Малая сер.).
Попова Н. И. 1979. Музей-квартира A. С. Пушкина:
Путеводитель. Л. Поппэ А. 1965. История древнерусской ткани и одежды:
Вотола//Ас1а baltico-slavica. Vol. 2.
Потапов А. А. 1902 – 1903. Очерк древней русской
гражданской архитектуры. М. Вып. 1 – -2.
Потапов А. А. 1936. Древний погреб близ Крымской
площади//По трассе первой очереди Московского метрополитена. Л.
Приходько Н. П. 1975. Некоторые вопросы истории
жилища на Украине// Древнее жилище народов Восточной Европы. М.
Пропп В. Я- 1963. Русские аграрные праздники. Л.
Просвиркина С. К- 1955. Русская деревенская
посуда//Тр. ГИМ. Выи. XVI. М.
[Прохоров В.] 1881 – 1885. Материалы по истории
русских одежд и обстановки жизни народной, издаваемые по высочайшему
соизволению
B. Прохоровым. СПб. Ч. 1 – 4. Пушкин А. С. 1949.
Поли. собр. соч.:
В 10 т. М.; Л. Т. 4 – 5. Рабинович М. Г. 1947а.
Гончарная слобода Москвы XVII – XVIII вв.// МИА. № 7.
Рабинович М. Г. 19476. Из истории русского
оружия IX – XV вв.//ТИЭ. Н. С. Т. 1.
Рабинович М. Г. 1949а. Раскопки 1946 – 1947 гг.
в Москве на устье Яузы//МИА. № 12. Рабинович М. Г. 19496. Московская
керамика//Там же.
Рабинович М. Г. 1951. Основные итоги
археологического изучения Москвы//КСИИМК. Вып. 41.
Рабинович М. Г. 1952. Дом и усадьба в древней
Москве//СЭ. № 3. Рабинович М. Г. 1954. Материалы по истории Великого посада
Москвы// Археологические памятники Москвы и Подмосковья. М.
Рабинович М. Г. 1957. Золотое украшение из
Тушкова городка// КСИИМК. Вып. 68. Рабинович М. Г. 1959. Крепость и
город Тушков//СА. Вып. 29 – 30. Рабинович М. Г.
1964. О древней Москве: Очерки матер, культуры и быта горожан XI – XVI вв. М.
Рабинович М. Г. 1966. Кто был Даниил Заточник по
рождению?//Рус. лит. № 1.
Рабинович М. Г. 1970. Поселения. Жилище//ОРК.
Рабинович М. Г. 1971а. Культурный слой
центральных районов Москвы// Древности Московского Кремля.
М. Рабинович М. Г. 19716. Ответы на программу
Русского Географического общества как источник для изучения этнографии города//
ОИРЭФиА. Вып. V.
Рабинович М. Г. 1973. Жилище//ОРК.
Рабинович М. Г. 1975. Русское жилище XIII – XVII
вв.//Древнее жилище народов Восточной Европы. М.
Рабинович М. Г. 1976. Деревянные сооружения
городского хозяйства в Древней Руси//Средневековая Русь. М.
Рабинович М. Г. 1978а. Очерки этнографии
русского феодального города: Горожане, их общественный и домашний быт. М.
Рабинович М. Г. 19786. Свадьба в русском городе
в XVI в.//Русский народный свадебный обряд: Исслед. и материалы. Л.
Рабинович М. Г. 1980. О происхождении и развитии
восточнославянских городов: (Москва и города Московского княжества)//Rapport du
III Congres international d'archeologie Slave. Bratislava. T. II.
Рабинович М. Г. 1981. Бытовой аспект семейной
драмы Грозного//СЭ. № 6.
Рабинович М. Г. 1982. Русские письменные
источники эпохи феодализма как материалы для изучения этнографии
города//ОИРЭФиА. Вып. IX.
Рабинович М. Г. 1983. К определению понятия
«город»: (В целях этнографического изучения)//СЭ. № 3. Рабинович М. Г. 1984.
Судьбы вещей. 3-е изд. М.
Рабинович М. Г. 1986а. Средневековый русский
город в былинах//СЭ. № 1.
Рабинович М. Г. 19866. Русская одежда IX – XIII
вв.; Одежда русских XIII – XVII вв.//Древняя одежда народов Восточной Европы.
М.
Рабинович М. Г., Шмелева М. И. 1981. К
этнографическому изучению города//СЭ. № 3.
Рабинович М. Г., Шмелева М. Н. 1984. Город и
этнические процессы//СЭ. №2.
Радищев А. Н. 1950. Путешествие из Петербурга в
Москву. М.
Раппопорт П. А. 1949. Русское шатровое зодчество
конца XVI В.//МИА. № 12.
Раппопорт П. А. 1975. Древнерусское жилище//САИ.
Е-1, вып. 32.
Ржига В. Ф. 1929. Очерки из истории быта
домонгольской Руси. М.
Рикман Э. А. 1952. Изображения бытовых предметов
на рельефах Дмитровского собора во Владимире// КСИИМК. Вып. 47.
[Розанов И. Н.] 1944. Русские песни XIX вУ/Сост.
Ив. Н. Розанов. М. Рыбаков Б. А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве
Киевской Руси//СА. Вып. VI.
Рыбаков Б. А. 1948. Ремесло Древней Руси. М.
Рыбаков Б. А. 1949. Древности Чернигова//МИА. №
11.
Рыбаков Б. А. 1967. Русалии и бог
Симаргл-Переплут//СА. № 12.
Рыбаков Б. А. 1974. Русские карты Московии XV –
XVII вв. М.
Рыбаков Б. А. 1981. Язычество древних славян. М.
Рындзюнский П. Г. 1958. Городское гражданство в дореформенной России. М.
Рындзюнский П. Г. 1976. Основные факторы
городообразования в России//Русский город: Ист.-методол. сб. М.
Сабурова М. А. 1974. Женский головной убор у
славян: (По материалам Вологодской экспедиции)//СА. №2.
Сабурова М. А. 1976. Стоячие воротники и
«ожерелки» в древнерусской одежде//Средневековая Русь. М.
Сабурова М. А. 1978. О времени появления одной
из групп корун на Руси: (К вопросу о путях сложения русского традиционного
головного убора)//Древняя Русь и славяне. М.
[Савваитов П.] 1896. Описание старинных русских
утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке
расположенное, Павла [С] Савваи-това. СПб.
Седов В. В. 1957. К вопросу о жертвоприношениях
в древнем Новгоро-де//КСИИМК. Вып. 68.
Седов В. В. 1960. Сельские поселения центральных
районов Смоленской земли VIII – XV вв.//МИА СССР. № 92.
Седова М. В. 1975. Торговые связи Ярополча
Залесского//КСИА. Вып. 135.
Седова М. В. 1978а. «Имитационные» украшения
древнего Новгорода// Древняя Русь и славяне. М.
Седова М. В. 19786. Ярополч Залесский. М.
[Селифонтов Н. Н.] 1902. Опись документов архива
бывшей Больше-сольской посадской избы и ратуши, найденных в посаде Большие Соли
Костромского у. XVI – XVIII столетий. СПб.
Семевский М. И. 1864. Торопец – уездный город
Псковской губернии. СПб.
[Семевский М. И.] 1870. Торопец: (Ист.-этнограф.
очерк), 1016 – 1869// Всемир. иллюстрация. № 57 – 59.
[Семенов-Тян-Шанский П. П.] 1863 – 1865.
Географо-статистический словарь Российской империи. СПб. Т. 1-5.
Семенова Л. И. 1982. Очерки истории быта и
культурной жизни России, Первая половина XVIII в. Л.
Сербина К- Н. 1951. Очерки
социально-экономической истории русского города: Тихвинский Посад в XVI – XVIII
вв. М.; Л.
Соколова В. К- 1979. Весенне-летние календарные
обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начала XX в. М.
[Соловьев С. М.] [б. г.] История России с
древнейших времен: Соч. Сергея Михайловича Соловьева. СПб. Т. I-XXX.
Спегальский Ю. П. 1963. Псков: Художественные
памятники. М.
Спегальский Ю. П. 1972. Жилище Северо-Западной
Руси IX – XIII вв. Л.
[Срезневский И. Я.] 1893 – 1905. Материалы для
словаря древне-русского языка по письменным памятникам. СПб. Т. I – III.
Станюкович Т. В. 1970. Внутренняя планировка,
отделка и меблировка русского крестьянского жилища// ИЭАР.
[Стасов В. В.] 1877. Славянский и восточный
орнамент по рукописям древнего и нового времени/Собр. и исслед. В. Стасов. СПб.
Студенецкая Е. Н. 1974. Общие черты в мужской
одежде Северного Кавказа и их отражение в терминологии//Проблемы
картографирования в языкознании и этнографии. Л.
Сыроечковский В. Е. 1935. Гости-сурожане. М.; Л.
Тальман Е. М. 1953. Ремесленное ученичество
Москвы в XVII В.//ИЗ. Кн. 27.
Таннер Б. 1891. Описание путешествия польского
посольства в Москву в
Токарев С. А. 1954. О культурной общности
восточнославянских народов//СЭ. № 2.
Толочко П. П. 1980. Киев и Киевская земля в
эпоху феодальной раздробленности XII – XIII вв. Киев.
Толочко П. Л. 1981. Массовая застройка Киева X –
XIII вв.//Древне-русские города. М.
Толстое С. П. 1930. К проблеме аккультурации: (В
связи с работой проф. Д. К. Зеленина «Принимали ли финны участие в образовании
великорусской народности?»)//Этнография. № 1/2.
Толстой А. К. 1963. Собр. соч.: В 4 т. М.
299
Толстой Л. Н. 1964. Собр. соч. В 20-ти т. М. Т.
1.
[Толченое И. А.] 1974. Журнал или Записка жизни
и приключений Ивана Алексеевична Толченова/Подгот. к изд. Н. И. Павленко. М.
Фальковский Н, И. 1950. Москва в истории
техники. М.
[Флетчер Д.] 1906. О государстве Русском. 3-е
изд. СПб.
Фехнер М. В. 1976. Золотое шитье
Владимиро-Суздальской Руси//Средневековая Русь. М.
Хорошкевич А. Л. 1967. Быт и культура русского
города по словарю Тони Фенне
Цалкин В. И. 1956. Материалы для истории
скотоводства и охоты в Древней Руси//МИА. № 51.
Ченслер Р. 1938. Книга о великом и
могущественном государе России...// Английские путешественники в Московском
государстве XVI в. М.
Черепнин Л. В. 1960. Образование русского
централизованного государства в XIV – XV вв.: Очерки соц.-экон. и полит,
истории Руси. М.
Черепнин Л. В. 1969. Новгородские берестяные
грамоты как исторический источник. М.
Чечулин Н. Д. 1889. Города Московского
государства в XVI в. СПб.
Чечулин Н. Д. 1893. Русские деревянные постройки
XVI в. СПб.
Чижикова Л. Н. 1970. Архитектурные украшения
русского крестьянского жилища//ИЭАР.
Шапошников Б. В. 1928. Бытовой музей сороковых
годов: Путеводитель. 4-е изд. М.
Шевяков А. П. 1870. Типы города Га-лича//АГО. Ф.
116. Оп. 1. № 24.
Шеляпина Н. С. 1973. Археологические исследования
в Успенском со-боре//Государственные музеи Московского Кремля: Материалы и
исслед. М.
Шенников А. А. 1962. Крестьянские усадьбы XVI –
XVIII вв.: (Средняя и южная часть Европейской России) //Архитектурное
наследство. Вып. 14.
Шестакова И. С, Зыбин Ю. П., Богданов Н. А.
1951. Отчет по теме «Изучение древнего производства кожи и изделий из
кожи»//АИА. Ф. 1. № 555. Прил.
[Шитова А. и др.] 1984. Le Ioubok: L'immagerie
populaire russe en XVIIе – XIXе siecles. Londres.
Штакельберг М. А. [б. г.] «Окончина слюдяная» из
Старой Ладоги//Ма-териалы и исследования по археологии европейской части СССР.
Л.; М.
Якобсон А. Л. 1934. Ткацкие слободы и села в
XVII в.: (Кадашево, Хамовники, Берейтово и Черкасово). М.; Л.
Casanova I. 1931. Memoires de J. Casanova de
Seingalt. P. T. X.
[Poppe A-] 1962. Materialy do slow-nika terminow
budownictwa staro-russkiego X – XV л\г. Opracowal
Andr-zei Poppe. Wroclaw etc.
Rabinovic M. G. 1971. Die traditionelle Speise
der Russen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts//Ethnologia euro-paea. Bonn. Vol.
V.
Radig V. 1950. Friihformen der Hau-sentwirklung
in Deutschland. B. Tracht... 1960 Tracht, Wehr und Wa-fen des spa'ten
Mittelalters (1350 – 1450) and Bilderquellen gesammelt und gezeichnet von
Eduard Wayner// Text von Zoroslawu Drobna und Jan Durdin. Praha.
[Vahros I.] 1966. Zur Geschichte und Folklore
der grossrussischen Sauna von Igor Vahros. Helsinki.
Zelenln D. 1927. Russische (ostslavisc-he)
Volkskunde. В.; Leipzig.
ААН – Архив Академии наук СССР.
ААЭ – Акты, собранные в библиотеках и
архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб.,
1836. Т. I.
АГО – Архив Географического общества СССР.
АИ – Акты исторические, собранные и изданные
Археографической комиссией. СПб., 1841 – 1845. Т. 1 – 5.
АИА – Архив Института археологии АН СССР.
АИЭ – Архив Института этнографии АН СССР.
АГР – Акты, относящиеся до гражданской расправы
в древней России. Киев, 1860 – 1863. Т. I – II.
AM Г – Акты Московского государства, изданные
Академией наук. СПб., 1890 – 1901. Т. I – III.
АО – Археологические открытия. М.
АСЭИ – Акты социально-экономической истории
Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1952 – 1958. Т. 1 – 2.
АФЗ и X – Акты феодального землевладения и
хозяйства XIV – XVI вв. М., 1951 – 1956. Ч. 1 – 2.
АШ – Старинные акты, служащие преимущественно
дополнением к описанию г. Шуи и его окрестностей. М., 1853.
АЮ – Акты юридические, или Собрание форм
старинного делопроизводства, изданные Археографической комиссией. СПб., 1838.
АЮБ – Акты, относящиеся до юридического быта
древней России, изданные Археологической комиссией. СПб., 1857 – 1884. Т. I –
III.
SA – Воронежские акты. Воронеж. 1887.
ВАН СССР – Вестник Академии наук СССР.
ВИ – Вопросы истории.
ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.;
Л., 1949.
ГИМ – Государственный Исторический музей.
Д – Домострой по Коншинскому списку и подобным/К
изданию приготовил А. Орлов. М., 1908.
ДАИ – Дополнения к Актам историческим, собранным
Археографической комиссией. СПб., 1846 – 1875. Т. 1 – 12.
ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и
удельных князей XIV – XVI вв./Подгот. к печ. Л. В. Черепнин. М.; Л., 1950.
ДЗ – Домострой по списку Общества истории и
древностей российских/Подгот. к печ. И. Е. Забелин. М., 1882.
ЖМВД – Журнал Министерства внутренних дел.
ЖМНП – Журнал Министерства народного
просвещения.
ЗРАО – Записки Русского археологического
общества. СПб.
И – Изборник 1076 года. М., 1965.
ИАК – Известия Археологической комиссии. СПб.
ИЗ – Исторические записки.
ИКДР – История культуры Древней Руси. М.; Л.,
1948 – 1951. Т. 1 – 2
ИЭАР – Историко-этнографический атлас «Русские».
М., 1967, 1970.
КД– Древние российские стихотворения, собранные
Киршею Да-ниловым/2-е, доп. изд. подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов. М., 1977.
КС– Костромская старина. Кострома. 1892. Т. III.
КСИА– Краткие сообщения Института археологии АН
СССР.
КСИИМК• – Краткие сообщения о докладах и полевых
исследованиях Института истории материальной культуры.
КСИЭ– Краткие сообщения Института этнографии АН
СССР.
МАМЮ– Материалы Московского архива Министерства
юстиции. М. СПб., 1869 – 1916. Кн. 1 – 21.
МИА– Материалы и исследования по археологии
СССР. М.; Л.
НА– Нижнетагильский архив.
НБ– Новгородские былины. М., 1978.
НБГ– Новгородские грамоты на бересте. М., 1953 –
1986.
НПЛ– Новгородская первая летопись старшего и
младшего изводов. М.; Л., 1950.
ОИРЭФИА– Очерки истории русской этнографии,
фольклористики и антропологии. М., 1956 – 1982. Вып. I – IX.
ОЛЕАиЭ– Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии при МГУ.
ОРК– Очерки русской культуры, XIII – XV вв. М.,
1970 – 1971. Ч. 1. Очерки русской культуры, XVI век. М., 1977. Ч. 1; Очерки
русской культуры, XVII век. М., 1979. Ч. 1; Очерки русской культуры, XVIII век.
М., 1985. Ч. 1.
Пат. – Патерик Киевского Печерского монастыря,
изданный Археографической комиссией. Киев, 1911.
ПВЛ– Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1.
ПИГ– Послания Ивана Грозного/Подгот. текста Д.
С. Лихачева, Я. С. Лурье. М.; Л., 1951.
ПКБ– Повести о Куликовой битве/Изд. подгот. М.
Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М„ 1959.
ПКГ– Переписка князя А. М. Курбского с царем
Иваном Грозным/Издание Археографической комиссии. Пг., 1914.
ПКГБ– Переписная книга города Балахны. 1674 –
1676 гг. Нижний Новгород, 1910.
ПКМГ– Писцовые книги Московского государства.
СПб., 1872 – 1877. Т. 1 – 2.
ПКНН– Писцовая и переписная книга Нижнего Новгорода.
СПб., 1896.
ПКУ – Баландин И. И., Червяков В. П. Переписная
ландратская книга Устюжны Железнопольской
ПРП– Памятники русского права. М., 1952 – 1961.
Вып. 1 – 8.
ПСРЛ– Полное собрание русских летописей. СПб.;
Пгр.; Л.; М., 1962 – 1982. Т. 1 – 37.
РДС – Русская демократическая сатира XVII в. Л.,
1954.
РИБ – Русская историческая библиотека,
издаваемая Археографи-
ческой комиссией. СПб.; Л., 1872 – 1927. Т. 1 –
39.
РЛ – Радзивиллавская летопись. Библиотека АН
СССР. Л.
Р. Пр. – Русская правда. М., Т. I – III.
С. – Судебники XV – XVI вв. М.; Л., 1952.
СА – Советская археология.
САП – Свод археологических источников.
СГГиД – Собрание государственных грамот и
договоров, хранящихся
в Государственной коллегии иностранных дел. М.,
1812 – 1826. Ч. 1 – 5.
СДЗ – Слово Даниила Заточника по редакциям XII –
XIII вв. и их
переделкам/Под, ред. Н. Н. Зарубина. Л., 1932.
СПИ – Слово о полку Игореве под редакцией В. П.
Андриановой-
Перетц. М.; Л., 1950.
СРЯ – Словарь русского языка XI – XVII вв. М.,
1975 – 1986. Вып. 1 – 11.
СЭ – Советская этнография.
ТВорУАК – Труды Воронежской ученой Архивной
комиссии.
ТВятУАК – Труды Вятской Архивной комиссии.
ТИЭ – Труды Института этнографии АН СССР.
УА – Угличские акты//ЧОИДР. 1899. Кн. 1.
УИО – Устав новгородского князя Всеволода
Мстиславича купечес-
кой организации церкви Ивана на
Опоках//Древнерусские княжеские уставы. М., 1976.
ФП – Физиология Петербурга, составленная из
трудов русских
литераторов/Под, ред. Н. Некрасова. СПб., 1845.
Т. I – II.
ХОПГ – Хозяйственное описание Пермской губернии.
Пермь, 1804.Ч. 1.
ЦГАДА – Центральный государственный архив
древних актов.
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей
Российских.
Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.
Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.
Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.
Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.
Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.
Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,
академик Российской академии художеств
Сергей Вольфгангович Заграевский