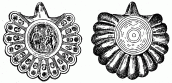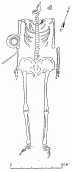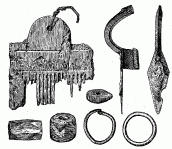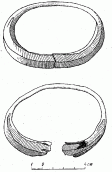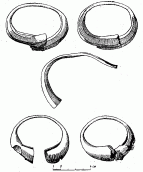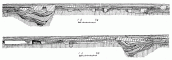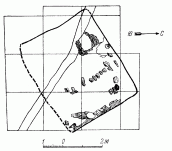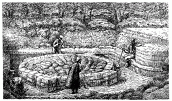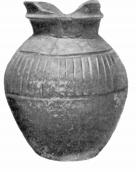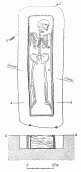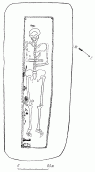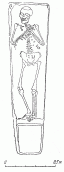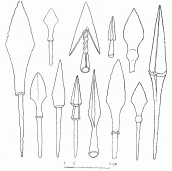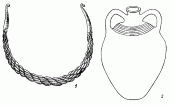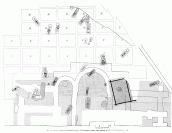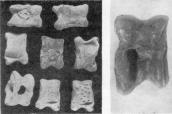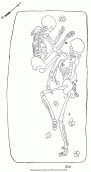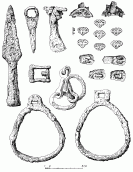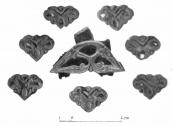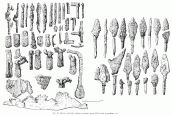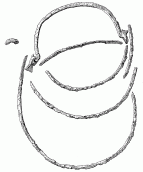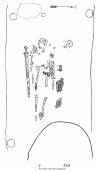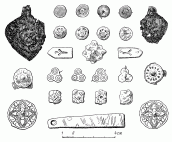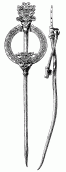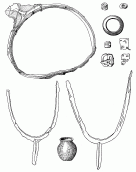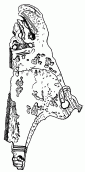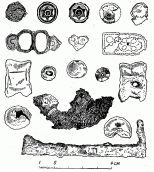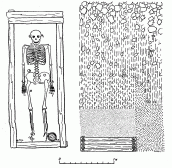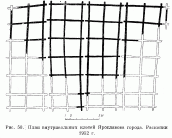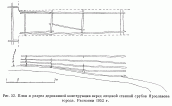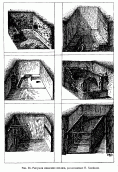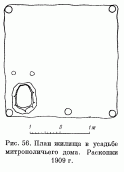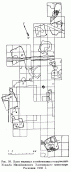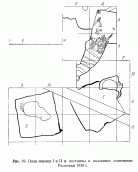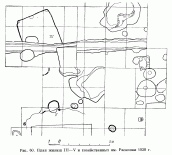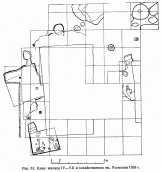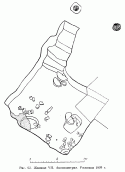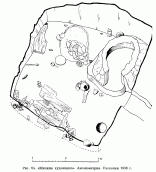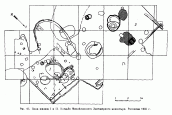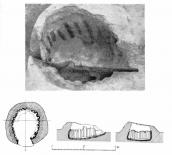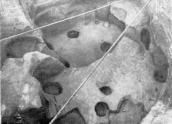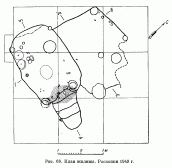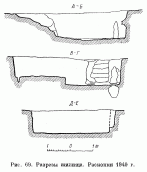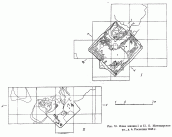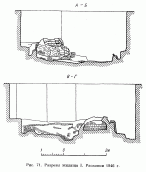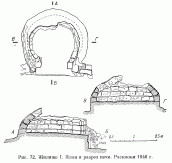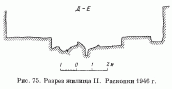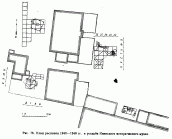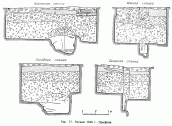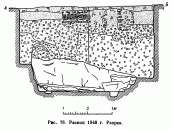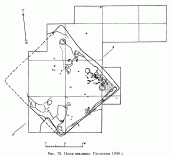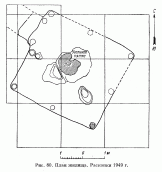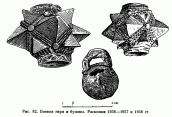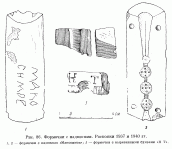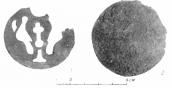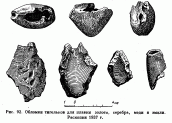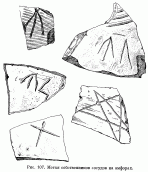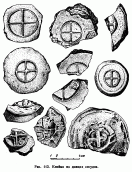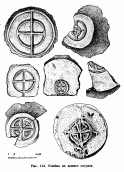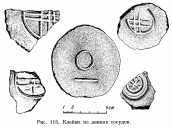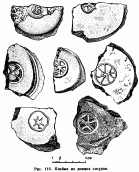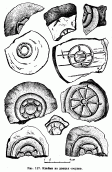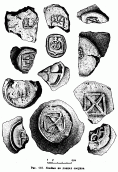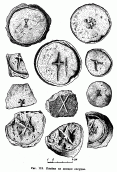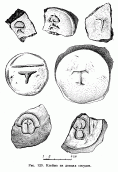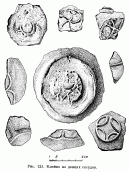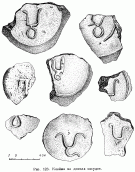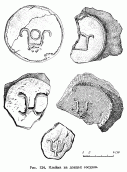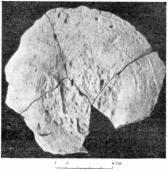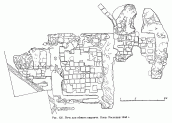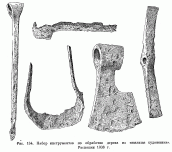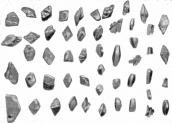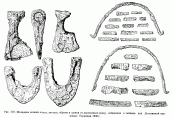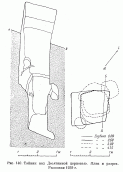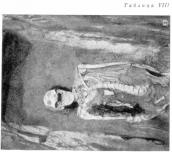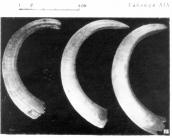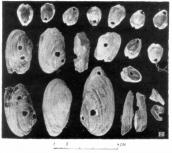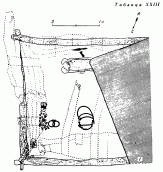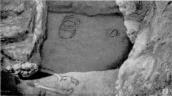|
РусАрх |
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
|
Размещение электронной версии в открытом доступе произведено: www.myslenedrevo.com.ua. Все права сохранены.
Номера страниц проставлены в квадратных скобках в конце страниц.
Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2019 г .
ДРЕВНИЙ КИЕВ:
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА
ТОМ 1
Аннотация
Монография представляет обобщающий труд, подводящий итоги полуторавековых археологических исследований столицы Древнерусского государства – города Киева. Значительная часть книги основана на материалах многолетних раскопок, проводившихся самим автором. Монография обильно иллюстрирована фотографиями, чертежами и рисунками. Книга рассчитана на научных работников и подготовленных читателей, интересующихся вопросами истории культуры.
Предисловие
Монография “Древний Киев” представляет опыт историко-археологического исследования древнейшей столицы Русского государства, по имени которой начальный период истории этого государства принято называть “Киевской Русью”. Задача исследования, как это видно из подзаголовка монографии, ограничена проблемами истории материальной культуры древнерусского города. Вопросы политической истории Древнерусского государства, важнейшие события которой нередко разыгрывались на улицах и площадях его стольного города, автор затрагивает лишь в той мере, в какой они необходимы для понимания проблем истории материальной культуры. В числе этих проблем важнейшее значение автор придает вопросам градостроительства, включающим историю формирования городской территории и ее планировки, строительство оборонительных сооружений города, возникновение и развитие феодальных княжеских и боярских внутригородских и загородных дворов-вотчин с их жилыми и хозяйственными постройками, строительство разнообразных монументальных сооружений и особенно массовых жилищ и хозяйственных построек горожан.
Важнейшей проблемой истории древнерусского города и истории Киева, в частности, является проблема городского ремесла. Ремесленное производство составляло основу экономической жизни города, являлось важнейшей определяющей чертой, отличающей феодальный город от других видов поселений.
“Разделение труда в пределах той или иной нации, – писали К.Маркс и Ф.Энгельс, – прежде всего приводит к отделению промышленного и торгового труда от труда земледельческого и, тем самым, к отделению города от деревни и к противоположности их интересов” [К.Маркс и Ф.Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. IV, М., 1933, стр. 12]
Лишь очень немногие из перечисленных вопросов освещены письменными источниками, в первую очередь древними летописями и некоторыми литературными произведениями Киевской Руси. Тем более ценными и к тому же неисся[с. 5]каемыми источниками для изучения проблем истории древнерусского города являются многообразные памятники материальной культуры, добываемые археологическими раскопками. Значение памятников материальной культуры долгое время недооценивалось историками, игнорировавшими эту разновидность исторических источников. Даже те из них, которые считали возможным и необходимым прибегать к помощи этой категории источников, обычно использовали их в качестве иллюстративного материала для подтверждения теорий и взглядов, сложившихся на основе изучения письменных источников.
Лишь совсем
недавно в этом вопросе наступил решительный перелом. Он наглядно отражен в
последних работах акад.Б.Д.Грекова [Б.Д.Греков.
Киевская Русь. М., 1949] и в еще большей мере в трудах
акад.М.Н.Тихомирова, где наряду с тонким анализом письменных источников широко
и равноправно используются и археологические материалы [М.Н.Тихомиров. Древнерусские города. Ученые записки
МГУ, вып.
“Теоретически здесь все ясно. Но решить задачу применительно к древней Руси на прочном основании источников совсем не просто. Письменные источники дают нам слишком мало. Разрешить задачу может только археология. Нужно отдать справедливость, наши археологи уже сделали немало. С каждым годом наша наука обогащается новыми ценными материалами. Но, самое главное, археологи с полной очевидностью показали, что они в данном вопросе могут вывести историческую науку из трудного положения. Весь вопрос во времени. Ждать осталось немного. В свете новых археологических открытий по-новому начинают звучать и наши скудные письменные источники)” [Б.Д.Греков, ук. соч., стр. 100-101]
Перечисленными выше вопросами, связанными с историей Киева Х-XIII вв., круг задач предлагаемого исследования не исчерпывается. Археологические источники позволяют “углубиться” в значительно более отдаленные времена с цепью изучения более древних поселений, существовавших на территории будущего города уже в первые века нашей эры, а вероятно, и несколько ранее. Археологические источники в настоящее время далеко не с одинаковой степенью полноты раскрывают разные этапы исторического развития поселений, предшествовавших сложению древнерусской столицы. В отношении некоторых исторических этапов археологические источники являются пока лишь первыми, не всегда до конца понятными сигналами, направляющими дальнейшие поиски.
Археологические исследования древнего Киева, начавшиеся почти полтора века назад и особенно широко развернувшиеся в последние десятилетия, обогатили историческую науку множеством новых, бесспорно установленных фактов. Многие вопросы древней истории города, не разрешимые на основе письменных источников, получили серьезное, глубокое истолкование на основе археологических источников. Однако не следует преувеличивать степень изу[с. 6]ченности Киева в этом отношении. Следует помнить, что площадь города, подвергшаяся археологическим исследованиям, ничтожна по отношению к территории, остающейся недоступной для раскопок, так как последние ведутся в обстановке современного благоустроенного города с асфальтированными улицами и площадями, замощеными дворами, города со сложным подземным хозяйством (водопроводом, канализацией, электросетью, газопроводом и пр.). Археологические раскопки в Киеве с каждым годом становятся более затрудненными, хотя можно с уверенностью сказать, что дальнейшие исследования дадут новые, и разнообразные материалы, которые позволят осветить многие, до сих пор не решенные вопросы.
Несмотря на незавершенность археологических исследований Киева, автор считает своевременной попытку подвести итоги почти полуторавековых исследований. Отдельные попытки обобщений делались и раньше, но они или безнадежно устарели, или же имеют слишком частный характер.
Автору выпало счастье в течение ряда лет (1938-1952 гг.) руководить Киевской археологической экспедицией, организованной Институтом археологии АН УССР совместно с Институтом истории материальной культуры АН СССР. Возможности, которыми располагала эта экспедиция, были в разные годы неравнозначны, но общие результаты ее работ не только обогатили нашу науку огромным количеством новых разнообразных памятников, но и позволили поднять, а отчасти и решить немало различных проблем истории древнего Киева. Вновь открытые и исследованные Киевской экспедицией памятники позволили по-новому понять и интерпретировать результаты более ранних исследований.
Автор пользуется случаем отметить, что всеми основными научными результатами Киевская археологическая экспедиция обязана в первую очередь безграничной энергии, энтузиазму и самоотверженному труду личного состава названной экспедиции, в которой основную роль во все годы играли студенческая молодежь и аспиранты Ленинградского ордена Ленина государственного университета им.А.А.Жданова, Института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина Академии художеств СССР и Киевского государственного университета им.Т.Г.Шевченко. Неоценимо участие в полевых исследованиях и в камеральной обработке материалов научных сотрудников и лаборантов Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР; Института археологии АН УССР и Киевского исторического музея.
Монография “Древний Киев” состоит из двух томов. Главы первого тома посвящены изучению древнейших поселений и могильников на территории Киева, проблемам градостроительства Х-XIII вв. (оборонительные сооружения, княжеские и боярские дворы, массовые жилища горожан) и городского ремесла. Этим главам предпосылается вводная историографическая глава, посвященная истории археологических исследований Киева. Завершающая глава “Киев и монгольское нашествие” не только служит обоснованием “верх[с. 7]ней” хронологической границы исследования, но и объясняет многие особенности археологических источников, на которых воссоздаются отдельные этапы истории материальной культуры Киева.
Второй том целиком посвящен вопросам истории каменного зодчества Киева Х-XIII вв. и тем проблемам градостроительства, которые неразрывно связаны со строительством монументальных сооружений. Приложением ко второму тому служит обширная библиография по разнообразным вопросам истории материальной культуры Киева, отражающая полуторавековую историю археологического изучения Киева. [с. 8]
И кто убо не возлюбит киевского княжениа, понеже вся честь и слава, и величество, и глава всем землям русским – Киев.
Никоновская летопись 6663 (1155) г. [с. 9]
История археологических исследований древнего Киева
…Нет места, где бы до известной глубины была целая земля; везде щебень, кирпичи, камни, части фундаментов, кости и другие остатки долговечного города.
М.Берлинский. Краткое описание Киева 1820.
1. Никон Печерский (XI в.) — первый историк и археолог древнего Киева
Разнообразные памятники Киева – величественные свидетели многовековой истории древнейшей столицы Русского государства – еще в далекой древности привлекали к себе внимание народа. Пытливый ум народа искал у этих молчаливых свидетелей его далекого прошлого ответы на многие волновавшие вопросы. Глубокий интерес к памятникам седой старины возрастал по мере роста народного самосознания.
Когда во второй половине XI в. в Киеве первые русские летописцы приступили к созданию истории Русского государства, среди разнообразных исторических источников, к которым они обратились, были и различные памятники материальной культуры.
На территории Киева, в различных его концах, в XI-XII вв. возвышалось немало огромных курганов, которые для киевлян той поры были уже памятниками далекого прошлого. Вблизи Печерского монастыря, в урочище, которое и во времена летописца называлось Угорским, находился курган, по-видимому, издавна слывший “Аскольдовой могилой”, а в самом центре Ярославова города, за церковью Ирины, выстроенной кн. Ярославом Владимировичем невдалеке от Софийского собора, был расположен другой курган, называвшийся “Диро[с. 11]вой могилой”. Как известно, урочище Аскольдова могила сохранилось в Киеве вплоть до наших дней, а поисками Дировой могилы с увлечением, хотя и безуспешно, занимались киевские археологи 30-40-х годов прошлого века.
Под
Передавая эту устную киевскую легенду о гибели Аскольда и Дира и о захвате города Олегом, пришедшим из далекого северного Новгорода, или Ладоги, летописец стремится подкрепить легендарный рассказ ссылкой на вещественные памятники, хорошо известные его современникам-киевлянам. По рассказу летописца, убитых князей
“несоша на гору и погребоша и на горе, еже ся ныне зовет Угорьское, кде ныне Олъмин двор; на той могиле поставил [Олма] церковь святаго Николу; а Дирова могила за святою Ориною” [Там же. Ср. Ипатьевскую летопись под тем же годом. Имя Олмы – строителя церкви Николы – упомянуто только в Ипатьевской летописи].
Языческие курганы, напоминавшие о далеких страницах древнейшей истории родины, привлекали киевского летописца не раз. Рассказав о смерти князя Олега и о погребении его на горе Щековице, летописец и в этом случае не преминул добавить: “Есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова” [Лавр. лет. 6420 (912) г.].
Для
подкрепления полулегендарных рассказов о деятельности первых русских князей
IX-Х вв. летописец ссылался на языческие курганы, сохранившиеся не только в самом
Киеве. На протяжении ста тридцати семи лет летописного повествования (с 882 по
Не только древние курганы привлекает летописец в качестве вещественных исторических источников для подтверждения своего рассказа. Широко пользуется он ссылками на древние городища и особенно часто на различные архитектурные памятники: укрепления, дворцы, храмы, привлекая их для подтверждения своего рассказа о различных событиях.
Повествуя под
“И приде Володимер Киеву с вой многи, и не може Ярополк стати противу, и затворися Киеве с людми своими и с Блудом; и стояше Володимер, обрывся на Дорогожичи, межю Дорогожичем и Капичем, и есть [с. 12] ров и до сего дне” [Лавр. лет. 6488 (980) г.].
Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о крепостных сооружениях, окружавших Киевский Подол в XI-XII вв., а об остатках заброшенных уже временных укреплений, сооруженных дружиной Владимира, подготовлявшейся к штурму Киева.
Повествуя под
Под
Памятники, увековечивавшие Корсунский поход, были воздвигнуты и в Киеве, на центральной площади столицы. Летописец не преминул привлечь их для подкрепления рассказа о разгроме Корсуни. Возвращаясь из похода домой, Владимир захватил из Корсупи не только “съсуды церковныя и иконы на благословенье себе”. По средневековой традиции, он забрал с собой в качестве трофеев различные монументы, стоявшие на площадях и улицах покоренного города, и украсил ими свою столицу: “Взя же ида [иды] медяне две капищи и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за святою Богородицею (т.е. за Десятинной церковью. – М.К.), якоже неведуще мнять я мрамаряны суща” [там же]. Таким образом, весь ход событий Корсунского дохода и крещения князя, изложенный на основе легенд, записанных летопис[с. 13]цем, подтверждается им ссылкой на целый ряд памятников, сохранившихся до XI-XII вв. как в Корсуни, так и в самом Киеве.
Наиболее
поздним примером подобных ссылок на архитектурные памятники является сообщение
о торжественном перенесении в
Наряду со ссылками на археологические памятники в прямом смысле этого слова излюбленным приемом летописца являются также попытки установить древнюю топографию частей города, его урочищ, сооружений, мест, где происходили те или иные события, с помощью сопоставления с современной для летописца топографией города, что для читателей XI-XII вв. делало места тех или иных исторических событий конкретными, а самые события более понятными. Так, местоположение древнего города Кия на горе летописец определял словами: “Седяше Кий на горе, идеже есть ныне увоз Боричев” [Лавр. лет., стр. 8].
Определяя территорию Киева времен Ольги, летописец говорит о нем: “Град же бе Киев, идеже ныне двор Гордятин и Никифоров” [Лавр. лет. 6453 (945) г.], а говоря о княжеском дворе в это же время, определяет его местоположение словами: “А двор княж бяше в городе, идеже есть ныне двор Воротиславль и Чюдин” [там же]. Другой княжеский двор, расположенный “вне града”, по словам летописца, находился “идеже есть двор деместиков за святою Богородицею” [там же]. Говоря о многоженстве Владимира, в рассказе о Рогнеде, посаженной на Лыбеди, летописец указывает, что место это находилось там “идеже ныне стоить сельце Предъславино” [Лавр. лет. 6488 (980) г.].
Повествуя под
Описывая
битву с печенегами в
Приведенные выше отрывки летописного текста свидетельствуют о том, что начиная с первых страниц Повести временных лет и вплоть до начала 70-х годов XI в. через летописное повествование красной нитью проходит устойчиво применяющийся прием своеобразной “научной аргументации”, [с. 14] как бы подтверждающей историческое или полулегендарное повествование ссылкой на разнообразные вещественные памятники далекого для времени самого летописца прошлого.
Сам по себе этот факт, не отмечавшийся, насколько нам известно, исследователями древнерусского летописания с необходимой полнотой, представляет значительный интерес как для характеристики работы древнерусского летописца, с одной стороны, так и для уяснения предыстории русской археологической науки, с другой. Необходимо отметить, что исследователи древнерусского летописания, характеризуя отдельные этапы его развития, указывали среди источников, откуда летописцы того или иного времени могли черпать свои материалы, фольклорные источники, упоминая иногда в числе последних и овеянные легендами “мемориальные урочища иди предметы”, в частности древние курганы, связанные с именами исторических деятелей [История русской литературы, т. I. М.-Л., 1941, стр. 262; ср.: М.Д.Приселков. История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940, стр. 41]. Однако эти упоминания имели обычно несколько случайный, эпизодический характер, в результате чего и самый прием летописной работы, привлекающий наш интерес, оставался невыясненным и терялся среди многих других особенностей труда летописца, которым исследователи древнерусских летописей уделяли основное внимание.
Если до настоящего времени оставалась невыполненной даже первичная задача систематизации интересующих нас “археологических экскурсов” древнерусского летописца, то вовсе неясным оставался вопрос о том, является ли прием аргументации с помощью привлечения вещественных памятников приемом, характеризующим какого-либо определенного летописца, или же это черта, свойственная древнерусскому летописанию вообще или хотя бы какому-нибудь его периоду.
Как установлено крупнейшими исследователями древнерусского летописания А.А.Шахматовым, М.Д.Приселковым, Д.С.Лихачевым и другими, Повесть временных лет – один из замечательнейших памятников высокой культуры Киевской Руси – является памятником далеко не однослойным.
В составе
Повести временных лет, прошедшей после ее создания печерским летописцем Нестором
около
Совершенно новое понимание, решительно отличавшееся и от концепции А.А.Шахматова, и тем более от трактовки М.Д.Приселкова, выдвинул в ряде своих работ по летописанию Д.С.Лихачев. Утверждая, что он лишь “продолжил наблюдения А.А.Шахматова”, внося в них “некоторые поправки” [Д.С.Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947, стр. 75] Д.С.Лихачев, в сущности, разрушил как фикцию реконструированный А.А.Шахматовым Древнейший свод, показав, что воссозданный трудами А.А.Шахматова Свод 1037-1039 гг. “отличается не большей цельностью, чём и сама Повесть временных лет” [там же, стр. 62]. Трудами Д.С.Лихачева было установлено, что не только вставки, переделки и дополнения, но и соединение идейно и стилистически разнородного материала характеризуют Древнейший летописный свод, реконструированный А.А.Шахматовым.
Расслоив Древнейшей свод А.А.Шахматова, Д.С.Лихачев доказал, что древнейшим пластом киевского летописания, “первым произведением по русской историю (как называл его сам автор, заменив термин А.А.Шахматова “Древнейший летописный свод”) было составленное при Ярославе “Сказание о распространении христианства на Руси”. Д.С.Лихачевым была глубоко раскрыта идейная и стилистическая основа этого произведения, вызванного подъемом политического самосознания русского народа и тесно связанного с другими явлениями литературы и всей культуры эпохи Ярослава Мудрого [там же, стр. 62-76].
Этот “первый труд по русской истории”, понимавшейся как церковная история по преимуществу, получил дальнейшее продолжение и развитие в деятельности печерских монахов-летописцев с начала 60-х годов XI в. После водворения в Киеве митрополита-грека, сменившего митрополита Илариона, летописная работа была продолжена в Киево-Печерском монастыре. Здесь первоначальное “Сказание о распространении христианства на Руси” получает дополнения, касающиеся светской, по преимуществу военной истории Руси. Здесь были введены в летопись народные сказания о первых русских князьях, о победах русского оружия и в значительной мере – события из жизни самого Печерского монастыря; здесь же в летописание был введен впервые хронологический принцип изложения по годовым статьям. По словам Д.С.Лихачева, “первое русское историческое произведение, созданное при Ярославе Мудром, разрастаясь добавлениями, сделанными к нему в Печерском монастыре, постепенно становится тем, что мы привыкли называть летописью” [там же, стр. 77]. Характеризуя этот начальный период русского летописания, связанный с Киево-Печерским [с. 16] монастырем, Д.С.Лихачев справедливо утверждал, что не только идейные черты древнейшего русского летописания – его публицистические тенденции, его учительный по отношению к князьям характер, его рассудительность и принципиальность, но и, по существу, все внешние особенности русского летописания – его связь с фольклором, с деловой речью, хронологический принцип изложения и т.д. – все это определилось уже здесь, в Киево-Печерском монастыре [там же, стр. 82].
Трудами А.А.Шахматова и М.Д.Приселкова было неоспоримо установлено участие в печерском летописании сподвижника Антония и Феодосия Печерских – Никона, которого Нестор в житии Феодосия называет “великим”, изображая за неустанной работой, “сидящу и строащу книгы”. М.Д.Приселков выдвигал остроумную гипотезу о том, что под монашеским именем Никона в Печерском монастыре продолжал свою глубоко патриотическую деятельность смещенный с митрополичьей кафедры Иларион [М.Д.Приселков. 1) Очерки…, стр. 181-184; 2) Нестор летописец. Пгр., 1923, стр. 22]. Яркая личная биография Никона позволяет раскрыть и объяснить многие черты киевского летописания той поры, когда последнее было сосредоточено в Печерском монастыре.
Взяв за основу “Сказание о распространении христианства на Руси”, Никон Печерский ввел в него устные предания киевского, новгородского, тмутороканского и северночерноморского происхождения, создав, по словам Д.С.Лихачева, “первую систематическую историю русского народа” [Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 90]. Именно Никон придал своему произведению ту форму летописи, которая легла в основу последующего развития древнерусского летописания.
К
первоначальным годам княжения Святополка, отмеченным резкими конфликтами с ним
Печерского монастыря, относится составление нового печерского летописного
свода, названного А.А.Шахматовым “Начальным сводом” [А.А.Шахматов.
Разыскания…, стр. 12 и сл.], а М.Д.Приселковым – “Сводом Ивана
Наконец,
около
К которому из перечисленных выше исторических пластов Повести временных лет, отражающих весьма различные этапы летописной работы в Киеве с середины XI до начала XII столетия, относятся приведенные выше экскурсы летописца в область вещественных, археологических памятников?
Необходимо прежде всего подчеркнуть, что приведенные выше ссылки летописца на различные древние памятники характеризуются чрезвычайной устойчивостью формулировок. Из восемнадцати ссылок на различные древние памятники в шестнадцати случаях летописец пользуется почти трафаретной формулой.
Рассказ о смерти и погребении Олега заканчивается словами: “Есть же могила его и до сего дни”;
рассказ о смерти и погребении Игоря – словами: “Есть могила его у Искоростеня града в Деревех и до сего дне”;
рассказ о смерти и погребении кн. Олега Святославича – словами: “И есть могила его и до сего дне у Вручего”;
рассказ о смерти кн. Святополка Окаянного – словами: “Есть же могыла его в пустыни и до сего дне, исходит же от нее смрад зол”;
рассказ о разгроме Святославом городов на Балканах – “яже стоять и до днешнего дне пусты”;
рассказ о городах уличей и тиверцев на Днестре – “и суть гради их и до сего дне”;
рассказ об укреплениях, созданных Владимиром под Киевом, – “и есть ров и до сего дне”;
рассказ о церкви Ильи, в которой клялись дружинники Игоря, – “я же есть над ручаем конець Пасынъче беседы и Козаре”;
рассказ о Корсунской церкви Василия, в которой крестился Владимир, – “и есть церки та стоящи в Корсуне граде, на месте посреди града, идеже торг деють Корсуняне”;
рассказ о корсунской палате, в которой жил Владимир, – “полата же Володимеря с края церкве стоить и до сего дне, а царицына полата за олтарем”; подразумевается также: “стоить и до сего дне”;
рассказ о церкви, построенной Владимиром в Корсуни, – “яже церкви стоить и до сего дне”;
рассказ о постановке в Киеве капищ и четырех коней – “иже и ныне стоять за святою Богородицею”;
рассказ о церкви в Тмуторокани, выстроенной Мстиславом, – “яже стоить и до сего дне Тьмуторокани”;
рассказ о
церкви Бориса и Глеба в Вышгороде, выстроенной Изяславом в
и, наконец, рассказ о санях кн. Ольги, сохранившихся в Пскове, – “и сани ее стоять в Плескове и до сего дне”.
Незначительно отличающийся с литературной стороны рассказ о погребении Аскольда и Дира вызван контекстом – “на той могиле (Аскольда, – М.К.) поставил (Олма, – М.К.) церковь святаго Николу (перед этим место могилы определялось словами: “кде ныне Олъмин двор”, – М.К.), а Дирова могила за святою Ориною”.
Повторяющийся неоднократно прием обращения к вопросам “исторической топографии” характеризуется также почти стандартной формулировкой.
Древ[с. 18]нее местоположение “города Кия” летописец определяет словами: “иде же ныне увоз Боричев”;
местоположение Угорского – “кде ныне Олмин двор”;
местоположение города Киева времен Ольги – “иде же ныне двор Гордятин и Никифоров”;
местоположение княжеского двора – “иде же есть ныне двор Воротиславль и Чюдин”;
местоположение другого княжеского двора – “иде же есть двор Демьстиков за святою Богородицею”;
местоположение двора варяга – “иде же есть церкви святая Богородица”;
место битвы с
печенегами в
местоположение села Рогнеды – “иде же ныне стоить сельце Предъславино”;
местоположение сельца Берестова (времени Владимира) – “еже зовуть ныне Берестовое”.
Общность обоих приемов доказательства, со ссылкой на источники, объективная убедительность которых была столь привлекательна для летописца XI в., дополняемая к тому же тождественностью литературного оформления этих ссылок, склоняет нас к мысли о принадлежности интересующих нас “археологических экскурсов” в тексте Повести временных лет какому-то одному из авторов, работавших над созданием этого сложного летописного свода.
Для того чтобы вывести это предположение из категории историко-литературных догадок, необходимо обратиться к содержанию тех летописных статей, для которых характерны интересующие нас “археологические экскурсы”.
Работами А.А.Шахматова и М.Д.Приселкова было неоспоримо установлено, что ряд тмутороканских событий, случившихся в те годы, когда в Тмуторокани в добровольном изгнании проживал Никон, был внесен в киевскую летопись несомненно им. Никон же внес в летописный рассказ и ряд местных преданий, связанных с более ранними событиями в Тмуторокани, как например фольклорное сказание о поединке тмутороканского князя Мстислава Владимировича с косожским князем Редедею [А.А.Шахматов. Разыскания…, стр. 424 и ел. – М.Д.Приселков. История…, стр. 33. Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 87]. Таким образом, ссылка на сохранившуюся “и до сего дне” тмутороканскую церковь Богородицы, выстроенную Мстиславом, несомненно принадлежит Никону.
Использование фольклора Причерноморья привело Никона и к переработке более раннего рассказа “Сказания” о крещении Руси на основе так называемой “Корсунской легенды” [Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 87; Повесть временных лет, ч. 2. Комментарии Д.С.Лихачева. М.-Л., 1950, стр. 336; ср.: История русской литературы, т. I. М.-Л.. 1941, стр. 271]. Как справедливо отметил Д.С.Личахев, ряд фольклорных мотивов, свидетельствующих об устном происхождении легенды, которой воспользовался Никон, своей топографической точностью указывают на ее причерноморское происхождение [Д.С.Лихачев, ук. соч., стр. 87].
Действительно, в рассказе о корсунских событиях мы находим и описание деталей устройства водопровода в Корсуни из колодца, расположенного вне [с. 19] города, и точное указание, где стоят “до сего дне” церковь Василия, в которой крестился Владимир, палата, в которой он жил, и палата царицы. Упомянут как памятник корсунских событий и храм, выстроенный в Корсуни самим Владимиром, который также, по летописному рассказу, “стоить и до сего дне”.
Рассказ о корсунских событиях завершается сообщением о том, как в самом Киеве по средневековой традиции были установлены увезенные из Корсуни в качестве трофеев “иды медяне, два капища и четыре кони медяные, о которых летописец не преминул сказать своей привычной формулой “иже и ныне стоять за святою Богородицею”, добавив при этом, что “неведуще” считают их мраморными.
Таким
образом, все четыре ссылки Повести временных лет на архитектурные и
скульптурные памятники, стоящие “и до сего дне”, приводимые в подтверждение
рассказа об исторических событиях Корсунсного похода относятся к тому пласту
Повести, который несомненно восходит к Никоновскому своду
По мнению М.Д.Приселкова, Никон, располагая какой-то болгарской летописью, извлек из нее героические подробности войны Святослава с болгарами и греками [М.Д.Приселков. История…, стр. 33]. Таким образом, летописная ссылка на опустошенные Святославом греческие города, стоящие “до днешнего дне пусты”, т.е. превратившиеся в городища, также несомненно принадлежит Никону.
Небезынтересно
отметить, что в летописном рассказе о болгарском походе
Политически заостренные ссылки на современность (на “сей день”) были, по-видимому, излюбленным литературным приемом Никона. Так, услышав в Тмуторокани хазарское предание о том, что хазары когда-то брали дань с полян, но позже от нее отказались, Никон включил это предание в летопись. заметив при этом: “владеють Козары Русьстии князи и до дьнешнего дне” (вероятно, в Тмуторокани) [М.Д.Приселков. История…, стр. 33].
Рассказы,
повествующие о древнейших страницах истории самого города Киева, связанные с
событиями военной и политической истории Руси, с повествованием о деятельности
первых князей, принадлежат несомненно Никону. По мнению А.А.Шахматова,
рассказом о происхождении Киева начинался “Древнейший Киевский свод
Никон, по-видимому, и внес в летопись все рассказы о событиях древнейшей военной и политической истории Киевского государства, прочно вошедшие потом в последующую русскую историографию. Полагаю, что Никону Печерскому и принадлежат те страницы Повести временных лот, которые посвящены исторической топографии самого города Киева и некоторых других городов Киевской земли, со ссылками на различные памятники и исторические урочища, о которых была речь выше.
Только один
летописный отрывок из числа приведенных выше как будто бы противоречит
высказанному нами предположению. Еще А.А.Шахматов, а за ним М.Д.Приселков,
расчленяя разновременные пласты Повести временных лет, обратили внимание на
рассказ, читающийся под
По мнению
названных исследователей, это известие оказывается несогласованным с известием
под 907[явна помилка; треба 977] г., в котором после описания гибели Олега
Святославича было сказано, что его похоронили у города Вручего и “есть могила
его и до сего дне у Вручего”. Из этой кажущейся несогласованности известий 1044
и 907 [977] гг. делался вывод о том, что летописатель, который излагал предание
о смерти Олега Святославича, работал до
“летописец,
писавший о том, что Олег Святославич был похоронен у Вручего, где могила его
есть “и до сего дне”, работал до
Действительно ли отмеченная тремя маститыми исследователями Повести временных лет “несогласованностью записей 907 [977] и 1044 гг. свидетельствует [с. 21] о том, что запись о погребении Олега и о могиле его у Вручего была сделана автором Древнейшего свода и не может быть отнесена к числу дополнений, внесенных Никоном?
Полагаем, что
никакой “несогласованности” между летописными записями 907 [977] и 1044 гг. в
действительности нет. Не следует забывать, что древнерусское слово “могила”
означает холм, курган, насыпь, а отнюдь не “захоронение”. Поэтому, описывая
события, связанные со смертью и погребением кн. Олега, Никон совершенно резонно
мог вспомнить существовавшую и в его дни высокую курганную насыпь у Овруча,
народным преданием связываемую и в это время с именем Олега Святославича, хотя
курган был уже разрыт и кости погребенного покоились в Десятинной церкви.
Добавим к этому, что известны достаточно многочисленные древние могилы
(курганы) – кенотафы (без захоронений), которые насыпались в память погибших на
чужбине. Несомненно они также назывались “могилами”. Из сказанного следует, что
известие об овручском кургане Олега нет особых оснований относить к древнейшему
пласту киевского летописания и более правдоподобно рассматривать его в связи с
другими летописными экскурсами в область археологических памятников, усматривая
в них характерный прием летописной работы составителя Свода
Разумеется,
предположение о связи этого приема с летописным творчеством Никона не исключает
возможности того, что последующие составители и редакторы Повести временных
лет, в частности Нестор Печерский, под прямым влиянием Свода
Современный исследователь, решающий задачи историко-археологического изучения древнего Киева, не может забыть огромного вклада, внесенного в дело изучения древнейшего долетописного периода истории города киевским летописцем второй половины XI в. Пытливый и ясный ум, глубокое сознание важности и ответственности задачи создания связной и правдивой истории своего народа, разносторонняя образованность и заостренная патриотическая направленность, умение связать славное прошлое своего народа с его блестящим настоящим – все это выдвигает Никона Печерского в разряд наиболее ярких и замечательных деятелей культуры Киевской Руси.
Нельзя не заметить ряда черт, тесно сближающих идейно-политическое содержание литературной деятельности Никона с основными идеями, за осуществление которых боролся несколькими годами ранее митрополит Иларион. Недаром возникала мысль о том, что Никон – это и есть удалившийся в монастырь Иларион.
Прославленный митрополитом Иларионом, как “град величьством сияющь”, древний Киев нашел своего первого историка и археолога в лице Никона. Ему – скромному печерскому летописцу – наша историческая наука обязана [с. 22] замечательной по своей целостности и правдивости реконструкцией облика древнейшего города, который для самого летописца был далеким историческим прошлым.
2. Древности Киева в описаниях путешественников XVI – XVII вв.
Величественные руины древних киевских храмов и монастырей, сохранившиеся среди мощных, хотя уже давно заброшенных земляных валов Верхнего города, не раз привлекали к себе внимание любознательных путешественников, с различными целями посещавших Киев в XVI-XVII вв.
Еще Сигизмунд Герберштейн, не бывавший лично в Киеве, но много слышавший о нем во время своих двух посещений Московии в 1517 и 1526 гг., писал:
“Киев – древняя столица Руссии. Великолепие и истинно царственное величие этого города доказывается самыми его развалинами и памятниками, которые видны в обломках. И поныне еще на соседних горах (разрядка наша, – М.К.) заметны следы разоренных церквей и монастырей” [С.Герберштейи. Записка о московитских делах. Введение, перевод и примечания А.И.Малеина. СПб., 1908, стр. 165].
Чтобы понять
это известие и некоторые последующие, нужно иметь в виду, что в литовский и
польский периоды жизнь города была сосредоточена в основном на Подоле. Киевский
Подол после монгольского разгрома Верхнего города в декабре
Почти в тех
же выражениях описывал руины Верхнего Киева Александр Гваньини, веронец, долгое
время служивший в польском войске. В своем “Описании Сарматии”, опубликованном
в
“Киев – древнейший и обширнейший город, обнесенный деревянными оградами, некогда столица всей России, расположенная у славнейшей реки Борисфена, отстоит от Вильны на сто двадцать миль польских. О прежнем великолепии и истинно царственном виде города свидетельствуют самые развалины и памятники, расположенные на пространстве шести миль. Доселе на соседних холмах виднеются следы церквей, монастырей и опустевших зданий” [Sarmatiae Europae descriptio, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Moschoviae Tartariae que partem complecitur. Alexandri Guagnini Veronensis, Equitis aurati Bernardum. Albinium, 1581. Русский перевод отрывка о Киевском палатинате см.: Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 1874, отд. II, стр. 12].
С большой
любознательностью к киевским древностям отнесся Эрих Ляссота, ездивший в
“Киев, – писал Э. Ляссота, – с древних времен был знаменитой столицей особого княжества и имел собственных князей, которые назывались царями, или князьями, из роду нынешних великих князей русских или московских. Киев был очень укреплен на обширном пространстве и украшен великолепными церквами и зданиями, общественными и частными, как можно судить об этом по древним развалинам, равно и по валу, охватывающему город и простирающемуся, говорят, на девять миль в окружности” [Tagebuch der Erich Lassota von Steblau. Halle, 1866. Русский перевод см.: Сборник материалов…, стр. 16].
Э.Ляссота считал, что древний город некогда был расположен “там, где видны развалины”, отличая его от “нынешнего города, построенного внизу, в долине на берегу Днепра”. Этому древнему городу на горе Э.Ляссота уделил основное внимание. В “Дневнике” подробно описан сильно обветшавший, по словам Э.Ляссоты, Софийский собор, собор Михайловского Златоверхого монастыря, Золотые ворота и руины храма неподалеку от Софии, названного Ляссотой церковью Екатерины. Э.Ляссота записал много различных легенд, связанных с древними памятниками Киева [там же, стр. 16-21].
Официальные
польские историки XVI-XVII вв. также уделяли некоторое внимание Киеву,
вспоминая его блистательное прошлое и подчеркивая незначительную роль города в
ряду городов Речи Посполитой. Так, королевский секретарь, дипломат и историк
Рейнольд Гейденштейн в сочинении о современной ему польской истории, упомянув
при описании событий
“За несколько веков, – писал Р.Гейденштейн, – князья киевские были владыками всех России, как той, которая теперь зовется Москвою, так и той, которая доселе зовется Русью. Властвовали князья до моря Черного и Дуная. Столицею их был Киев. Когда он был построен, как давно существует, не достигает ли, быть может, времен Колхиды и Енея, неизвестно; закрыла все дальняя старина и равнодушие историков. Остались, однако, памятники прежнего величия: стена кругом города, а в ней ворота старинной архитектуры и столь высокие, что две повозки, поставленные одна на другую, не достигают их вершины” [Rajnolda Heidenstejna, sekretarza krółewskiego, Dzieje Polski od smierci Zygmunda Augusta. Ksiąg XII, z łacińskiego przetlomaczył Michal Gliszczyński, zyciorysem uzupelnil Włodzimierz Spasowicz. Petersburg, 1857. Русский перевод см.: Сборник материалов…, стр. 23].
Описывая развалины древних храмов Верхнего города, Р.Гейденштейн с особым восхищением говорит о руинах св. Софии, сожалея о ее жалком состоянии.
“В самом городе, – писал он, – немало уничтоженных храмов, которые все были греческого обряда. Остался доселе один из них – св. Софии, но и то в таком жалком виде, что богослужение в нем не совершается. Должно быть, оп стоил огромных сумм. Еще и теперь видны следы огромности и пышности” [Сборник материалов…, стр. 23-24]. [с. 24]
Р.Гейденштейн, как и Ляссота, считал древним лишь Верхний город, огромные валы и стены которого, по его мнению, свидетельствовали, “что город, должно быть, когда-нибудь был очень многолюден и велик” [там же]. Деревянный замок на Киселевке, господствовавшей в XVI в. над Подолом, по мнению Р.Гейденштейна, даже не стоит названия замка [там же].
Автор “Описания Украины”, опубликованного во Франции в 1640 [? 1650 ? 1660] г., военный инженер польской армии В.Боплан также посвятил несколько страниц древностям Киева. Автор называет Киев “одним из древнейших городов европейских”, доказательством чего считает “следы прежних окопов его, развалины церквей и древние гробницы государей” [Description d'Ukraine, qui sont plusieurs provinces du Royame de Pologne… par ie Sieur de Beauplan. A Rouen, 1660. Русский перевод см.: Сборник материалов…, стр. 44]. Как и его предшественники, Боплан признает древним лишь город на горе.
“Между горой
и Днепром (т.е. на Подоле, – М.К.) лежит, – по его словам, – новый Киев – город
малолюдный, заключающий в себе от 5 до 6 тысяч жителей… обнесенный деревянными
стенами с башнями и окопанный ничтожным рвом в
В.Боплан имел, по-видимому, весьма приблизительные сведения о времени древних памятников Киева. Так, описывая развалины Десятинной церкви (ошибочно названные храмом св.Василия), Боплан сообщал о греческой надписи, вырезанной на полуразрушенных стенах храма, по его мнению, “более нежели за 1400 лет”, т.е. в первых веках нашей эры [там же, стр. 44].
С восхищением Боплан описывал храм Софии.
“Вид его, – по словам автора, – прекрасен, с которой стороны па него ни посмотришь; стены его украшены мозаическими изображениями и картинами, составленными из разноцветных, блестящих подобно стеклу камешков, столь искусно подобранных, что эти картины трудно отличить от живописных” [там же, стр. 44-45].
Подробнейшие описания древних киевских храмов и монастырей, сопровожденные наивными и достаточно невежественными экскурсами в область древней истории города, оставил Павел Алеппский, сопровождавший антиохийского патриарха Макария в его путешествии по России и Украине [Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Перев. с арабского Г.Муркоса, вып. II. М., 1897, стр. 42-80]. Как и другие путешественники, посещавшие Киев в XVII в., Павел Алеппский считал древним только Верхний город. По его мнению, “в долину, на низменность на берегу великой реки Днепра” город был перенесен лишь тогда, когда покоренный врагами Верхний Киев “с течением времени разрушился” [там же, стр. 74]. [с. 25]
Не менее, чем
величественные руины древних киевских храмов, путешественников XVI-XVII вв.
привлекали лаврские пещеры. Наслушавшись рассказов печерских
монахов-проводников по пещерам, некоторые посетители пытались и от себя
добавить различные догадки в объяснение чудесных подземелий. Польский ученый
Андрей Целларий, ссылаясь на советника курляндского герцога Лаврентия Мюллера,
в своем обширном “Описании Польши”, опубликованном в Амстердаме в
“та их часть, которая проходит под самым течением Днепра во всю его ширину, имеет литые своды, из чего можно заключить, сколько труда и сколько издержек потребовалось для подобного сооружения и сколь велико было прежнее великолепие Киева” [Сборник материалов, стр. 95].
Главными строителями этих переходов Целларий считал итальянских купцов.
Другой поляк,
Станислав Сарницкий (
В
Гербиний опровергал распространенное мнение о том, что пещеры тянутся под руслом Днепра и простираются до Чернигова, Смоленска, Москвы и Печоры. Невероятным считал он и уверения некоторых своих предшественников о том, что пещеры русских выложены медью. “Где взять столько меди, – восклицает он, – чтобы выложить ею пещеры, простирающиеся на 100 немецких миль. Удивляюсь ученым мужам !”.
Много
внимания уделяли лаврским пещерам и киевские ученые монахи XVII в. В
В книге приведено много исторических данных о Печерском монастыре, в частности, дано топографическое описание ближних и дальних пещер с при[с. 26]ложением их планов. Приведены также надписи с надгробий, существовавших в то время [Τερατούργημα, lubo czuda, ktora była tak w samym swiętoczudotwornym monastyru Pieczarskim Kijowskim, jako у w obudwu swiętych Pieczarach, w ktorych po woli Bożey błogosłowieni oycowie Pieczarscy pozywszy, у cieżary ciał swoich złożyli. Wiernie у pilnie teraz pierwszy raz zebrano у swiatu podane przez w. oyca Athanasiusa Kalnofoyskiego, zakonnika tego S. monastyra Pieczarskiego. Z drukarni Kijowo-Pieczarskiey. Roku P. 1638].
По вопросу о времени возникновения лаврских пещер высказывались различные мнения.
Боплан (
3. Первые попытки научного изучения киевских древностей
В первой
половине XVIII в. древности Киева, как и вообще культура древней Руси, не вызывали
особого интереса. Найденный в
В
“чтобы изо
всех городов через губернские канцелярии по тем запросам прислать в Академию
наук требуемые известия с крайнею исправностью и с возможным поспешением, дабы
полезное и нужное сие произведение не имело ни малейшей остановки)” [Описание г. Киева, составленное Киевской губернской
канцелярией в
Вопросы, на которые по требованию Сената должны быть присланы ответы, были весьма разнообразны, охватывая не только природные условия, экономику, этнографию, но и историю городов и районов. Так, например, Сенат предписывал: “26. Назначить, где есть старых городов развалины, или городища, в каких состоят остатках и признаках и как их называют;…29. В городах, где есть летописи, прислать с них верные копии при географических известиях для исто[с. 27]рии российской” [Описание г. Киева…, стр 113-114]. Предлагалось также ответить, “город чем огражден – каменною стеною или земляным валом, полисадником или рвами; причем показать меру их окружности, вышины, глубины; цело ли оное ограждение или нет” [там же, стр. 112].
Сохранившееся
в Архиве Киевского губернского правления “Описание Киева”, составленное в
“Старый город Киев огражден земляным же валом и рвами и называется старым потому, что оной заведением своим старее Киево-печерской крепости; а нижний город Киев же называется нижним по положению, яко на нижнем и раздолистом месте; и оной нижний город Киев огражден палисадником; и то ограждение около помянутных городов состоит в целости. А в котором году, от кого и для чего оные городы построены, о том в Киевской губернской канцелярии известия не имеется” (разрядка наша, – М.К.) [там же, стр. 117].
Неведение в вопросах истории города простиралось до того, что губернская канцелярия откровенно признавалась:
“А что оной город верхний давно был от татар и других народов осаждаем и разоряем, о том с происходимого в народе слуху известно; но когда именно и от кого те разорения чинимы были, неизвестно” (разрядка наша, – М.К.) [там же, стр. 117-118].
Немудрено, что на вопрос о наличии развалин старых городов или городищ канцелярия сообщала, что
“при Киеве старых городов оставшихся развалин и городищ и никаких признаков ныне почти но видно, кроме что по народной молве над рекою Лыбедью было не малое жилье, также близ Киево-межигорского монастыря на горе был князя Владимира двор, которое место называется и поныне Вышгород” [там же, стр. 140].
В 80-х годах XVIII в. в связи с подготовкой путешествия Екатерины II “в полуденный край России” были предприняты разыскания о древностях Киева, через который императрица должна была проследовать в Новороссию и Крым.
В
Удовлетворить интерес к историческому прошлому древнерусской столицы, проявленный императрицей во время пребывания в Киеве, было, по-видимому, нелегко.
“С тех пор, как я здесь, – писала Екатерина из Киева в Петербург, – я все ищу: где город; но до сих пор ничего не обрела, кроме двух крепостей и предместий; все эти разрозненные части зовутся Киевом и заставляют думать о минувшем величии этой древней столицы” [Императрица Екатерина II. Письма и документы, хранящиеся в архиве дворца г. Павловска. Письмо вел. князю Павлу Петровичу от 6 II 1787. – Русская старина, т. VIII, 1873, ноябрь, стр. 671-672].
В
В
Наибольший интерес представляет последняя из них: здесь впервые не только перечислены, но и кратко описаны все основные архитектурные памятники Киева, столь привлекавшие когда-то внимание многочисленных путешественников XVI-XVII вв.; порой делаются попытки установить или аргументировать их древность и историческое значение.
“О древности сей церкви, – читаем мы по поводу храма Василия, – удостовериться можно по старым оставшимся стенам кирпичным, необыкновенным в нынешние времена; но, к сожалению, сии стены так подмазаны известию, что ныне оных древних достойных примечания кирпичей видеть не можно” [Достопамятнейшие древности в Киеве. Киев, 1795 (цит. по 2-му изд., Киев, 1805, стр. 159-160)].
Отмечается как “примечания достойная” “мусия, или мозаик, толико лет в целости пребывающий” на стенах и сводах собора Софии [там же, стр. 162], и “истребленная долготою времени” “мусия” Михайловского Златоверхого монастыря [там же, стр. 165].
В
Впервые на это собрание рисунков обратил внимание Д.В.Поленов, письмо которого к М.П.Погодину с биографическими сведениями о сочинителе атласа К.М.Бороздине и описание рисунков, составляющих атлас его путешествия по России в 1809-1810 гг., были опубликованы в “Трудах” 1 археологического съезда в Москве [Тр. I AC в Москве (1869), М,, 1871, I, стр. 62-74].
К.М.Бороздин и
его спутники уделили серьезное внимание древностям Киева, в ту пору еще очень
мало известным. Несколько таблиц первой части альбома заняты очень тщательно
исполненными чертежами (планы, разрезы, фасады) наиболее прославленных
памятников древнего зодчества Киева (Десятинная церковь, Софийский собор,
Печерская лавра, церковь Спаса на Берестове), акварелями мозаик киевских
храмов, а также планами города и его окрестностей [Рисунки
и чертежи к Путешествию по России по высочайшему повелению ст. сов. К.Бороздина
в
Особого внимания заслуживает первая попытка создания плана-реконструкции древнего Киева, предпринятая К. Бороздиным на основе изучения летописей и некоторых других документов. Вот что писал в объяснение своей задачи сам составитель плана:
“Здесь сделано в первый еще раз покушение представить чертеж древнего Киева с окружностями; сей знаменитый город столь важное занимает место в древнем нашем бытописании, что давно уже нужно было издание подобного чертежа, без которого описание многих произшествий кажется не довольно ясным, а некоторых и совсем непонятным.
Свидетельство летописей, также бумаги, находившиеся в архиве Киевского магистрата, изустные предания тамошних жителей, соображенные с местным положением города, служили основанием к сочинению сего чертежа и к определению многих мест, теперь уже под прежними именами неизвестных. Тут означены, сколько возможно было, все почти места древнего Киева, встречающиеся в летописях, и при каждом из них поставлен тот год, в котором оно упоминается. Сомнительные же и определенные по одному только предположению отмечены от прочих вопросительным знаком (?). Для лучшей же ясности и сравнения к сему древнему чертежу приложен также чертеж и нынешних окружностей Киева” [Там же, текст к табл. 2].
К сожалению, кропотливая и достаточно тщательная работа К.Бороздина над планом-реконструкцией древнего Киева, как и весь альбом его ученого путешествия по России, остались неизданными и потому почти неизвестными для последующих исследователей исторической топографии Киева. [с. 30]
В самом конце
XVIII в. началась научная деятельность Максима Федоровича Берлинского
(1764-1848), по праву признаваемого первым киевским археологом. Будучи с
В
“Сей первый Ваш труд, – писал он автору, – подает мне много надежд, прошу вас наиубедительнейше продолжать оный… Я с Вами весьма в том согласен, что откроется истинная от того польза, если сличим план существующего Киева с разными первобытными его описаниями. Объясните, где какое здание стояло, какие были между ними улицы или сообщения, и старайтесь исследовать, где могли существовать те монастыри, церкви, терема, дворцы, дома, площади и урочища близ города, о которых только и памятников осталось, что они в летописях упомянуты” [В.С.Иконников. Опыт русской историографии, т. I, кн. 1. Киев, 1891, стр. 186].
Румянцев постоянно обращался к Берлинскому с различными просьбами и научными поручениями, которые последний с рвением выполнял. Увлеченный собиранием разнообразных источников по древней отечественной истории, Румянцев просил разыскивать,
“нет ли у кого в Киеве какой-нибудь древней монеты или вещи первобытных наших времен, а особливо если священная древняя грамота или летопись на пергаменте, хотя бы список с Нестеровой или другой летописи, лишь бы он был точно времен древних” [там же, стр. 187].
Берлинский высылал Румянцеву то “списки с разных относящихся до древностей российских статей”, то “медную монету, считавшуюся за Владимирову”, то “план Киева с обозначением древних урочища, то “копию греческой надписи на своде Софийского соборам, то древние синодики, среди которых был синодик Вышгородской церкви Бориса и Глеба, то рисунки только что открытых киевских древностей” [там же].
Получив от Берлинского план Киева, Румянцев писал ему:
“Сей труд Вам честь сделает и меня много утешит; но не теряйте из виду, что самые первобытные времена историй наших суть те, которые я бы желал видеть объясненными и дополненными; отыскивайте, пожалуйста, надгробные надписи вокруг и внутри развалин уничтоженных, самых древнейших, забытых церквейи монастырей, [с. 31] коих Вы так удачно в своей записке память возстановляете. Не пренебрегайте также самых древнейших диптиков и синодиков; в них могут находиться имена великих князей, супруг, детей и сродников, о которых, статься может, дошедшие до нас летописцы и вовсе умолчали” [В.С.Иконников, ук. соч., стр. 187].
Через Румянцева Берлинский познакомился с приезжавшими в Киев П.М.Строевым и П.И.Кеппеном, живо интересовавшимися киевскими древностями.
Главный труд
М.Ф.Берлинского – “Пространная история
города Киева с топографическим его описанием”, – законченный им еще
до
Первая часть книги, названная автором “исторической переченью”, представляет беглый очерк истории Киевской земли и города Киева, составленный по Стрыйковскому и Татищеву и дополненный самостоятельными, достаточно курьезными филологическими домыслами автора.
Значительно больший интерес представляет вторая часть книги – “показание достопамятностей”. Это подробное историко-топографическое описание трех существоваших в ту пору частей города: Печерска, Старого Киева и Подола. Автор интересуется вопросами о времени заселения этих частей города, их последующей судьбой и описывает замечательные здания, урочища, укрепления. Описания и топографические данные отличаются тщательностью и подкреплены ссылками на различные источники.
Особенную ценность представляет приложенный к книге план Киева, на котором отмечены различные урочища и здания, относящиеся к древнейшему периоду истории города. План Берлинского и поныне является серьезным подспорьем для изучения исторической топографии Киева.
М.Ф.Берлинский, с энтузиазмом изучавший древнюю историю Киева, отнюдь не ограничивался только письменными источниками; его внимание привлекали и разнообразные археологические памятники, открывавшиеся в ту пору. Отдельные археологические наблюдения, разбросанные в его “Кратком описании Киева”, свидетельствуют о серьезном внимании автора к этой категории источников. Характеризуя Андреевскую часть Киева, Берлинский писал:
“Сие отделение, меньшее прочих, занимающее возвышенную северную часть нагорной равнины, было первое жилище предков Киева, колыбель Российского княжения и древнейшая их резиденция. Нет места, где бы до известной глубины была целая земля; везде щебень, кирпичи, камни, части фундаментов, кости и другие остатки долговечного города” [М.Ф.Берлинский. Краткое описание Киева. СПб., 1820, стр. 62]. [с. 32]
Из письма
М.Ф.Берлинского к гр. Н.П.Румянцеву известно, что в
[О Турчаниновой, стяжавшей печальную известность ее “сокрушительными” раскопками на территории Михайловского Златоверхого монастыря, Берлинский писал как о “девице, с самых молодых лет единственно занимавшейся ученостью, имеющей вкус к познаниям древностей и искусств, упражняющейся в чтении отборных сочинений и всю жизнь свою (по смерти родителей) посвящающей на полезные изысканиям (В.Щербина. Первый киевский археолог М.Ф.Берлинский. КС, т. LV, Киев, 1896, декабрь, стр. 405).]
4. Киевские археологи 20—30-х годов XIX в.
До начала 1820-х
годов деятельность М.Ф.Берлинского, по-видимому, не встречала особенного
сочувствия и интереса со стороны киевского общества. Н.П.Румянцев, посетивший
Киев в
“В Киеве сердце сокрушается, видя, каковое там господствует нерадение к древностям нашим, никто ими не занят и всякий почти убегает об них разговора” [ЧОИДР, 1882, I, стр. 191].
К концу
первой четверти XIX в. положение кардинально изменилось. Подъем национального
самосознания, вызванный победоносным окончанием Отечественной войны
“Карамзин, – писал поэт, – наш Кутузов 12-го года, – он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в 12 годе” [там же].
Реакционная по своей идеологии “История Государства Российского” все же в какой-то мере удовлетворяла возросший интерес широких кругов русского общества к многовековой истории родины. Привлекая в изобилии документы различного характера – летописи, акты, свидетельства современников и пр., Карамзин, даже говоря о древнейших страницах русской истории, почти не обращался к вещественным, археологическим памятникам. Посвятив немалое [с. 33] количество страниц политической истории Киевского государства, повествуя нередко о событиях, развертывавшихся на площадях и улицах Киева, на княжих и боярских дворах древнерусской столицы, Карамзин почти не пытался привлечь, не только в роли полноценных источников, но хотя бы в качестве иллюстраций, древние памятники Киева. Тем не менее “История Государства Российского”, удовлетворяя возросший интерес русского общества к прошлому России, в известной мере послужила толчком к более широкому и углубленному изучению древностей Киева.
С конца
первой четверти XIX в. в Киеве развертывается активная археологическая
деятельность, результаты которой становятся достоянием отнюдь не только
ограниченного круга ученых историков и археологов, но и привлекают внимание
широких кругов русской интеллигенции. О возраставшем интересе к древностям
Киева ярко свидетельствует письмо А.С.Грибоедова. Проведя в Киеве в июне
“…Сам я в древнем Киеве; надышался здешним воздухом и скоро еду далее. Здесь я пожил с умершими: Владимиры и Изяславы совершенно овладели моим воображением; за ними едва вскользь заметил я настоящее поколение: как они мыслят и что творят русские чиновники и польские помещики, бог их ведает” [Из бумаг В.Ф.Одоевского. – Русский архив, 1864, вып. 7-8, стр. 810-811].
Стремясь
захватить пробудившийся в обществе интерес к историческому прошлому и направить
его по желательному для самодержавия руслу, царское правительство пыталось
взять инициативу по части археологических разысканий в свои руки. 20 июля
Возлагая руководство и направление археологическими разысканиями на органы высшей губернской администрации, бремя расходов, связанных с этими разысканиями, правительство Николая 1 охотно возлагало на плечи доброхотов – любителей старины.
“О раскрытии древностей достопримечательнейших и о поддержании их, – говорилось в “высочайшем повелении”, – войти в сношение с частными лицами и приличным образом просить их о содействии в сих полезных открытиях, поставляя в обязанность губернского и городового архитекторов, чтоб по мере открытия сих древностей, планы их и фасады аккуратно были составляемы” [Киевлянин, 1865, № 145 (9 XII)].
В
Н.П.Румянцев, говоря об этих трудах, называл Болховитинова “единственным путеводителем” при исследованиях киевских древностей. Эта оценка была явно завышена, ибо никакой попытки мало-мальски целостного исследования киевских древностей Болховитинов даже не пытался сделать. Оба упомянутых труда, как и его другие мелкие статьи, посвященные некоторым киевским памятникам, представляли не более, чем элементарные описания разнохарактерных документов, без какой-либо серьезной попытки раскрыть историческое содержание тех фактов, о которых сообщали эти документы. Еще М.П.Погодин, давая оценку ученой деятельности Болховитинова, справедливо называл его “статистиком истории”. По словам Погодина, Болховитинов,
“кажется, даже не жалел, если где чего ему не доставало в истории; для него было это как будто все равно. Что есть – хорошо, а чего нет – нечего о том и думать. Никаких рассуждений, заключений” [Москвитянин, 1842, № 8, стр. 255-256].
Гораздо
большее значение имела другая сторона деятельности Е.Болховитинова. Увлеченный
поисками различных письменных источников по древнейшей истории, он естественно
не мог не обратить внимания и на руины прославленных архитектурных памятников
Киева, которые пребывали в ту пору в полном забвении, если не считать
дилетантских попыток помещицы Турчаниновой произвести раскопки на территории
Михайловского Златоверхого монастыря. Посетивший Киев в
“Никогда бы я
не подумал, что она так брошена и презрена, как я ее нашел. Чудно ли, что храм
Владимира в таком низверженном состоянии, когда сам он без пощады растерзан?
Голова его в Лавре, часть его мощей в соборе, а весь он где? Никто не знает, не
искал, не любопытствовал. Мы скорее пустимся добывать кусок лавы из-под римских
развалин, нежели похлопочем о славе собственной нашей древности” [И.М.Долгорукий. Славны бубны за горами, или путешествие мое
кое-куда
По инициативе Е.Болховитинова были предприняты археологические раскопки Десятинной церкви, руины которой в ту пору в основной их части не были еще застроены.
Практическое осуществление этих раскопок Болховитинов поручил отставному чиновнику 5-го класса Кондрату Лохвицкому, для которого это поруче[с. 35]ние было началом многолетней, весьма энергичной расценочной деятельности в Киеве.
К.Лохвицкий,
как, по-видимому, и сам Е.Болховитинов, не имел ни малейших представлений о
задачах и методике археологических раскопок вообще и раскопок архитектурных
памятников в частности. Приступив к раскоп кам в октябре
О
методической стороне раскопок
Окрыленный успехами своих первых археологических открытий, К.Лохвицкий развернул энергичную раскопочную деятельность, охватывавшую все новые и новые районы древнего Киева, где, по его смелым, но порой совершенно необоснованным предположениям, должны были находиться руины различных памятников, упоминаемых в древних летописях.
Ссылаясь на
“высочайшее повеление об открытии древностей”, К.Лохвицкий в
Получив в том
же
В
Вскоре К.Лохвицкий раскопал почти полностью руины большого древнего храма, за которыми, с легкой руки исследователя, доныне закрепилось ничем не обоснованное наименование “Ирининской церкви”. План этой постройки, опубликованный вскоре, по фантастичности и полнейшей безграмотности не уступает плану Десятинной церкви, “снятому с натуры” тем же исследователем.
Еще в
В августе
Открывая руины различных построек, в атрибуциях их К.Лохвицкий не утруждал себя скрупулезными доказательствами, безоговорочно отожествляя их с теми или иными известными по летописному рассказу памятниками.
В июле
Несмотря на то, что методический уровень раскопок К.Лохвицкого был крайне низок, несмотря на поспешность, необоснованность и очевидный дилетантизм его заключений по вопросам атрибуции тех или иных обнаруженных раскопками памятников, деятельность К.Лохвицкого все же сыграла несомненно положительную роль в деле изучения киевских древностей. Значение раскопок К.Лохвицкого заключалось не только в том, что результаты их пробуждали интерес в достаточно широких общественных кругах к древнейшему прошлому России, но и в том, что они, несмотря на увлечения самого исследователя, к которым, кстати сказать, весьма скептически относились уже его более образованные современники (Е.Болховитинов, М.Берлинский), все же воочию показывали, какие огромные, до той поры совершенно не использованные возможности для изучения древнейшей столицы Руси скрывали в себе мощные культурные пласты киевской почвы, о чем предшественники Лохвицкого, в частности М.Ф.Берлинский, могли высказывать только предположения и догадки.
Сам Лохвицкий чрезвычайно высоко ценил свои археологические открытия и весьма раздражительно относился ко всякой попытке критического отношения к его работе. Когда в рецензии на книгу “Краткое историческое описание Десятинной церкви” опубликованный там план развалин храма по обмерам архитектора Ефимова был справедливо признан более точным, чем план Лохвицкого, последний разразился гневным ответом, в котором не только утверждал, что план Ефимова есть “мечтательный, выдуманный”, но и всячески пытался дискредитировать раскопки Ефимова [К.Лохвицкий. О плане древней Десятинной церкви. Галерея киевских достопримечательных видов и древностей, тетр. VI. 1857, стр. 40-42].
В черновых бумагах Лохвицкого сохранилось его письмо, адресованное одному из членов царствующей фамилии, в котором он просил исходатайствовать высочайшее повеление, которым раскрытие древностей в Киеве было бы “отдано непосредственно в полное его распоряжение” [Киевлянин, 1865, № 145 (9 XII)]. [с. 38]
5. Киевские археологи 30—40-х годов XIX в.
В конце
О начальной стадии деятельности Временного комитета современники отзывались скептически. Так, Е.Болховитинов писал Н.Н.Мурзакевичу: “Наша комиссия об отыскании древностей спит беспробудным сном, да и не умеет приняться” [Н.Н.Мурзакевич. Автобиография. СПб., 1886, стр. 120-121]. Несколько позже, в письме тому же адресату Болховитинов жаловался: “Комитет древностей описал, что прежде его открыто, а сам ничего не открыл” [там же, стр. 121]. Однако позднее, уже после смерти Е.Болховитинова (23 II 1837), Временный комитет все же начал проявлять некоторые признаки жизни.
В конце 30-х и в 40-х годах XIX в. активную раскопочную деятельность в Киеве развивал А.С.Анненков. Богатый орловско-курский помещик, отставной гвардии поручик А.С.Анненков за жестокое обращение со своими крестьянами “по высочайшему повелению” был выслан на жительство в Киев, где, по словам его биографов, решил заняться “делами благочестия”. Приобретя огромную усадьбу на территории Владимирова города, в непосредственном соседстве с усадьбой Десятинной церкви, Анненков возымел желание “реставрировать” древний храм, т.е., по тогдашним понятиям, выстроить новую церковь на развалинах древней. Занимаясь строительством новой церкви, Анненков проявлял в то же время далеко не бескорыстный интерес к богатейшей, в ту пору еще почти совсем девственной почве Киевского акрополя, на которой распо[с. 39]лагался не только вновь строящийся храм, но и огромная по площади усадьба Анненкова. Многочисленные находки золотых и серебряных вещей, обнаруженные при строительных работах 1820-30-х годов, поступали в большей части самому ктитору строящегося храма, но поскольку в строительстве церкви принимала активное участие и киевская митрополия и, в частности, глубокий интерес к работам проявлял сам митрополит Евгений (Болховитинов), кладоискательская деятельность Анненкова все же была под известным контролем. Находки, сделанные за этот период, стали, хотя и далеко не полностью, достоянием науки.
В
Откровенно
хищнический характер поисков в собственной усадьбе и усадьбе Десятинной церкви
Анненков маскировал “наукоподобными” раскопками на других территориях старого
города, где хозяйничать с той же степенью бесцеремонности к тому же было и
невозможно. В
В том же
Неудача
первой попытки не разочаровала Анненкова, и в следующем,
О масштабе и
характере более ранних раскопок Анненкова, произведенных им в его собственной
усадьбе, а также в усадьбе Десятинной церкви, известно из его ходатайства,
направленного в
“открывал землю, давно рытую, и по слоям оной следы в разных направлениях глубоких рвов и ям, а весьма много и мест погребов засыпанных, но ничего при всех тщательных поисках и усилиях не нашел из остатков древностей, кроме нескольких кусков красного гранита и древнего колокола коринфской меди, найденного в саду, против церкви Василия” [Письмо А.С.Анненкова киевскому генерал-губернатору Д.Г.Бибикову. – КС, T.XLV, Киев, 1894, апрель, стр. 152-155].
Наряду с
откровенно кладоискательскими раскопками Анненкова, производившимися
“иждивением” самого раскопщика, Временный комитет пытался, по-видимому, организовать
и более серьезные в научном отношении раскопки. В
В
“при Бибикове история с археологией поистине были модными науками в Киеве: ими увлекались и киевское чиновничество и киевский beau mond; ими волею-неволею увлекалось и польское дворянство. Бросились в запуски на поиски в крае памятников старины” [А.В.Романович-Славатинский. Жизнь Н.Д.Иванишева. СПб., 1876, стр. 209-210].
Несмотря на
существование Временного комитета для изыскания древностей в Киеве, Бибиков
решил передать в ведение вновь организованной Археографической комиссии и
археологические исследования в крае, которые должны были охватить все правобережные
губернии, а также Полтавскую и Черниговскую. Уже в
“собрать сведения и составить описание курганов в окрестностях Коростышева, и если владельцы оных пожелают доставить к тому средства, то некоторые из них раскопать” [О.И.Левицкий. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов (1843-1893). Историческая записка о ее деятельности. Киев, 1893, стр. 53-54].
В состав Комиссии
вводятся археологи и знатоки монументальных памятников. Так, в
В
Реализуя свои широкие планы, Комиссия осуществила ряд достаточно важных археологических исследований, в частности раскопки скифского кургана в окрестностях Киева, известного под именем “Перепетихи”, отчет о которых был опубликован в роскошно изданном первом выпуске “Древностей” [по-видимому, по настоянию Бибикова или из желания угодить ему в этом же выпуске, в виде дополнения к скифским древностям из “Перепетихи”, было издано несколько предметов, найденных в подмосковном имении Бибикова – селе Успенском].
Что касается
самого Киева, то намеченная Ставровским программа исследований была выполнена
лишь в незначительной части. Сам А.И.Ставровский завершил начатые еще Лохвицким
раскопки развалин так называемой “церкви Ирины”, а проф.Н.Д.Иванишев произвел в
Комиссия
намеревалась в
“изображать их историю, рассматривать их в архитектурном отношении, описывать развалины в настоящем их виде и находимые в них вещи, остатки древней живописи, древнюю церковную утварь и, наконец, строительные материалы” [О.И.Левицкий, ук. соч., стр. 59].
Наряду с изучением монументальных памятников Комиссия рекомендовала обращать преимущественное внимание “на изыскание древностей, объясняющих доисторическое существование народов, каковы курганы и другие остатки языческой древности”.
К сажалению, все эти благие намерения, свидетельствовавшие о серьезном и глубоком понимании задач, стоявших перед археологами в деле изучения Киева и его окрестностей, в большей части остались невыполненными или же не доведенными до конца. Нельзя не пожалеть об этом прежде всего потому, что в 40-х годах XIX в. территория Верхнего Киева подверглась коренной перепланировке и новой застройке.
“Быстро обновляющийся Старый Киев, – писал об этом времени М.А.Максимович, – выравнивается прямыми улицами, выстраивается новыми домами, на место ветхих лачужек и узеньких кривых переулков, которыми, как лабиринтом, покрылись древние развалины Старого Киева в века его бедности. Под этими очередными слоями заселений Старого города скоро нельзя будет распознать и тех немногих мест, на которых еще в 17 веке стояли обнаженные развалины русской древности. При тогдашнем обновлении Старого города обломки зданий разошлись на новое жилье, а остальная часть их покрылась новыми слоями земли – под садами, на них выросшими, и под домами, на них водворившимися” [М.А.Максимович. Обозрение Старого Киева. – Собр. соч., т. 2, Киев, 1877, стр. 120].
Киевские археологи 30-40-х годов прошлого века располагали такими возможностями в изучении древних памятников Киева, которыми уже никогда не располагали позже их продолжатели.
6. Киевские археологи 60—90-х годов XIX в.
Археологические увлечения 1840-х годов были недолговременны. Деятельность Киевской комиссии по разбору древних актов в дальнейшем сосредоточилась на археографических разысканиях, а археологические раскопки в 50-х годах XIX в. в Киеве совсем прекратились.
Некоторая активизация археологических работ в 60-х годах была связана не столько с деятельностью Комиссии, сколько с Музеем древностей и Минц-кабинетом при Киевском университете. В начале 60-х годов археологические исследования в Киеве производил хранитель Минц-кабинета Я.Волошинский. Его внимание привлекли сохранившиеся в большом количестве на территории самого города и его ближайших окрестностей древние курганы. К задаче изуче[с. 44]ния киевского некрополя Я.Волошинский относился серьезно, справедливо полагая, что господствовавшее до той поры невнимание к киевским курганам объясняется тем, что “вопросы о важности курганографических выводов для археологии и истории вообще лишь только в последнее время вошли осязательно на план науки” [Об археологических занятиях хранителя Минц-кабинета Волошинского. Краткий отчет по Университету св. Владимира за 1861-1862 уч. год. – Университетские известия, Киев, 1862, № 9, стр. 59].
В ответ на составленный Я.Волошинским план раскопок курганов в Киеве и его окрестностях, гр.Перовский, ведавший тогда археологическими раскопками в России, официально предупредил, что
“раскопки эти
должны иметь главнейшей целью отыскание примечательных предметов древности для
подведомственных ему музеев и что поэтому желательно, чтобы ассигнуемые для
сего суммы употреблялись предпочтительно на разыскания, доставляющие не одни
факты для ученых выводов, но и самые предметы древности” [Я.Волошинский. Киевские курганы. – ИОЛЕАЭ, т. XX, кн. 2,
вып.
“С подобною задачей, – сокрушенно писал Я.Волошинский, – никак невозможно было совместить возбужденный в предположениях моих вопрос о систематическом исследовании курганов” [там же, стр. 19].
Ограничительные задачи, поставленные гр.Перовским, при раскопках славянских курганов вызывали особые трудности и огорчения.
“Каков бы ни был успех раскопок, – жаловался Я.Волошинский, – уже ввиду самой программы, при оказавшейся бедности племени, населявшего затронутые мною местности, археологические поиски в них с подобною целью не могли достаточно вознаграждать ни трудов исследователя, ни самых скромных издержек. Скажу кратко: мне ни разу не довелось попасть на могильные остатки из благородного металла” [там же].
Летом
В середине
60-х годов прошлого века Киевским университетом были ассигнованы значительные
средства на археологические исследования в Киеве. Об этом свидетельствует
рапорт проф.Ставровского, направленный в
Начиная со второй половины 60-х годов и вплоть до конца XIX в. специально организованных археологических раскопок на территории Киева не проводилось. Лишь в связи с теми или иными земляными работами, связанными с постройкой домов, прокладкой водопроводных магистралей, работами по городскому благоустройству, то тут, то там неожиданно открывались археологические комплексы или различные случайные предметы. Нередко об этих открытиях любители и знатоки киевских древностей узнавали слишком поздно, когда памятник был уже частично поврежден, а то и полностью уничтожен. Иногда удавалось организовать более или менее систематическое наблюдение за производством земляных работ, тем самым случайные земляные работы превращались до известной степени в археологические раскопки.
[В.Б.Антонович. 1) Археологические находки и раскопки
в Киеве и в Киевской губернии в течение
2) О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве. – Тр. IV АС в Казани (1877), т. I, Казань, 1884, отд. 1, стр. 42- 43;
3) Раскопки у Трехсвятительской церкви в г. Киеве. – КС, XII, 1885, май, Изв. и зам., стр. 163-167;
4) О раскопках у Трехсвятительской церкви в марте
5) О раскопках в Обсерваторном переулке. – АИЗ, М., 1895, № 11, стр. 380-382.
П.Г.Лебединцев. О раскопке на Софийском дворе в мае
Раскопки на Верхней Юрковице в г. Киеве. – АЛЮР, т. I, Киев, 1899, июнь, стр. 75-79.
Н.Ф.Беляшевский. Курган-могикан на территории Киева. – АЛЮР, 1905, № 6, стр. 357-361.]
Отдельные любители киевских древностей и особенно коллекционеры-собиратели зорко следили за всеми земляными работами в городе, появляясь немедленно там, где насыщенная древностями киевская почва обещала какую-нибудь поживу. Так, в 70-х годах прошлого века за случайными находками охотился коллекционер Т.В.Кибальчич, иногда и сам производивший хищнического характера “раскопки” киевских курганов [Антропологическая выставка, т. II. М., 1878, Протоколы, стр. 97-98].
В 1880-90-х
годах весьма энергичную собирательскую деятельность развивал И.А.Хойновский,
пытавшийся даже наивно обобщать результаты своих поисков в достаточно
объемистых трудах [И.А.Xойновский. 1) Краткие
археологические сведения о предках славян и Руси, вып. I. Киев, 1896; 2)
Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною
В августе
Доклады, прочитанные на заседаниях съезда, посвященные отдельным вопросам исторической топографии города и отдельным архитектурным памятникам Киева, свидетельствовали о падении интереса к археологическим исследованиям города. Археологическая проблематика в них начисто отсутствовала. Киевским археологам не о чем было рассказать собравшимся на съезд представителям русской исторической и археологической науки.
О том же
самом свидетельствовал и XI археологический съезд в Киеве, состоявшийся
четверть века спустя, осенью
7. Изучение вопросов исторической топографии и архитектурных памятников Киева
Изучая историю археологических исследований древнего Киева, разумеется, нельзя ограничиться рассмотрением только тех исследований, которые были более или менее непосредственно связаны с археологическими раскопками. Начиная с 40-х годов XIX в. и вплоть до наших дней наряду с археологической проблематикой в узком смысле этого слова исследователи древнего Киева ставили и решали множество вопросов, связанных с проблемами исторической топографии города, с историей отдельных его частей и урочищ. Исследование вопросов исторической топографии города вызывало необходимость внимательного изучения древних летописей и других письменных источников, вплоть до актов XVII-XVIII вв., росписных списков, монастырских описей и т.п. Для решения различных вопросов исторической топографии широко привлекались сохранившиеся в различной степени древние архитектурные памятники.
Одним из
первых исследователей исторической топографии Киева был М.А.Максимович,
прибывший в Киев в
Невыгодно
отличается от небольших, но тщательных работ М.А.Максимовича капитальный
двухтомный труд Н. Закревского “Описание Киева” [Н.Закревский.
Описание Киева. Вновь обработанное и значительно умноженное издание с
приложением рисунков и чертежей, тт. 1-II. М., 1868], опубликованный
первоначально в
Крупнейшими
знатоками исторической топографии древнего Киева в конце XIX-начале XX в. были
профессора Киевской духовной академии Н.И.Пет[с. 48]ров и С.Т.Голубев. Труд
Н.И.Петрова “Историко-топографические очерки древнего Киева”, опубликованный в
Наряду с вопросами исторической топографии Н.Петров уделял серьезное внимание различным памятникам Киева: древним печатям и монетам, поступавшим в музеи Киева, фресковым росписям киевских храмов.
Работы С.Голубева, посвященные частным вопросам исторической топографии Киева, основаны на серьезном и тщательном изучении летописей и актовых документов XVI-XVIII вв. Опираясь на эти поздние документы, автор смог выяснить ряд вопросов исторической топографии древнего домонгольского Киева.
[С.Т.Голубев. 1) Историко-топографические изыскания и заметки о древнем Киеве. – ТКДА, Киев, 1899, декабрь, стр. 574-599; 1904, декабрь, стр. 668-692;
2) О древнейшем плане г.Киева
3) Историко-топографичеекое исследование о древнем Киеве. – ЧИОНЛ, кн. XIV, Киев, 1900, отд. I, стр. 23-24;
4) Спорные вопросы о древнейшей топографии Киева. Киев, 1910]
Необходимо подчеркнуть, что все перечисленные выше труды по исторической топографии Киева в лучшем случае представляли собой тщательные сводки разрозненных фактов, далеко не всегда прошедших к тому же через серьезную источниковедческую критику. Ни один из названных выше исследователей даже не пытался поставить какие-либо вопросы, связанные с социальной характеристикой тех или иных районов города, раскрыть глубокое историческое содержание тех общественных процессов, более или менее непосредственным отображением которых являлись разнообразные памятники Киева, о которых шла речь. Эти памятники рассматривались обычно лишь как топографические вехи для воссоздания формальной схемы древнего плана города.
При отсутствии интереса к основным историческим процессам развития города ожесточенные дискуссии по различным частным, порой малозначительным вопросам исторической топографии Киева велись, между Н.Закревским и М.Максимовичем, Н.Петровым и С.Голубевым на протяжении десятилетий.
Большое внимание исследователей издавна привлекали древние архитектурные памятники Киева. Как отмечалось выше, значительный интерес к руинам древних архитектурных памятников Киева был характерной чертой археологических исследований 20-40-х годов прошлого века. Наряду с раскопками развалин древних храмов уже с начала XIX в. большой интерес вызывали и постройки, сохранившиеся как в самом городе, так и в его пригородах. Памятники эти в результате разновременных реставраций дошли до нас в весьма искаженном виде и вызывали необходимость тщательного архитектурно-археологического исследования. [с. 49]
Уже в изданиях конца XVIII в., посвященных “достопамятностям” Киева, перечислялись основные архитектурные памятники города. М.Ф.Берлинский, М.А.Максимович, Н.Закревский, Н.И.Петров и С.Т.Голубев в своих работах также уделяли архитектурным памятникам Киева значительное место. Однако архитектурные сооружения интересовали этих исследователей не столько как памятники древнего зодчества, сколько в качестве наиболее точно локализуемых топографических вех при реконструкции плана древнего Киева и его отдельных частей.
В 70-х годах
XIX в. киевские архитектурные памятники привлекли внимание историков русского
зодчества. Л.Даль в “Историческом исследовании памятников русского зодчества”,
печатавшемся в
В
“Археологическом обзоре киевских древностей”, опубликованном в
“В настоящее время эти памятники, – писал он, – имеют вид разновременного, разнохарактерного смешения. Подобные памятники искусства ставят исследователя в затруднительное положение; при этом невольно рождается вопрос: какие первоначальные были формы этих памятников, что сохранилось в них древнего и что новое, какие признаки изменений того или другого века и пр.” [там же, стр. 2]
В. Прохоров считал, что разрешение этих вопросов, непосильное какому-нибудь одному исследователю, должно быть предоставлено “соединенным силам археологического съезда” [там же].
Напомним, что
именно эти вопросы и были предложены к обсуждению на III археологическом
съезде, состоявшемся в Киеве в августе
“Что именно осталось от первоначального здания древних киевских церквей: Васильевской, Софийской, Златоверхо-Михайловской, Великой Лаврской, Выдубицко-Михайловской, Спасо-Берестовской, Троицко-Кирилловской?
Сохранилась ли и насколько церковь Иоанна Предтечи, упоминаемая в Патерике Печерском?
Древней ли постройки, и если древней, насколько уцелели: Троицкая на св.воротах лаврских и Успенская на Подоле?
Какие (судя по остаткам древних [с. 50] киевских церквей) отличительные черты киевского архитектурного стиля Х-XII вв.?
По какому плану строились киевские церкви того времени, какая их кладка, фасад, формы кровельные, орнаментация?” [Тр. III АС в Киеве (1874), т. I, Киев, 1878, стр. IV-V]
Энергичная деятельность по изучению памятников киевского зодчества, которую проводил в 60-80-х годах прошлого века П.Лашкарев, в основном и была направлена на решение перечисленных выше вопросов. П.Лашкарев, внимательно изучая кладку древних киевских построек, пытался выявить из-под разновременных напластований первоначальные части наиболее прославленных киевских сооружений [Печатавшиеся в различных киевских изданиях 1860-80-х годов статьи П.А.Лашкарева были позже переизданы автором в книге “Церковно-археологические очерки, исследования и рефераты” (Киев, 1898)]. Результаты этих первичных архитектурно-археологических исследований памятников позволили П.Лашкареву сделать попытку обобщающей характеристики киевского зодчества Х-XIII вв. [П.Лашкарев. Киевская архитектура Х-XII вв. Тр. III АС в Киеве (1874), т. I, Киев, 1878, стр. 263-282 = П.Лашкарев. Церковно-археологические очерки, исследования и рефераты. Киев, 1898, стр. 125-159] П.Лашкарев считал, что подмеченные им особенности техники кладки киевских зданий древнего периода характеризуют весь домонгольский период киевского зодчества в целом – от конца Х до середины XIII в. Эта глубоко ошибочная предпосылка была причиной важнейших ошибок П.Лашкарева в вопросах датировки памятников. Тем не менее архитектурно-археологические исследования П.Лашкарева сыграли несомненно крупную роль в деле изучения киевского зодчества.
Тщательным кропотливым изучением ряда памятников киевского зодчества занимался П.Лебединцев, многочисленные работы которого, печатавшиеся в 70-90-х годах прошлого века, как и работы П.Лашкарева, позволили выяснить немало темных вопросов, связанных с различными памятниками древнего киевского зодчества.
С начала 1890-х годов над мозаиками и фресками киевских храмов работали Н.П.Кондаков [И.И.Толстой и Н.П.Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. IV. Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. СПб., 1891; Н.П.Кондаков. О фресках лестниц Киево-Софийского собора. – ЗРАО (нов. сер.), т. III, вып. 2, СПб., 1888, стр. 287-306+4 табл.], Д.В.Айналов и Е.К.Редин [Д.В.Айналов и Е.К.Редин. Киевский Софийский собор. Исследования древней живописи – мозаик и фресок собора. – ЗРАО (нов. сер.), т. IV, СПб., 1890, стр. 231- 381 и отдельно – СПб., 1889], а несколько позже ученики Д.В.Айналова – В.К.Мясоедов [В.К.Мясоедов. Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве. – ЗОРСА, т. XII, Пгр., 1918, стр. 1-6] и Н.А.Окунев [Н.А.Окунев. Крещальня Софийского собора в Киеве. – ЗОРСА, т. X, Пгр., 1915, стр. 113-137]. Работа последнего, по[с. 51]священная крещальне Киевской Софии, образцовая в отношении методики архитектурно-археологического исследования памятника, во многом предопределила дальнейшие исследования Софии.
8. Раскопки В.В.Хвойки в усадьбе М.Петровского (1907 – 1908 гг.)
Несмотря на несомненный упадок интереса к археологическим исследованиям Киева во второй половине XIX в., особенно заметный по сравнению с энергичной раскопочной деятельностью киевских археологов 20-40-х годов XIX в., к концу столетия все же накопилось весьма значительное количество разнообразных материалов, наполнивших собрания частных и государственных музеев Киева и отчасти попавших в музеи Петербурга и Москвы.
Материалы эти были крайне плохо изучены и систематизированы, исторически мало и слабо комментированы. Методика археологических исследований, осуществлявшихся в основном любителями-дилетантами, стояла на крайне низком уровне. Выше отмечалось, что нередко “раскопки” превращались в откровенное хищническое кладоискательство. Все это в значительной мере обесценивало добытые в ту пору многочисленные и разнообразные памятники.
Археологическое исследование Киева, развивавшееся до начала нашего века как замкнутое вещеведение, было оторвано от основных путей развития исторической науки; археологические источники расценивались историками не больше, чем любопытные иллюстрации к тем или иным уже сложившимся главным образом на основе письменных источников концепциям. Неисчислимые богатства разнообразных археологических источников по древнейшей историйи русского города, по истории городского ремесла, по истории городской культуры оставались почти вне поля зрения историков XIX в.
В 1907-1908 гг. в усадьбе доктора М.Петровского, расположенной на территории древнейшей части Верхнего города, В.В.Хвойка обнаружил ряд интереснейших комплексов, позволивших восстановить облик древнего Киева.
Еще в 1890-х годах В. В. Хвойка занимался обследованием и раскопками курганов, расположенных на взгорьях вдоль Кирилловской ул. К сожалению, результаты этих раскопок были опубликованы исследователем предельно кратко [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена (по раскопкам). Киев, 1913, стр. 53-57]. Поскольку отчеты о раскопках и полевая документация их не сохранились, весьма интересные результаты их остаются поныне почти недоступными.
Идея раскопок в усадьбе М.Петровского возникла, по-видимому, случайно. Осматривая обрывы киевских гор в поисках следов первобытного человека, В.В.Хвойка заметил в обнажениях по склону верхней части усадьбы М.Петровского остатки древних фундаментов, сложенных из красного кварцита. Это [с. 52] послужило толчком для пытливого и неутомимого исследователя, ранее увлеченного изучением Кирилловской палеолитической стоянки и “трипольских площадок”, серьезно заняться археологическими раскопками древнего Киева.
Несмотря на крайнее несовершенство методики раскопок В.В.Хвойки, особенно в отношении фиксации самого процесса археологических исследований, несмотря на затруднительные условия, в которых протекали раскопки, проводившиеся в саду частновладельческой усадьбы, хозяин которой ставил ряд ограничительных условий, несмотря на то, наконец, что работы производились на частные скудные средства, результаты раскопок были поистине блестящи и неожиданны.
Открытые в 1907-1908 гг. в центре древнего Киева остатки разрушенных княжеских дворцов, жилищ, многочисленных ремесленных мастерских, древних погребений и пр. и пр. вызвали живой интерес в широких кругах общественности и впервые привлекли внимание историков и археологов всей страны [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 63-75. Многочисленные информации столичной и киевской прессы давались неоднократно в сводках “Археологической хроники”, печатавшейся в качестве “Прибавлений” к “Известиям Археологической комиссии”. См.: Прибавл. к вып. 20, 26, 27, 31 и др. На раскопки в Киеве откликнулись и неспециальные журналы, см. статью: А.Савенко. Древнейший киевский “город” и остатки дворцов великокняжеской эпохи. – Исторический вестник, 1909, март, стр. 1176-1185].
Участники XIV
археологического съезда в Чернигове, осмотрев осенью
[XIV археологический съезд постановил ходатайствовать о
приобретении усадьбы М.Петровского в государственную собственность. В
9. Раскопки Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева (1908 – 1914 гг.)
Блестящие
результаты раскопок в усадьбе Петровского послужили толчком к организации
археологических работ значительно более крупного масштаба по широко задуманному
плану. В декабре
Проект Н.П.Кондакова был принят в Академии наук сочувственно. Первоначальное предположение организовать раскопки под руководством Отделения русского языка и словесности встретило, однако, сопротивление со стороны Археологической комиссии, справедливо считавшей, что дело археологического изучения Киева является ее прямой обязанностью и правом. В результате ведомственной борьбы организация раскопок в Киеве была возложена на Археологическую комиссию с ассигнованием специальных государственных дотаций на эти работы, сроком на 10 лет.
Уже летом
Раскопки
Археологической комиссии производились с 1908 по 1914 гг. В
В
В
Весной
В июне того
же года, в связи с работами по постройке дома в усадьбе Крестьянского банка
(Владимирская, д.10, ныне усадьба Киевского телеграфа), археологические
раскопки были перенесены на территорию этой усадьбы, расположенной неподалеку
от усадьбы Десятинной церкви, вследствие чего работы в усадьбе Трубецкого были
прерваны. В западной части усадьбы было обнаружено продолжение рва, часть
которого была открыта ранее в усадьбе Десятинной церкви, и ряд древних
погребений довладимировой поры [Археологические
исследования в Киевской губернии. – ИАК, Прибавл. к вып. 37 (Хрои. и библ.,
вып. 18), СПб., 1910, стр. 210-211]. Раскопки в усадьбе Крестьянского
банка были продолжены и в
Вызванные
непредвиденными обстоятельствами раскопки в усадьбах Трубецкого и Крестьянского
банка заняли основное внимание исследователя, в связи с чем работы в усадьбе
Десятинной церкви в
В
Наряду с
исследованием развалин дворца, раскопками
Раскопки в
усадьбе Десятинной церкви и в ее окружении продолжались и в 1913-1914 гг.,
когда удалось завершить исследование южной части дворцового здания, открытого в
1910-1911 гг. у южной стены храма, и обнаружить среднюю часть еще одного
древнего дворца на Десятинном проулке [OAK за
1913-1915 гг., Пгр., 1918, стр. 167; С.П.Вельмин. Раскопки
Археологической комиссии в г.Киеве в
В связи с постройкой большого здания в усадьбе Киевского губернского земства (на углу Владимирской и Ирининской улиц) здесь под руководством С.П.Вельмина были произведены новые раскопки небольшой части развалин храма, открытого в 30-х годах прошлого века К.Лохвицким [OAK за 1913-1915 гг., Пгр., 1918, стр. 167-168].
Исследование
территории усадьбы Десятинной церкви раскопками 1908- 1914 гг. было в основном
завершено. 19 июля
К сожалению, полевая документация раскопок 1908-1914 гг. (дневники, полевые описи находок, полевые обмеры и зарисовки) полностью бесследно пропали. В бывшем архиве Археологической комиссии удалось разыскать лишь несколько чистовых чертежей и значительное количество депаспортизованных негативов, часть которых была определена. Краткие отчеты о раскопках 1908, 1911, 1912, 1913-1915 гг. были напечатаны в Отчетах Археологической комиссии за соответствующие годы. О раскопках в 1909-1910 гг. известно лишь из кратких информации, печатавшихся в киевских и столичных газетах, а также из доклада С.П.Вельмина, прочитанного на заседании Киевского отделения Военно-исторического общества [С.П.Вельмин. Археологические изыскания Археологической комиссии в 1908 и 1909 гг. на территории древнего Киева. – ВИВ, Киев, 1910, кн. 7-8, стр. 121-153].
Несмотря на незавершенность работ Археологической комиссии и утрату важнейшей полевой документации, результаты раскопок 1908-1914 гг. имели огромное научное значение. В истории археологического изучения древнего Киева раскопки Д.В.Милеева были первыми археологическими исследованиями, производившимися на основе подлинно научной археологической методики, с исключительной тщательностью и целеустремленностью. По сравнению с раскопками Д.В.Милеева почти одновременные работы В.В.Хвойки поражают наивным дилетантизмом.
Раскопки Д.В.Милеева обогатили археологию Киева целым рядом превосходно исследованных древних архитектурных памятников, среди которых на первом месте должны быть упомянуты развалины древнейшей каменной постройки на Руси – Десятинной церкви, остатки княжеского дворца Х в. и руины неизвестного храма в усадьбе Митрополичьего дома. Результаты [с. 56] раскопок Д.В.Милеева, однако, отнюдь не ограничиваются изучением остатков архитектурных сооружений. Мастерски проведенные исследования субструкций восточной и северной частей Десятинной церкви позволили обнаружить не только ряд замечательных погребений, относившихся ко времени до постройки храма в конце Х в., но и следы засыпанного перед постройкой глубокого рва, некогда ограждавшего более древнее Киевское городище довладимировой поры.
Огромное
количество разнообразных находок из раскопок 1908-1914 гг., к сожалению, не
были изучены самим исследователем. Пролежав около 30 лет в подвалах бывш.
Археологической комиссии, а с
Наряду с
археологическими исследованиями Д.В.Милеева следует упомянуть также мастерские,
в методическом отношении, раскопки несохранившейся восточной части церкви Спаса
на Берестове, проведенные в
10. Археологические исследования Киева после Великой Октябрьской социалистической революции
Раскопки
Археологической комиссии, прерванные в
После Великой Октябрьской социалистической революции археологическое изучение Киева сосредоточилось в различных научных учреждениях Украинской ССР.
Всеукраинский
археологический комитет не уделял серьезного внимания делу археологического
исследования Киева. В
Характерной чертой деятельности ВУАК был отрыв всех археологических исследований на Украине, в частности исследований древнего Киева, от исследований по истории древнерусской культуры, которые велись в это же время советскими учеными за пределами Украины. Осуществляя “теоретические установки” М.Грушевского и других буржуазных националистов, некоторые деятели украинской археологии рассматривали историю Киевской Руси и Киева лишь как часть истории Украины, отрывая ее от истории русского и белорусского народов.
“Дослідження
київських пам'яток, – развязно заявлял в книге “Археологічна минувшина
Київщини”, изданной Украинской Академией наук в
Напомним, что речь идет об “украинском национальном творчестве” при создании Золотых ворот и Киевской Софии!!
В 1930-х гг.
небольшие раскопки на территории Киева проводил Киевский исторический музей. В
1932-1933 гг. были проведены раскопки на северо-западном уступе горы Киселевки.
Раскопки
В
Раскопки,
проведенные в
С середины 1930-х годов археологические исследования древнего Киева сосредоточились в Институте истории материальной культуры Академии наук УССР, позже преобразованном в Институт археологии АН УССР.
В 1936-1937 гг. в связи со строительством на территории бывш. Михайловского Златоверхого монастыря и в усадьбе Художественной школы (бывшей усадьбы М.Петровского и Десятинной церкви) институт провел там археологические раскопки достаточно крупного масштаба, результаты которых, однако, к сожалению, остались неопубликованными.
С 1938 по
Киевская
экспедиция осуществила раскопки на территории усадьбы Исторического музея
(бывшие усадьбы Десятинной церкви и М.Петровского) и примыкающей к ним усадьбы
Слюсаревского (1938-1939, 1948-1949 гг.) [М.К.Каргер.
1) Археологические исследования древнего Киева (1938-1947). Киев, 1950, стр.
45-140; 2) Розкопки на садибі Київського історичного музею. Археологічні
пам'ятки УРСР, III, К., 1952, стр. 5-13], на территории Михайловского
Златоверхого монастыря (1938, 1940, 1948- 1949 гг.) [М.К.Каргер.
1) Археологические исследования древнего Киева, стр. 8-44. 2) Новые данные к
истории киевского жилища домонгольского периода. – КСИИМК, XXXVIII, 1951, стр.
3-11], на различных участках Владимирова города (
В 1940, 1948-1949, 1951-1952 гг. крупные археологические исследования были проведены Софийским заповедником АА УССР под руководством автора [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 227-250].
С
Большое внимание за последние десятилетия привлекали немногие сохранившиеся памятники древнего зодчества Киева. Ценные наблюдения по вопросам реконструкции первоначального облика Киевской Софии сделал И.В.Моргилевский [I.В.Моргилевський. Київська Софія в світлі нових спостережень. – Київ та його околиця в icтopiї i пам'ятках. Київ, 1926, стр. 125-165], в течение многих лет изучавший архитектурные памятники древнего Киева и руководивший их обмерами.
Крупные реставрационные работы, проведенные в Софийском соборе, позволили выяснить некоторые ранее не решенные вопросы архитектурной истории памятника [М.О.Кресальний, Ю.С.Асеєв. Нові дослідження архітектури Софійського собору. – Архітектура i будівництво, К., 1955, № 1 (13), стр. 27-29]. Эти работы наряду с систематическими археологическими раскопками внутри храма [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 227-250] и новыми детальными обмерами [Работа архитекторов В.П.Волкова и Н.О.Кресального] дали возможность значительно уточнить реконструкцию первоначального облика Софии. [с. 60]
Серьезному историко-архитектурному исследованию подвергся в процессе реставрации собор Кирилловского монастыря [Работа архитектора Н.В.Холостенко; см. также: Ю.С.Асеєв. Архітектура Кирилівського заповідника. – Архітектурні пам'ятники, К., 1950, стр. 73-85].
Широкий размах археологических работ, развернувшихся в Киеве в последние два десятилетия, сочетался не только с новыми задачами исследования, но и с новой методикой раскопок. Вместо узких траншей, прорезывавших и разрушавших памятник, советская археология выдвинула требование вести раскопки широкой площадью с задачей охватить по возможности полностью изучаемый комплекс.
Но главной особенностью советских археологиеских исследований в Киеве была подчиненность раскопок задачам исторической науки, постановка и решение на археологических источниках больших исторических проблем. Новые раскопки позволили во многом переоценить, осмыслить, по-новому комментировать и результаты предшествующих исследований.
Основные этапы исторического развития города, облик его яркой своеобразной культуры раскрылись в результате исследований советских археологов с исключительной убедительностью и полнотой, недостижимой ранее при изучении одних письменных источников.
Коренным образом изменились по сравнению с дореволюционными археологическими исследованиями задачи и интересы советской археологии. Дореволюционные исследователи-археологи увлекались главным образом парадной стороной жизни города, их интересовали преимущественно пышные церковные постройки, клады драгоценных вещей, богатые погребения и т.п. Интересы и задачи советской археологии стали значительно шире и многостороннее, в частности, особый интерес в изучении древнерусских городов стали вызывать те районы, которые были заселены ремесленниками. Изучение этих районов позволило нарисовать правдивую картину жизни феодального города, основу этой жизни – городское ремесленное производство, тяжелу'ю подневольную жизнь городского ремесленного люда.
Надо сказать, что даже раскопки в центральном, наиболее аристократическом районе Киева, начатые еще в 1907-1908 гг. и продолжающиеся с исключительными результатами до последних лет, позволили установить, что вблизи от роскошных княжеских дворцов и блиставшей расточительной пышностью Десятинной церкви ютились небольшие землянки – мастерские княжеских холопов. Тем большие надежды в отношении изучения городского ремесла должны были вызывать окраинные районы города, сплошь заселенные “черным” городским людом. Под углом зрения именно этих задач и были развернуты широкой площадью раскопки в различных районах древнего Киева.
Особенное внимание советских археологов, изучавших древний Киев, было приковано к важнейшей проблеме происхождения города и к древнейшим периодам его истории. По весьма понятным причинам эти вопросы принадлежали к наименее разработанным историками, опиравшимися по преимуществу [с. 61] на письменные источники. В результате археологических исследований последних лет сказочный туман легенд, которым была овеяна древнейшая история города, постепенно развеивается. Раскопки на территории Владимирова Киева показали, что так называемый “город Владимира” не может быть признан древнейшим ядром Киева.
Раскопками было установлено существование в границах “города Владимира” более древнего городища, окруженного рвами и валами, за пределами которых находился огромный языческий курганный могильник IX-Х вв. Инвентарь многочисленных погребений древнего киевского некрополя позволил восстановить яркую картину жизни города в IX-Х вв.
Археологическими исследованиями было установлено существование на территории Киева нескольких (не менее трех) самостоятельных поселений VIII-Х вв. Легенда о трех братьях – основателях города, занесенная в древнейшую киевскую летопись, заключала в себе, по-видимому, отголоски реального факта существования нескольких самостоятельных поселений на территории Киева, лишь в конце Х в. объединившихся в один город.
Раскопки на территории города древнейших погребений, относящихся к III-IV вв. н.э., а также систематизация и изучение многочисленных кладов римских монет и случайных находок этого же времени позволили восстановить еще более древнюю страницу истории города. Можно считать несомненным наличие на территории Киева нескольких небольших поселений в первые века нашей эры.
Но наиболее многочисленный и яркий материал, добытый раскопками в Киеве, относится к летописному периоду его истории (конец Х-середина XIII в.). Открытие значительного количества отлично сохранившихся остатков жилищ горожан, ремесленных мастерских, развалин каменных храмов и княжеских дворцов Х-XIII вв., сопровождавшееся находками огромного количества разнообразнейшего инвентаря, позволило нарисовать яркую картину жизни города накануне монгольского завоевания.
С
изумительной образностью раскрылась в результате раскопок последних лет
потрясающая по своему драматизму картина разгрома цветущего города
татаро-монгольскими полчищами в декабре
Многочисленные и весьма разнообразные памятники, открытые и изученные советскими археологами, составляют основной фонд источников настоящего исследования. [с. 62]
Древнейшие поселения и могильники на территории Киева
Мы не видим нужды отвергать сказание Нестора, который приписывает строение Киева славянским полянам.
Н.Карамзин. История государства Российского.
1. Вопрос об основании Киева в русской историографии XVIII – начала XIX в.
Вопрос о том, когда и кем был основан Киев, дебатировался в русской исторической науке с первых дней ее существования. Глубокий интерес к этому вопросу понятен. Проблема возникновения Киева – неотделимая составная часть древнейшей истории Рубского государства.
“Предание о трех братьях, Кие, Щеке и Хориве, – писал Д.И.Иловайский, – есть не что иное, как попытка ответить на вопрос: откуда пошло Русское государство” [Д.И.Иловайский. Разыскания о начале Руси. Изд. 2-е, М., 1882-1886, стр. 52 и 65].
Историки XVIII – начала XIX в. в решении этой проблемы могли опираться исключительно на легендарный рассказ о трех братьях – основателях Киева, занесенный в Древнейший летописный свод. На необходимость серьезного отношения к легендарным рассказам русских летописей об основателях городов обращал внимание еще М.В.Ломоносов.
“Владетели и здатели городов в пределах Российских, – писал он почти два века тому назад, – известны по Нестору в Полянах Кий, Щек и Хорив; Славян новгородских по летописцу Славен и Рус. И хотя в оном летописце с начала много есть известий невероятных, однако же его откинуть невозможно” [М.В.Ломоносов. Краткий российский летописец с родословием 1760, § 6]. [с. 63]
Комментирование этого рассказа вело старых историков к весьма несхожим, часто взаимно исключающим выводам.
В.Н.Татищев недоверчиво относился к историческому содержанию легенды о трех братьях.
“Кий, Щек, Хорив и Лыбедь имена не славянские, – писал он, – но сарматские и есть ли оные не вымышлены от званий урочищ, то нужно быть до пришествия в сии места славян, или от рода козаров. Ибо славянские князи никогда от других языков имен не имели, но от своего” [В.Н.Татищев. История российская с самых древнейших времен, кн. II. М., 1773, прим. 18].
Самое имя – Киев или Кивы – он считал сарматским. Комментируя слова летописца “Поляне же жили особно на сих горах но Днепру”, В.Н.Татищев писал: “Не пустые горы, но град Киев разуметь должно, ибо сарматский Киви, славенский камень и горы едино есть” [там же, прим. 12]. Известие летописца об основании города князем Кием В.Н.Татищев считал вымышленным “от незнания сего имени”. Основание города он относил ко времени “до пришествие Христова” [там же].
Кн.М.Щербатов, не соглашаясь с известием летописца в том, что Кий с братьями были славяне, считал их имена персидскими и “арапскими” [Кн.М.Щербатов. История российская от дрэвнейших времен, т. I. СПб., 1794, стр. 116-121]. Полагая, что три брата пришли из страны, в которой “вышеобъявленные языки в употреблении были”, Щербатов считал, что основателями Киева были гунны. По его мнению, гунны, покорив алан, “осталися в земле оных и наконец дошли до места, где ныне Киев. Нашед себе сие место удобно к населению, тут вожди их остановились и вышеозначенные грады построили” [там же, стр. 121].
Против этой теории возражал еще И.М.Болтин, сам склонявшийся к мысли В.Н.Татищева о сарматском происхождении Киева.
“Чтоб гунны на берегах Днепра, где ныне Киев, когда-либо жили, – писал он, – о том ни в какой истории не вспоминается; да и весьма сумнительно, чтоб они местами сими проходили. Жили тут издревле сарматы, и прежде нежели славянами были покорены, построили город Киев, назвав его так по местоположению его, лбо слово Киви на сарматском языке значит горы; да и самый народ в окрестности Киева, на нагорном берегу Днепра живший, назывался по сказанию Стриковского, Киви. Славяня, сармат покорив, между ними поселились и назвали живших на нагорном берегу, в соответствие сарматскому слову Киви, горянами; а жителей луговой стороны полянами. Славяня имели обычай иностранные собственные имена переводить на свой язык, в чем им и Руссы долгое время подражали; таковых пример множество летописи представляют” [И.М.Болтин. Примечания на Историю древний и нынешния России Г.Леклерка, т. I, 1788, стр. 21-22. Против теории об основании Киева гуннами решительно возражал позже и Н.М.Карамзин, остроумно отметивший, что “гунны разрушали города, а не строили их и говорили без сомнения не арабским и не персидским языком” (Н.М.Карамзин История Государства Российского, I, прим. 71)]. [с. 64]
Несколько позже И.М.Болтин изменил свое мнение о происхождении Киева, признав основателями города аваров. Он утверждал, что “Киев” – слово венгерское и значит – “веселый”. Так же толковал Болтин и имена других братьев Кия и его сестры. “Хорив”, по его мнению, – венгерское слово “Горог”, что значит “кривой”, “Щек” (Снег) – “кормило”, а “Лебедь” (Лебеге) – “трепетание”. Итак, Кий, Щек и Хорив и Лебедь были, по Болтину, авары и говорили одним языком с венграми [И.М.Болтин. Критические примечания на первый том Истории кн. Щербатова. СПб., 1793, стр. 141].
И.Рейнегс считал, что Киев основан готами, имя города, обозначающее “место любимое, радостное” он считал финико-арабским [J.Reineggs. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus, v. II. St. Petersburg, 1797, стр. 200].
Г.З.Байер, принимая сказание о трех братьях за историческое, отождествлял Кия с готским королем Книве, воевавшим в Паннонии с римским императором Децием [G.Вауеr. Commentarii, III, стр. 434. Об этой теории см.: В.Н.Татищев. История Российская с самых древнейших времен, прим. 19].
Наконец, Г.Ф.Миллер, не находя в византийских летописях никаких известий о походе Кия на Царьград, пытался примирить летописный рассказ с византийскими летописями, считая, что Кий служил в войсках тех гуннов, которые при Феодосии II разоряли империю [Н.М.Карамзин, ук. соч., I, прим. 71].
Все эти представители докарамзинского периода нашей историографии в своих толкованиях летописной легенды, столь не сходных между собой, сходились почти все лишь в одном: они не хотели верить летописному рассказу о том, что Кий с братьями были не гунны и не готы, и не авары, а славяне. Решительно возражал против этих толкований Н.М.Карамзин.
“Не видим мы нужды, – писал он, – отвергать сказание Нестора, который приписывает строение Киева славянским полянам. Имена древние не всегда могут быть изъяснены языком новейшим, из чего не следует, что они произошли от иного языка” [там же].
“Что-нибудь одно, – говорил Н.М.Карамзин, возражая Байеру, – или верить в сем случае Нестору, или не верить; если верить, то Кий был славянский князь, а не готский” [там же].
[Мы не останавливаемся здесь на многочисленных более поздних попытках связать возникновение Киева, при комментировании известия Константина Багрянородного о прозвище Киева – Самбат, с сарматами, скандинавами, готами, венграми, аланами, хазарами и даже литовцами и финнами. См. об этом: Г.Ильинский. Σαμβατάς Константина Багрянородного. – Ювілейний збірник на пошану М.С.Грушевського, II, К., 1928, стр. 166-167; А.И.Лященко. Киев и Σαμβατάς у Константина Багрянородного. – ДАН СССР, 1930, № 4, стр. 66-72]
Возражал
Карамзин и против того, что, “оста[с. 65]вив достоверного Нестора”, некоторые
историки склонны были больше доверять автору Киевского Синопсиса, выписанного
по большей части из польских историков – Длугоша, Стрыйковского и др. [Н.M.Карамзин, ук. соч., I, прим. 71]
Стрыйковский, утверждавший, что Киев был основан в
Местное народное предание о Киеве, занесенное в конце XI в. в летописные своды, наряду с церковной легендой о путешествии апостола Андрея, предрекавшей и закреплявшей великое политическое и церковное значение Киева в истории Древнерусского государства, свидетельствовали о том, что в эпоху, когда обе эти легенды были литературно оформлены, Киеву принадлежала виднейшая роль в политической жизни страны.
Но голос народного предания говорил и о большем. Легенда закрепляла мысль о том, что Киев был славным городом задолго до того времени, когда он во второй половине Х в. стал признанной столицей Руси. Может быть, эта мысль и составляет наиболее реальную историческую основу древней народной легенды.
“Предание о Кие, Щеке и Хориве, – писал Д.С.Лихачев, – ярко свидетельствует об интересе русского народа к своей истории еще в дописьменный период. Эта легенда имеет не только узко местный, но и общерусский интерес” [Повесть временных лет, ч. II. Комментарии Д.С.Лихачева. M.-Л., 1950, стр. 220].
Чрезвычайно важно установить, к какому времени относится это народное предание. Армянский историк VIII в. Зеноб Глак рассказывает об основании Куара (Киева) в стране полуни (полян) Куаром, Ментеем и Хереаном [Как установил M.Абегян (История древнеармянской литературы, т. I. Ереван, 1948, стр. 346), компиляция Зеноба Глака была составлена не ранее VIII в. Среди его источников значительное место занимают национально-церковные предания, а также народные сказания]. Решительно отвергая мысль, что русская и армянская легенды восходят к общей основе, возникшей на скифской или доскифской “стадии” обоих народов, как это стремился доказать Н.Я.Марр [Н.Я.Марр. Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси. – ИРАИМК, т. III, Л., 1927, стр. 256-257], следует думать, что киевская легенда могла проникнуть в Армению через славянские поселения, издавна существовавшие на Северном Кавказе. Если это действительно так, то предание это во всяком случае уже существовало в VIII в. н.э.
2. Киев и “днепровский город” — мифическая столица Эрманарика
В 1850-1852 гг. Копенгагенское королевское общество северных антиквариев при материальном содействии русского правительства издало два тома “Antiquites Russes d'aprés les monuments historiques des Islandais et des anciens [с. 66] Scandinaves”. В этих двух фолиантах были опубликованы целиком и в отрывках скандинавские и исландские саги, имеющие отношение к русской истории, а также отрывки из скандинавских и исландских песен.
Северный фольклор еще задолго до этого привлекал внимание исследователей древней русской истории, начиная с историков XVIII в. – Байера и Миллера.
В 30-х годах XIX в., после статьи О.Сенковского [О.Сенковский. Скандинавские саги. – Библиотека для чтения, т. I, отд. 3, стр. 1-77], посвященной скандинавским сагам, имеющим отношение к русской истории и, в частности, Эймундовой саге, скандинавский фольклор вошел в состав источников русской историографии. Правда, о значении памятников северного фольклора в качества исторического источника высказывались различные взгляды. Если упомянутый Сенковский доказывал важное историческое значение саг, то член Археографической комиссии Бередников в докладе по поводу ходатайства Копенгагенского общества северных антиквариев об оказании пособия на упомянутое издание высказался крайне скептически об историческом значении саг. Ссылаясь на авторитет Шлепера, Лейбница, Ире, Гебгарда, Каченовского, Бередников писал:
“Саги, которые будут заключаться в этом издании, пользуются в ученом мире весьма сомнительным авторитетом. Как основанные исключительно на поэтических преданиях грубых скандинавов, саги не могут развить достоверным образом нашу древнюю историю, потому что, во-первых, сущность саг решительно баснословна, во-вторых, они не применяются ни к какой хронологии, в-третьих, хотя некоторые исторические очерки и имена, упоминаемые в наших летописях, изредка встречаются в сагах, но это вовсе ничего не прибавляет к тому, что уже известно из наших хроник, или по сомнительному происхождению и характеру саг не может исторически утвердить или пояснить никакого факта, даже и в тех случаях, когда саги разнятся с нашими летописями, или говорят о том, чего нет в них; и в-четвертых, саги… суть позднейшего происхождения” [Протоколы заседаний Археографической комиссии 1835-1840 гг., вып. I. СПб., 1885, стр. 205-207].
Как правильно было указано Н.П.Дашкевичем, скептики, развенчивавшие саги как исторический источник,
“не обращали должного внимание на то, что в таких памятниках, как саги, можно искать особой вероятности, относясь к ним, как к памятникам поэтическим, можно требовать правды, внутренней и находить верные отдельные подробности” [Н.П.Дашкевич. Приднепровье по некоторым памятникам древнесеверной литературы. – Университетские известия, Киев, 1886, № 11, стр. 224].
Мы позволили себе с несколько излишними на первый взгляд подробностями остановиться на вопросе о роли скандинавского эпоса как источника древнерусской истории, потому что в связи именно с этим источником вскоре после выхода в свет копенгагенских фолиантов возникло и в известной мере [с. 67] продолжает жить до наших дней печальное заблуждение в вопросе о древнейших судьбах Киева.
В числе других памятников, опубликованных в “Antiquites Russes”, была известная “Hervarasaga”. В этой саге выступает Hlodr, внебрачный сын короля Гейдрека, который царствовал в Рейдготии (Reidhgotaland), простиравшейся до Harvad-hafjoll (хорватских, или карпатских, гор), а столицей имел Danpstadir (Днепровский город). По смерти Гейдрека Hlodr требует от его сына и преемника, чтобы тот отдал ему половину страны, а именно “половину того великого леса, что зовется Myrkvidhr (“темный лес”), ту святую могилу, что лежит на пути, ту чудную скалу в Днепровских местах, половину замков, что имел Гейдрек”. В предисловии к саге издатели отметили, между прочим, следующее:
“Имя Danpstadir, которое появляется также в Atla-Kvida как название места, расположенного в царстве Atla, царя гуннов, и которое Я.Гримм (Deutsche Mithologie, стр. 1211) остроумно сопоставил с Tanfa, Tanfana, может также напомнить название Danapris, или Днепр” [Antiquités Russes, t. I. Copenhague, 1850, стр. 112].
А.А.Куник, приняв это толкование, высказал предположение, что за время странствования готов к Понту “Днепровский город некоторое время был столицей Готского королевства” [Melangés russes tirés du Bulletin de I'Academie Impèrial des sciences de St. Petersburg, t. IV, livre 5, 1869, стр. 520]. Это мнение было повторено А.Н.Пыпиным [Вестник Европы, 1875, № 11, стр. 127] и несколько подробнее развито вновь А.А.Куником, который писал:
“По словам этой саги, во времена гуннов, Danpstadir, Danparstadis, Danprstadir (от Danaper – Днепровский град, Киев?) был главным городом (höfud-borg) Reidhgotaland’a или Cotthjodh’a” [А.А.Куник. Русский источник о походе 1043 года. Записки АН, т. XXVI, кн. 1, СПб., 1875, стр. 55].
Ф.К.Брун, ссылаясь на это место у А.А.Куника, высказал предположение, что “Днепровский город занимал, вероятно, то место, где затем был построен Киев” [Ф.К.Брун. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии южной России, ч. II. Одесса, 1880, стр. 289].
Известно, что “Hervarasaga” – сказание довольно позднего происхождения, датируется в основном XII-XIII вв., хотя имеет различные варианты, более древние и более поздние части. Время ее возникновения неизвестно, но поздний характер ее не вызывал сомнений [См., в частности: М.Грушевський. Історія України-Руси, I. Київ, 1913, стр. 149].
Попытка найти те же названия в более древних скандинавских источниках была сделана известным знатоком древнесеверного фольклора, исландцем Г.Вигфуссоном [G.Vigfusson. Sigfrid-Arminius and other papers. Grimm Centenary. – Oxford-London, 1886]. Вигфуссон, изучая место действия эддической “Hamdismal”, обратил внимание на один не совсем понятный стих этой песни, которую [с. 68] он считал одной из древнейших песен Эдды. Стих этот читался обычно так:
“Holl sa peir Cotha ос hlid – skialfar djúpa” [Corpus poeticum boreale, v. I. Oxford, 1883]. Последнее слово (djupa – “глубокий”) Вигфуссон считал ошибкой переписчика. Исправляя это слово по аналогии с другими песнями Эдды, Вигфуссон ставил вместо djupa – Danpar. При этом исправлении текст получает такой смысл: “Они увидели палату готов р скаты берегов Днепра”.
В древней песни об Аттиле (“Atla-Kvida”) действительно встречается подобное же слово – Danpar:
“…Днепровские места, знаменитый лес, который мужи зовут Темной дубравой” (“…stadi Danpar, hris pat id maera es medr Myrkvid kalla”) [там же, стр. 45].
В песни о Hlod и Angantheow также говорится, что Heidric'y принадлежали
“тот знаменитый лес, который зовется Темной дубравой, та священная могила, которая стоит в земле готов, та знаменитая скала, которая стоит в Днепровских местах” [там же, стр. 350].
Дальнейшее толкование исправленного стиха “Hamdis-mal” приводит к тому, что в этой песни – одной из древнейших песен Эдды – идет речь о столице готов в каком-то месте Восточной Европы, над “Danpar”, который естественно отождествить с “Danaper” Иордана, т.е. с позднейшим Днепром.
Отыскивая место на берегу Днепра, которое могло быть ареной действия героев “Hamdis-mal”. Вигфуссон считал, что Danparstadir – древний центральный город на Днепре – безусловно Киев. Здесь гора, занимаемая Лаврой, могла быть издавна знаменитым и священным местом погребения. На ней могла быть расположена столица Гиферика и Эрманарика. Здесь берег возвышается над рекой террасами – настоящими hlid-skialfar. Этот город – один из пунктов Европы, который самым своим расположением был как бы предопределен стать центром исторического тяготения. Особое положение делало Киев удобным торговым рынком, святилищем, крепостью. В особенности он годился, по мнению Вигфуссона, быть центром таких конгломератов царств, как тот, которым правил Эрманарик. Здесь в Киеве Вигфуссон видит центральный пункт готской империи и столицу Эрманарика. В состав этой первой тевтонской империи входили, по мнению Вигфуссона, чудь (эсты и др.), славяне, скифы и готы. Этот второй Александр правил над черноземной полосой России, начиная от песчаных, усеянных озерами берегов Балтийского моря до дельт Черноморья и от Карпат до восточных степей. Средоточием этой империи, по Вигфуссону, было среднее течение Днепра и Киев.
По мнению Вигфуссона, “Hamdis-mal” представляет лишь отголосок той готской поэзии, которая была вызвана подвигами Эрманарика, но достаточно и того, что уцелело, чтобы понять, что вдохновенный поэт, автор песни, находился не вне “палат готов” в Днепровском городе. Знакомясь с этой поэмой, [с. 69] по мнению Вигфуссона, можно представить себе великолепие, пышность обстановки и силу власти готского василевса на Днепре [G.Vigfusson, ук. соч.].
Может быть, не было бы необходимости столь подробно останавливаться на концепции Вигфуссона и его русских предшественников – неумеренных представителей “готской теории”, если бы призрак мифического Danparsfcadir в различных модификациях не появлялся вновь и вновь в трудах русских и украинских ученых до самого недавнего времени, хотя обстоятельной критике теория Вигфуссона подверглась вскоре после выхода его труда.
Скептическое
отношение ко всем основным положениям Вигфуссона высказал проф. Киевского
университета Н.П.Дашкевич в рецензии на книгу Вигфуссона, напечатанной в том же
Н.П.Дашкевич прежде всего справедливо не находил возможным согласиться с тем возвеличением Эрманарика, к которому вслед за некоторыми древними историками, сравнивавшими Эрманарика с Александром Великим, пришел Вигфуссон. Небывалое могущество, приписываемое Эрманарику, и самый перечень народов, подвластных ему, уже давно вызывали сомнения у критически настроенных историков, в том числе и немецких. Во всяком случае подтвердить историческими фактами приурочение столицы Эрманарика к Днепру трудно. Более того, невозможно решить даже и более общий вопрос – было ли вообще Среднее Поднепровье в числе обширных пространств, принадлежавших Эрманарику.
Обращаясь к вопросу о достоверности предания о “Днепровском городе”, сохранившегося в эддических песнях, Н.П.Дашкевич указывал, что песня о Hlod и Angantcheow должна быть сразу устранена из доказательств древности предания о “Днепровском городе”, потому что заимствована, по мнению самого Вигфуссона, из “Hervarasaga” не раньше XI в.
Остаются, следовательно, два упоминания – о “Днепровском нагорном береге” и о “Днепровских местах”. Но из них одно (в “Hamdis-mal”), как мы помним, взято из другой песни по догадке. Весь стих, в который оно введено, испорчен и является результатом остроумных реконструкций исследователя. Таким образом, вполне бесспорным остается лишь упоминание “Днепровских мест” в песни об Аттиле (“Atla-Kvida”),
Но самое главное возражение Дашкевича состояло не в этом. Считая, что рассматриваемые песни в том виде, как они дошли до нас, не старше IX в., Дашкевич выдвигал мысль, не следует ли считать упоминания о Днепре и “Днепровском городе” в песнях Эдды позднейшей локализацией столицы Эрманарика, которая могла произойти под влиянием рассказов скандинавов, ходивших по “пути из Варяг в Греки”, бывавших в Киеве в IX и следующих веках или слышавших тогда о нем. [с. 70]
Все сказанное приводило Дашкевича к выводу, что в словах Эдды о “Днепровском городе”, едва ли возможно признать отголосок древнейшего предания об Эрманарике, восходящего ко времени этого последнего.
Отрезвляющая критика Дашкевича, однако, не приостановила распространение теории Вигфуссона. Если, как говорит древняя поговорка, книги имеют свою судьбу, то не менее интересную судьбу, оказывается, имеют и рецензии на книги. Обстоятельная рецензия Дашкевича, изложившая все основное содержание книги, против которой она была направлена, послужила больше к пропаганде идей Вигфуссона, чем к их опровержению. В течение десятков лет приверженцы теории днепровской столицы готов ссылаются не столько на подлинный малодоступный труд Вигфуссона, сколько на рецензию Дашкевича, причем нередко считая последнего проводником и сторонником этой теории.
Так, автор капитального сводного труда об исторической топографии Киева Н.И.Петров, ссылаясь на Дашкевича, писал:
“Самый Киев в это время принадлежал готам, а затем гуннам и в IV в. был центром Готской империи и столицей Эрманарика” [Н.И.Петров. Историко-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897, стр. 3].
В.Б.Антонович [A.Apмaшeвcкий и В.Антонович. Публичные лекции по геологии; и истории Киева. – Киев, 1897, стр. 36-37], не только полностью следовал за Вигфуссоном, считая Киев столицей готов, но и утверждал, что соображения Вигфуссона были проверены проф.Дашкевичем, который якобы нашел, что его предположение очень вероятно. Со своей стороны Антонович пытался подтвердить факт существования готского Киева археологической документацией, привлекая для этого два клада римских монет III-IV вв. н.э., найденные на Подоле и на Печерске.
Со ссылкой на Вигфуссона и Дашкевича признавал существование готской столицы на Днепре и Ю.Кулаковский [Ю.Кулаковский. Карта Европейской Сарматии по Птолемею. Киев, 1899, стр. 31. Н.Закревский (Описание Киева, т. I. М., 1868, стр. 6) считал, что Птолемеев Азагориум, слывший у окрестных жителей под именем Загорья, был не что иное, как Киев], полагавший, что Киев существовал еще во времена Птолемея и значится на карте последнего под именем Метрополь. Когда готы тронулись на юг, к пределам Римской империи, под их напором исчезли с лица земли старые культурные центры Тира, Ольвия, Танаис, но среди этого переворота уцелел, по-видимому, и даже, быть может, был призван к новой жизни Метрополь – Киев, который и выступает при готах как Danparstadir – столица Эрманарика.
Признавали существование днепровской готской столицы на территории Киева Ф.Браун [Ф.Браун. Разыскания в области гото-славянских отношений, I. Готы и их соседи до V в. СПб., 1899, стр. 8], В.С.Иконников [В.С.Иконников. Опыт русской историографии, т. II, кн. 1. Киев, 1908, стр. 116], А.И.Соболевский [А.И.Соболевский. Лингвистические и археологические наблюдения. Русские местные названия и язык скифов и сарматов, вып. I. Варшава, 1910, стр. 97-98], С. Рожнец[с. 71]кий [С.Рожнецкий. Из истории Киева и Днепра в былевом эпосе. ИОРЯС, т. XVI, кн. 1, 1911, стр. 72], А.Погодин [А.Погодин. Киевский Вышгород и Гардарики. – ИОРЯС, т. XIX, кн. 1, 1914, стр. 31], И.Стеллецкий [И.Стеллецкий. Летописные варяжские пещеры и клад. – Сб. статей в честь гр.Уваровой, М., 1916, стр. 262]. Теорию Вигфуссона о Киеве как столице готов до недавнего времени можно было встретить в путеводителях по городу [К.Шероцкий. Киев. Путеводитель. Киев, 1917, стр. 2. Автор не только поддержал теорию Вигфуссона, но и считал, что она “подтверждается археологическими данными”. См. также: Путівник по Києву, ч. I. Київ давній. К., 1930, стр. 104] и в обзорных статьях на страницах украинских журналов [В.Славiн. Київ у пам'яти століть. – Соціалістичний Київ, 1936, № 12, стр. 34].
Итак, если изучение древнерусской народной легенды об основателях Киева привело к признанию наиболее реальной исторической основы этой легенды в том, что она в поэтической форме закрепляла мысль о славном прошлом великого города задолго до того времени, как он стал признанной столицей Руси, то изучение северных легенд о “Днепровском городе”, наоборот, приводит к выводу о перенесении на мнимую готскую столицу Эрманарика черт более позднего исторически реального русского Киева.
Общей для обоих источников особенностью является, однако, легендарный. поэтический характер их. Забывая об этом и превращая русскую легенду или северные песни в исторические документы в собственном, узком смысле этого. слова, исследователи нередко обольщали себя иллюзорной исторической реальностью тех фактов, которые на самом деле имели подлинную ценность лишь как поэтический образ, требующий специфических средств раскрытия.
3. Клады римских монет и отдельные вещевые находки римского происхождения на территории Киева
История Киева, как и история других крупнейших городов древней Руси, уходит своими корнями в далекое историческое прошлое нашей родины.
Когда в середине XI в. и особенно в начале XII в. в Киеве, как и в ряде других крупных городов, появляется регулярное летописание, составители древнерусских летописей, естественно, пожелали внести в свои своды сведения о тех периодах истории своего города, которые уже и для них были далеким историческим прошлым. Осмысляя это далекое прошлое пересказом народных легенд и сказаний, летописцы, разумеется, не могли преодолеть легендарный туман, скрывавший первые страницы истории города, сквозь который лишь с большим трудом удавалось проследить отдельные исторические события и их участников.
Сохраненные летописью народные легенды и предания о возникновении Киева и для историков XVIII – XIX вв. служили почти единственным источником при воссоздании древнейшей истории города. Известные в ту пору, правда весьма немногочисленные, археологические “документы” не привлекали серьезного внимания историков. Между тем изучение древнейшего периода истории [с. 72] Киева, периода вовсе не отраженного собственной письменностью и весьма мало и сомнительно письменностью других народов, возможно лишь при условии максимального внимания к источникам, отмеченным (в противоположность тем, о которых шла речь выше) наибольшей исторической реальностью, – к источникам археологическим.
Благодаря рано начавшимся археологическим раскопкам, с одной стороны, и интенсивным строительным и планировочным работам, с другой, к концу прошлого века в Киеве было известно уже весьма значительное количество отдельных случайных находок, кладов, погребений, развалин древних храмов, дворцов и т.п. Особое внимание среди этих открытий и находок привлекали, конечно, многочисленные, разнообразные по характеру яркие памятники, относившиеся к концу Х-середине XIII в. Однако наряду с этими памятниками, отражавшими историю древнерусской столицы той эпохи, которая подробно освещена киевскими летописями, уже в середине прошлого века были обнаружены первые находки, свидетельствовавшие о гораздо более древних страницах истории города.
[Достаточно полная для своего времени сводка данных о находках римских монет на территории Киева была сделана четверть века тому назад В.Г.Ляскоронским в статье “Римські монети, які знайдено на території м.Києва” (Україський музей, зб. I, К., 1927, стр. 29-41). Первая попытка систематизации разнообразных памятников первых веков нашей эры, найденных на территории Киева, осуществлена в нашей статье “К вопросу о древнейшей истории Киева” (СА, X, 1948, стр. 235-254). С тех пор накопились довольно значительные-новые материалы; см., в частности, статью И.Самойловского “Пам’ятки культури полів поховань у Києві” (Археологія, т. VII, К., 1952, стр. 153 – 157). В списке находок римских монет в Восточной Европе, опубликованном В.В.Кропоткиным [Клады римских монет в Восточной Европе. ВДИ, 1951, № 4 (38), стр. 253-279], киевские находки перечислены по материалам нашей статьи]
Более ста лет
тому назад, в
В
В
[Подробное описание состава клада сделано Н.Ф.Беляшевским, ук. соч., стр. 26-34; см. также: В.Данилевич. Монетные клады, принадлежащие Мюнц-кабинету Университета св.Владимира, I. Киев, 1892, стр. 14-17; В.Б.Антонович. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета св. Владимира, вып. I. Монеты древнего мира. Киев, 1896, прилож. II, стр. 252-256; В.Г.Ляскоронський, ук. соч., стр. 29]
Монеты Оболонского клада разделяются на две группы, из которых первую (45 экз.) составляют римские колониальные монеты, чеканенные в Антиохии (в Писидии) во время царствования императоров Филиппа Араба (244-249), Траяна Деция (249-251), Волусиана (251-253) и Галлиена (253-268) [Н.Ф.Беляшевский, ук. соч., стр. 27-32].
Вторую группу (14 экз.) составляют несколько более поздние монеты – римской средней и малой бронзы, времен императоров Максимина II Даза (305-313), Константина Великого (306-337), Констанция II (337-361), Прокопия (365-366) [там же, стр. 32-34].
Таким образом, Оболонский клад состоял, по-видимому, из монет, близких между собой как по времени, так и по типам. По составу монет он относится ко второй половине III в. и первой половине IV в. Все монеты римского чекана, большинство из них принадлежит к разряду римских колониальных монет (г. Антиохия в Писидии).
Еще
В.Б.Антонович [В.Б.Антонович. Описание
Киевского клада…, стр. 244], опубликовавший первые сведения о кладе
В
В 90-х годах прошлого столетия при прокладке канализационных труб в городе рабочими были вновь найдены несколько экземпляров бронзовых римских монет; часть из них попала в руки В.В.Хвойки, у которого их видел В.Ляскоронский [B.Г.Ляскоронский, ук. соч., стр. 30]. По словам последнего, среди этих находок были монеты императора Константина Великого (306-337) и его преемников, а также монеты значительно более раннего времени. Одна из этих монет, найденная на Воздвиженской улице, представляла денарий Корнелии Салонины, жены имп.Галлиена (253-268), с греко-латинской надписью. Римские монеты в честь жен императоров известны и по другим находкам на территории Украины, например в Триполье и его окрестностях [там же].
Одна римская
монета и бронзовая грубо орнаментированная чаша, найденные при прокладке
канализационных труб в
В
В том же районе вблизи Глубочицкого ручья, на участке Кирпичного завода, был найден клад, состоявший из 40 экз. бронзовых римских монет, из которых всего 19 попали в Университетский музей. По свидетельству В.Б.Антоновича, из них 3, типа средней бронзы, относились к имп.Констанцию II (337-361 ), остальные 16 чеканены в г.Антиохии в Писидии. На лицевой стороне 9 из них удалось прочесть имя императора: на 7 – Волусиана (251- 253), на 2 – Гордиана III (238-244) [В.Б.Антонович. О монетных кладах, найденных в Киеве и его окрестностях. – ЧИОНЛ, кн. II, Киев, 1888, стр. 17].
Вообще на Подоле в конце XIX в. часто находили отдельные римские монеты, но большая часть их бесследно пропала и не была даже зарегистрирована. Киевский коллекционер конца XIX в. Н.Леопардов, скупавший у населения случайные находки различных эпох, утверждал, что ему
“неоднократно были предлагаемы в разное время, разными продавцами римские денарии I-II вв., каждый раз небольшими количествами, даже не очищенные от наплыва и осадков ржавчины, с объяснением, что они были найдены на Подоле или при возделывании огородных грядок, или при рытье канав для фундаментов при постройках и пр.” [Н.Леопардов. Сборник снимков с предметов древности, находящихся в Киеве в частных руках. Серия вторая, вып. I. Киев, 1893, стр. 28]
В.Ляскоронский также сообщал о том, что ему несколько раз приходилось видеть серебряные и медные римские монеты, которые доставали ученики гимназии у рабочих-землекопов или же покупали там же, на Подоле, в маленьких лавчонках, куда эти монеты попадали с территории самого Киева или его окрестностей [В.Г.Ляскоронский, ук. соч., стр. 31].
До недавнего времени было распространено мнение о том, что находки римских монет и особенно кладов связаны исключительно с Киево-Подолом и отчасти с Печерском. Находки римских монет и тем более кладов на территории Верхнего Киева долгое время были неизвестны.
Однако самый
крупный, а может быть, и наиболее древний по своему составу, клад римских монет
был найден именно на территории Верхнего Киева в первой половине 1870-х годов,
т.е. раньше, чем известный Оболонский клад. Но в то время как последний сразу
же обратил на себя внимание ученых, был неоднократно подробно описан,
Старо-киевский клад остался совершенно незамеченным. Печальная история этого
клада стала известна в печати спустя более чем полвека после его находки.
Историю находки и гибели этого замечательного клада опубликовал в
Летом 1874
или
Часть монет из этого клада попала в руки лавочника, который перепродал 4 или 5 монет студенту Киевского университета М.Н.Пантелееву. Это были римские серебряные денарии II в. н.э. – императоров Адриана, Антонина Пия и Марка Аврелия. Все монеты были из высококачественного серебра, отличной сохранности. Только одна монета этого замечательного клада дошла до нас, сохраненная дочерью Пантелеева (О.М.Пантелеевой). Монета (табл. I, 1, 2) представляет серебряный римский денарий императора Адриана (117- 138). На лицевой стороне голова императора в лавровом венке, вокруг головы надпись: “Imp. Caesar Traian Hadrianus. Avg.”; на обороте – сидящая фигура богини Победы (Victoria) со статуей Ники (Победы), с венком в протянутой правой руке, левой рукой богиня опирается на копье. Около фигуры надпись: “P(ontifex) M(aximus) TR(ibunitia) P(otesfcate) COS III”. Монета отличной сохранности.
По-видимому,
некоторые из монет интересующего нас клада фигурировали на выставке IX археологического
съезда в Вильне в
Второй не менее замечательный клад римского времени был найден также в северо-западной части Верхнего Киева, недалеко от места находки первого клада [В.Г.Ляскоронский, ук. соч., стр. 34-38].
В 1911 или
Единственная сохранившаяся у Н.Г.Ротмистровой самая крупная монета оказалась исключительно интересным медальоном времени императора Люция Вера (161-169) (табл. I, 3, 4). На лицевой стороне этого медальона – отлично сохранившееся погрудное изображение императора в лавровом венке, Вокруг изображения надпись: “L. Vervs Avg. Arm. Parth. Max. Тг. Р. VIII”. На обороте медальона изображена колесница, запряженная четверкой коней, скачущих влево; наездник, управляющий квадригой, имеет на голове круглую шапочку. Над конями летящая фигура крылатой Победы, протягивающая венок к голове наездника. Внизу, под изображением, надпись: “COS II”, а ниже – “SC” (senatus consulto). В верхней части медальона, над головой императора, видны следы припайки двух колец, которыми он был связан с другим медальоном. При детальном ознакомлении было выяснено, что медальон не серебряный, а медный, но хорошо высеребрен. Сделан он из двух бляшек, на каждой из которых штампом выбиты изображения, а потом бляшки спаяны вместе.
В нумизматической литературе давно и обстоятельно выяснена двойная роль, которую играли римские медальоны. Это были, с одной стороны, монеты, кратные единицам обычных ходовых монет, с другой – мемориальные медали. Медальоны выбивались обычно в небольшом количестве, по случаю побед, триумфов, больших общественных игр, жертвоприношений и т.п. Выбивали их из золота, серебра или бронзы. Известно, что медальоны, как и обычные монеты, часто использовали в качестве украшений, вставляя их в перстни, диадемы, носили в составе ожерелий, инкрустировали в стенки посуды и пр. [В.Г.Ляскоронский, ук. соч., стр. 35-37]
В нашу задачу не входит выяснение назначения ожерелья из четырех монет Киевского клада. В.Г.Ляскоронский высказывал предположение, что оно служило украшением войскового значка римских легионов [там же, стр. 39]. Вместе с другими не дошедшими до нас вещами клада это ожерелье свидетельствует о том, что клад, найденный на Некрасовской ул., был, по-видимому, вещевым кладом, хотя в нем были и монеты.
Около Десятинной церкви был найден серебряный денарий имп. Адриана (117-138). Монета эта каким-то образом попала к учителю гимназии Д.Щербаненко, где ее и видел В.Г.Ляскоронский [там же, стр. 31]. Монета из хорошего серебра, [с. 78] отличной сохранности. Известны находки отдельных римских монет и на горе Киселевке, о чем сообщал В.В.Хвойка [там же].
В середине 20-х годов XX в. в усадьбе д.34 по Караваевской ул. в саду был найден небольшой клад, состоявший из римских денариев. Две монеты этого клада были определены В.Г.Ляскоронским. Одна чеканена имп. Адрианом (117-138), другая – имп. Коммодом (180-192) [там же, стр. 39].
В
В
В
С 1922 по
Последняя
известная нам находка зарегистрирована в
Особого
внимания заслуживает находка в
Наряду с кладами и отдельными монетами на территории Киева известны немногочисленные вещевые находки римского происхождения, не говоря уже о том, что один из кладов, как отмечалось выше, содержал, кроме римских монет, и ювелирные изделия.
К числу случайных
вещей римского происхождения нужно отнести прежде всего камею, найденную
Д.В.Милеевым при раскопках развалин древней церкви в саду Митрополичьей усадьбы
(ныне Софийский заповедник). Обстоятельства этой находки, к сожалению,
неизвестны. В докладе о раскопках церкви на IV съезде русских зодчих в
Камея представляет овальный медальон с резным изображением Венеры перед зеркалом (табл. I, 5). По сторонам крылатые купидоны. Изображение довольно грубое, выполнено в натуралистических формах. Д.В.Милеев датировал камею IV в. н.э., с чем нельзя не согласиться.
К числу случайных находок римского происхождения, найденных в Киеве, нужно отнести также бронзовый, обтянутый золотой пластинкой перстень [Т.В.Кибальчич. Южно-русские геммы. Неизданные материалы для истории гравировального искусства древних народов, живших в южной России. – Берлин, 1910, табл. XV, 434] и стеклянный бальзамарий [Г.Ф.Корзухина. К истории Среднего Поднепровья в середине I тысячелетия н.э. – СА, XXII, 1955, стр. 76].
Рис. 1. Римский светильник, найденный на территории Киева. [с. 81]
Исключительный
интерес представляет глиняный римский светильник, найденный в
Близкими по
времени к кругу рассмотренных выше памятников являются найденные на углу
Б.Житомирской и Б.Владимирской улиц пять золотых круглых нашивных бляшек в виде
розеток с гнездами для камней и зернью между гнездами. Три бляшки несколько
большего размера (диаметр
Фотография камеи была впервые опубликована в нашей статье “К вопросу о древнейшей истории Киева” (СА, X, 1948, стр. 248, рис. 3). [с. 80] центрального гнезда расположено ло шесть меньших гнезд. Фон бляшек украшен зернью, по краям – отверстия для прикрепления к ткани [АЛЮР, т. III, Киев, 1901, стр. 187; Древности Приднепровья. Собрание Б.И. и В.Н.Ханенко, вып. V. Киев, 1902, стр. 48 (№№ 1010-1014) и рис. на стр. 57. В настоящее время вещи находятся в Киевском историческом музее]. Бляшки принадлежат к кругу ювелирных изделий, обычно именуемых “вещами с инкрустацией”. Датировка их не уточнена, но есть основания относить их к концу первой половины I тысячелетия н.э. (IV-V вв.).
К кругу ювелирных изделий того же времени с выемчатой эмалью относится пока единственная находка этого рода в Киеве, обнаруженная раскопками В.В.Хвойки – фрагмент бронзовой фибулы или ромбическая пластинка с красной эмалью [КИМ, инв. № 10239 (С. 22923); в инвентарной книге записано: “Три пластинки с позолотой и эмалью; из них сохранилась лишь одна”. Указанием на этот памятник я обязан Г.Ф.Корзухиной].
Как известно, вещи с выемчатой эмалью встречаются на огромной территории, тянущейся вдоль римской границы от Рейна и южной Прибалтики в Приднепровье и на Северный Кавказ [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 49]. Техника изделий с выемчатой эмалью, распространенных на этой территории, объединена единством происхождения от позднеримских провинциальных эмалей. Однако, как справедливо отмечал Б.А.Рыбаков, единство происхождения эмальерной техники еще ве определяет единства типов. Каждая область, где особенно распространены змали – Прибалтика, Кавказ и Приднепровье – развила самостоятельное и своеобразное искусство выемчатых эмалей [там же]. Вопрос о месте производства эмалей Б.А.Рыбаков решал путем картографирования находок, считая При[с. 81]днепровье и, в частности, район киевских и переяславских полей погребений, одним из центров эмальерного производства. На связь эмалей с полями погребений указывают, по мнению того же автора, находки эмалевых фибул в Черняхове и Ромашках и постоянная корреляция между эмалями и черной лощеной керамикой, типичной для полей погребений [Б.А.Рыбаков, ук. соч., стр. 53].
К этому же времени,
по-видимому, относится фибула, найденная в
4.
Памятники культуры полей погребений
на территории Киева
Клады римских монет и случайные находки отдельных монет и различных других привозных предметов первых веков нашей эры не являются единственными памятниками этого времени на территории Киева. Еще раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского в 1907-1908 гг. было установлено наличие отдельных разрушенных погребений, относящихся к культуре полей погребений. На территории этой усадьбы был найден “небольшой глиняный сосуд с лоснящейся (лощеной, – М. К.) поверхностью”, по мнению В.Хвойки, “вполне сходный с погребальными сосудами могильников латэнского типа (с сожжением) у с.Зарубинцы Киевского уезда, м.Межиречье Черкасского уезда и м.Ржищева Киевского уезда” [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена (по раскопкам). Киев, 1913, стр. 65]. Тот же исследователь сообщал о находке при раскопках в этой же усадьбе “поврежденной бронзовой фибулы римского провинциального типа” [там же].
В Киевском историческом музее сохранился из материалов раскопок В.В.Хвойки лепной сосуд с отогнутым венчиком и округлой ручкой, имеющий заглаженную поверхность серо-коричневатого цвета и небольшая бронзовая арбалетовидная фибула с подогнутой ножкой. Сосуд по своему типу близок к керамике Корчеватовского могильника. Глиняное тесто имеет примесь песка, обжиг неравномерный [I.М.Самойловський, ук. соч., стр. 153]. Фибула может быть отнесена к II в. н.э. [там же] [с. 82]
К керамике корчеватовского типа принадлежит также фрагмент венчика с ушком лепного чернолощеного сосуда, найденный Д.В.Милеевым при раскопках на территории Десятинной церкви в 1913-1914 гг., хранящийся в том же музее [там же].
Попытка
И.М.Самойловского отнести к числу погребений зарубинецко-корчеватовского типа
обнаруженное раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского еще одно погребение,
состоявшее из пяти глиняных сосудов, из которых больший был наполнен остатками
сож-женого праха покойника, лишена оснований [там же].
В.В.Хвойка относил это погребение к эпохе бронзы [В.В.Хвойка,
ук. соч., стр. 65. Более подробные сведения об открытии этого погребения см.:
Раскопки в Киеве летом
Рис. 2.
Погребение III—IV вв. Усадьба Художественной школы (ныне усадьба Киевского
исторического музея). Раскопки
Большое
значение представляют два погребения, открытые раскопками Института археологии
АН УССР в
Первое
погребение (№ 4/1937 г.) было обнаружено на глубине
Рис. 3.
Глиняный сосуд из погребения III—IV вв. Раскопки
Около правой
руки стоял сосуд, сделанный на гончарном круге из глины с примесью
крупнотолченого кварца (рис. 3). Обжиг хороший, хотя не вполне равномерный. На
поверхности сосуда (желтовато-серого цвета) местами едва заметные следы
лощения. Сосуд имеет довольно узкое горло, слабо отогнутый [с. 83] наружу
венчик и достаточно сильно выпуклые, округлые бока. По плечикам сосуда тянутся
два рельефных концентрических выступа, между которыми орнамент в виде
пролощеной ломаной линии. Сосуд имеет профилированный поддон. Высота сосуда
Возле черепа был найден миниатюрный костяной гребень (3.75:3.5 см) и полукруглым верхом, в средней части которого небольшое отверстие с продетым сквозь него колечком из тонкой бронзовой проволоки, служившим для подвешивания (рис. 4). Наряду с миниатюрными размерами гребня эта особенность свидетельствует о том, что гребень не имел реального назначения, а являлся подвеской. Форма гребня повторяет многочисленные образцы подобных изделий, известных в Черняховском могильнике и в других погребальных памятниках этого типа.
Около левого
плеча скелета найден фрагмент бронзовой арбалетообразной двухчастной фибулы с
короткой, сильно выгнутой ребристой спинкой и припаянным высоким держателем
иглы в виде ромбовидного щитка (рис. 4). У стыка щитка с дужкой перпендикулярно
припаяна пластинка с загнутым в трубочку концом (замок фибулы), в котором (до
реставрации) уцелел кусочек булавки из тонкого бронзового дрота. Пружина с
тетивой не сохранилась. Длина фибулы
Характерные
особенности описанного выше инвентаря позволяют отнести погребение, раскопанное
в
Поблизости от описанного погребения была найдена небольшая бронзовая литая бляшка овальной формы с рельефным изображением головы, окруженной звездчатым нимбом из пяти лучей [в упомянутой нашей статье “К вопросу о древнейшей истории Киева” (СA, X, 1948, стр. 250) изображение это ошибочно названо Горгоной]. Голова отлита отдельно и прикреплена к бляшке шпеньком, пропущенным насквозь и расклепанным на обороте. Длинные волосы, обрамляющие лицо, причесаны на прямой пробор. По краю бляшки рельефная узкая каемка, образующая несколько углубленный фон, заполненный темно-синей эмалью. В углублениях лучей нимба местами сохранилась эмаль кирпично-красного цвета. Возможно, что бляшка происходит из какого-нибудь погребения, современного вышеописанному (табл. I, 6).
Вблизи от
описанного выше погребения (в
Рис. 4.
Инвентарь погребений III—IV вв. Раскопки
Плохо
сохравшийся детский скелет лежал в вытянутом положении головой на запад. При
нем (у плечевых костей) найдены два колечка (диаметр 1.8 и
Открытые в 1908 и 1937 гг, на территории усадьбы Петровского (ныне усадьба Киевского исторического музея) погребения неоспоримо свидетельствуют о существовании на Андреевской горе могильника, относящегося к культуре полей погребений, причем заслуживает особого внимания наличие здесь погребений как древнейшего, так называемого зарубинецко-корчеватовского периода этой культуры, так и более позднего – черняховского.
Установленное археологическими исследованиями существование на Андреевской горе в течение весьма длительного периода могильника ставит нас перед новой, еще более важной задачей – отыскания поселения, с которым был связан этот могильник.
Задача эта чрезвычайно осложнена тем, что территория, на которой должны производиться эти поиски, почти сплошь была занята многократно возобновлявшимися жилыми и хозяйственными постройками последующих веков и в первую очередь постройками, связанными с жизнью княжеского двора XII-XIII вв., которые буквально стерли с лица земли остатки построек более древних периодов. К тому же в настоящее время в результате позднейших застроек систематические раскопки стали возможны лишь на незначительных по отношению к общей площади участках вокруг Десятинной церкви (бывш. усадьба Петровского, усадьба Слюсаревского, бывш. усадьба Десятинной церкви).
Памятники
культуры полей погребений, относящиеся к первой половине I тысячелетия н.э., не
ограничиваются остатками могильника на Андреевской горе, обнаруженными
раскопками 1908 и 1937 гг. Несомненные следы поселения этой поры открыты на
горе Киселевке. Еще раскопками Киевского исторического музея в
Раскопками
Института археологии АН УССР на горе Киселевке в
В верхнем слое найдены всего пять небольших фрагментов тонкостенной посуды, сделанной на гончарном круге, относящейся к черняховскому типу керамики, т. е. к III-IV вв. н.э. Три из этих пяти фрагментов происходят от одного сосуда темно-серого цвета; обломком другого сосуда является светло-серый черепок, украшенный лощением в виде зубчатой линии по матовому фону [там же].
К более
древнему периоду культуры полей погребений относятся найденные на глубине 4.0-
К этому же времени относятся два фрагмента римской амфоры с развдвоен-ными ручками, найденные на той же глубине [там же].
Никаких других предметов, характерных для культуры полей погребений, на Киселевке не было найдено. Отсутствие каких-либо признаков погребальных комплексов, в частности даже более или менее целых экземпляров глиняных сосудов, позволяет с большей вероятностью считать описанные выше находки остатками поселения, а не могильника.
Раскопками
Количество случайных находок памятников культуры полей погребений в различных районах современного города и в его окрестностях весьма значительно и увеличивается с каждым годом.
При раскопках
в
Сведения об
остатках “поселения римского времени” в районе ц.Спаса на Берестове [Київ. Провідник. – К., 1930, стр. 480], по-видимому,
опираются на находки под фундаментами церкви при раскопках П.П.Покрышкина в
В Киевском историческом музее хранятся несколько обломков серой глиняной посуды черняховского типа, изготовленной на гончарном круге, найденных на Сенной площади [I.М.Самойловський, ук. соч., стр. 155].
В
Разведками Института археологии, проведенными в 1945 и 1947 гг. на дюнных песках правого берега среднего течения р. Почайны, собраны обломки глиняной посуды корчеватовского типа [там же].
Перечисленные
серии памятников, относящихся к первой половине I тысячелетия н.э., число
которых неуклонно растет из года в год, свидетельствуют о том, как далек был от
истины А.А.Спицын, утверждая в
“в многочисленных киевских коллекциях древностей можно отметить только два предмета, относящиеся ко времени II-IV вв., да и тех местное происхождение сомнительно” [Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении, XXI, Киевская губ. – ЗРАО, т. XI, вып. 1-2, 1899, стр. 268-269].
Найденные в Киеве римские монеты, по мнению Спицына, тоже не доказывали существования здесь современного им значительного поселения.
Многочисленные находки керамики как зарубинецко-корчеватовского, так и черняховского типа, кладов римских монет и различных случайных вещей, в столь значительном, как показано выше, количестве в действительности неоспоримо свидетельствуют о существовании в течение первых веков нашей эры на территории будущего города значительно более древних поселений; находки же нескольких погребений той же эпохи способны рассеять последние сомнения в этом вопросе.
Необходимо остановиться, однако, на одном важном вопросе. Выше было сказано, что находки римских монет долгое время связывались исключительно с Подолом и отчасти с Печерском. В Верхнем Киеве находки этого типа дол[с. 88]roe время были вовсе неизвестны. Отсюда возникла мысль о том, что поселение первых веков нашей эры было расположено в Подольской части Киева, в устье Почайны [В.С.Иконников. Опыт русской историографии, т. II, кн. 1, стр. 165]. Этот же район Киева имел в виду В.Б.Антонович, когда в связи с публикацией Оболонского клада писал о существовавшем в IV в. на месте нынешнего Киево-Подола поселении, связанном торговыми сношениями по меньшей мере с побережьем Черного моря, а может быть, и с Византией [В.Б.Антонович. Описание Киевского клада…, стр. 244].
Топография известных ныне кладов, случайных находок и нескольких погребений существенно меняет наши представления о древнейшем поселении' или, вернее, поселениях на территории Киева. Находки, относящиеся к первой половине I тысячелетия н.э., встречены в самых различных районах Киева, весьма удаленных один от другого. Необходимо решительно предостеречь от того пути в трактовке этих находок, по которому пошел В.Г.Ляскоронский. Находки тех или иных кладов первых веков нашей эры он пытался связать с топографией позднейшего княжеского Киева, рассматривая тем самым поселение первых веков нашей эры не только как единый крупнейший по размерам город, но к тому же и как город, топография которого предопределила в основном топографию города Ярослава середины XI в.
Так, по поводу находки клада римских монет на Сенном базаре, В.Г.Ляскоронский писал:
“Эта находка римских монет весьма любопытна, ибо клад был зарыт около древней границы Киевской великокняжеской крепости, недалеко от так называемых Жидовских, или Львовских, ворот – т.е. возле того района, который с древних времен был известен своей интенсивной торговой жизнью” [В.Г.Ляскоронский, ук. соч., стр. 33 (перевод наш, – М. К.)].
Ссылаясь на
летописное известие
С этим же районом крепостных валов Ярославова города связывал Ляскоронский и замечательный клад, обнаруженный на Некрасовской ул., вновь повторяя, что эти оба клада наибольшие и наиболее ценные, найдены
“возле древней крепостной границы города Киева, а именно в той части города, которая была заселена торгово-промысловым людом и которую с давних пор называли “Жидовским городом”, или “Жидове”, как свидетельствуют наши летописи (Ипат. лет., стр. 198, 296 и пр.)” [там же].
Кроме того, по словам Ляскоронского, римские монеты находили
“по склонам того яра, который подводил к “Жидовским”, или “Львовским” воротам, игравшим, как известно, крупную роль в военно-стратегическом отношении, [с. 89] где происходили кровавые схватки между защитниками Киева и врагами, которые нападали на него” [B.Г.Ляскоронский, ук. соч., стр. 41].
Клад римских монет, найденный на Печерске, около Арсенала, Ляскоронский также пытался связать с топографией Киева XI-XIII вв., считая, что он обнаружен на дороге, которая соединяла древний Киевский кремль с Великой церковью Печорской лавры, проходившей через важные в истории Киева “Лядские ворота”, где был один из важных подступов к Старому Киеву [там же].
Находку на Караваевской ул. Ляскоронский также связывал с линией подходов к Старому Киеву с запада от р.Лыбеди в направлении на Золотые Ворота [там же]. Наконец, и Оболонский клад, по мнению Ляскоронского, найден в той части Подола, где были с древних времен ворота, которые вели на Подол [там же].
Вывод Ляскоронского о том, что большая часть кладов римских монет найдена на линиях древних путей, ведших к древнему Киеву с северо-запада, юго-востока и запада, приходится безусловно отвергнуть, ибо в основе этого вывода лежит ошибочное перенесение топографии Ярославова города XI в. на поселения первых веков нашей эры.
Если Ляскоронскому еще не могли быть известны наши выводы о существовании на территории Киева в VIII-Х вв. нескольких не связанных между собой поселений на Горе, на Подоле, на Киселевке и других, то факт существования в конце Х в. города Владимира, значительно меньшего по своей площади, чем город Ярослава 30-х годов XI в., был установлен историками и археологами Киева уже давно и был отлично известен Ляскоронскому.
Нам кажется, что в этих попытках связать разбросанные по огромной территории Киева клады римских монет первых веков нашей эры нельзя не видеть отголоска теории о существовании большого “Днепровского города”, тесно связанного торговыми и культурно-политическими связями с Римом, хотя сам Ляскоронский ни разу не назвал этот город ни Danparstadir, ни столицей Эрманарика.
Нам представляется исторически гораздо более реальной другая трактовка. Клады, случайные находки и погребения локализуются в основном в пяти районах Киева, весьма отдаленных один от другого.
В верхнем нагорном Киеве в районе Львовских ворот, т.е. в северном углу города Ярослава, найдены клады наиболее древние и наиболее богатые по своему составу.
Несколько поодаль к востоку, на Андреевской горе, в границах более позднего городища VIII-Х вв. обнаружен некрополь типа полей погребений. Погребальные комплексы, раскопанные на Андреевской горе, относятся как к раннему (корчеватовско-зарубинецкому), так и к более позднему (черняхов[с. 9]скому) типу культуры полей погребений. Ряд кладов и отдельные монеты найдены в северном углу Киева, на Подоле, у устья р.Почайны. Эти находки в основном относятся к III-IV вв. н.э. Несколько случайных находок римских монет и керамика как корчеватовского, так и черняховского типа обнаружены на горе Киселевке. Клад и несколько случайных находок найдены на Печерске и на путях к нему.
Топография находок первых веков нашей эры, локализующихся в указанных районах Киева, заставляет, на наш взгляд, вспомнить, что и памятники VIII-Х вв., найденные на территории Киева, также локализованы в нескольких разобщенных между собой районах, часть которых совпадает с районами находок первых веков нашей эры.
Изучая некрополи и городища VIII-Х вв. на территории Киева, мы предложили трактовать эти памятники не как части единого грандиозного города, а как остатки нескольких самостоятельных поселений, предшественников будущего Киева [М.К.Каргер. Дофеодальный период истории Киева по археологическим данным. – КСИИМК, I, 1939, стр. 9-10]. Нам представляется, что и в первые века нашей эры на территории будущего Киева существовало несколько небольших поселений, число которых определить точно пока еще невозможно.
Разнообразные и достаточно многочисленные памятники, систематизированные выше, не дают все же возможности раскрыть с желаемой полнотой социальный характер древнейших поселений, существовавших на территории Киева в первые века нашей эры. Слишком отрывочны, эпизодичны те факты, которыми мы пока располагаем.
Несомненна связь всех охарактеризованных выше памятников древнейшей истории Киева с культурой полей погребений. К сожалению, интерпретация социально-экономических и этнических основ этой культуры связана со многими, пока еще не преодоленными, трудностями, вызванными прежде всего совершенно недостаточной степенью изученности памятников. Только дальнейшее углубленное изучение этого периода истории Восточной Европы и, прежде всего, систематические раскопки хорошо сохранившихся поселений и могильников этой поры позволят уточнить историческое значение тех древнейших поселений на территории Киева, незначительные, случайные остатки которых в настоящее время можно рассматривать лишь как первые сигналы, направляющие дальнейшие поиски.
Большое количество римских монет, как в виде отдельных находок, так и в виде крупных кладов, а также находки различных изделий римского происхождения (светильник, камея, стеклянный бальзамарий, фибулы, перстень) свидетельствуют о несомненных связях этих поселений с периферией римского мира, с северным Причерноморьем, в частности. Однако изучение могильников и особенно поселений культуры полей погребений в Среднем Поднепровье, широко развернувшееся за последние два десятилетия, отнюдь не дает осно[с. 91]вания согласиться с В.Б.Антоновичем и В.С.Иконниковым, рассматривавшими Киев III-IV вв. в качестве какого-то “торгового поселка на устье Почайны” [В.С.Иконников. Опыт русскои]историографии, т. II, кн. 1, стр. 165].
5. “Антский период” в истории Киева
Клады римских монет и другие памятники культуры полей погребений на территории Киева не переходят за рубеж середины V столетия. Длительный период от середины V до второй половины VIII в. является наиболее темным в истории Киева. К этому времени можно отнести лишь несколько случайных находок ювелирных изделий, по своему характеру, однако, очень типичных для так называемого “антского периода” в истории Среднего Поднепровья.
Еще в начале
1890-х годов на М.Житомирской ул. были найдены большая бронзовая антропоморфная
фибула (табл.
II, 1) и серебряный браслет с сильно расширяющимися, круглыми
в сечении, полыми концами. Сведений об их совместной находке нет, но судя по
тому, что обе вещи одновременно попали в коллекцию Леопардова, весьма вероятно,
что они и найдены были одновременно. Обе вещи вместе со всей коллекцией
Леопардова поступили позже в Церковно-археологический музей при КДА и ныне
находятся в Киевском историческом музее [Н.И.Петров.
1) Коллекция древних предметов и монет, пожертвованных
Церковно-археологическому музею при КДА Н.А.Леопардовым. – Киев, 1895, стр. 36,
№№ 476 и 482; 2) Указатель Церковно-археологического музея при Киевской
духовной академии. 2-е изд., испр. и доп., Киев, 1897, стр. 269, № 790 и стр.
270, № 852; 3) Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея
при КДА, вып. IV-V. Киев, 1915, стр. 13, 17 и табл. VIII, 1 и IX, 1; Б.Эдинг.
Антропо- и зооморфные фибулы Восточной Европы. – Ученые записки Института
этнографии и национальных культур народов Востока, т. II, М., 1930, стр.
126-127 и рис.
Фибула,
найденная на М.Житомирской ул. (табл. II, 1), принадлежит к числу
наиболее крупных литых изделий этого рода. Она представляет изображение
человеческой фигуры, окруженной конскими головами. Киевская фибула почти
тождественна фибуле из клада, найденного в
Фибула с
М.Житомирской ул. не является единственной находкой этого рода на территории
Киева. В
“Потиновая
фибула, овальной формы; состоит из двух частей, соединенных короткой дужкой.
Под зацепкой для иглы – подобие головы, а над пружиной – подобие коротких ног;
вокруг всей фибулы – веревчатый поясок; длина
Рис. 5. Пара серебряных браслетов с расширяющимися полыми концами. Случайная находка на территории Старого города. Коллекция И.А.Хойновского. [с. 94]
В коллекции И.Хойновского находились еще две вещи этого же времени – пара браслетов с расширенными шестигранными полыми концами (рис. 5), найденные “в Старом городе, за Софийским собором” [И.А.Хойновский. Краткие археологические сведения…, стр. 103, № 613 и табл. V]. К сожалению, это довольно приблизительное указание не позволяет уточнить место находки.
По-видимому,
также в Киеве, на территории Верхнего города, были найдены пять серебряных
полых браслетов с расширенными гранеными и круглыми концами (рис. 6),
поступившие в Археологический отдел Киевского музея древностей и искусств в
С так называемыми “пальчатыми” или “лучевыми” фибулами долгое время неразрывно был связан эпитет “готские”. Эти своеобразные изделия обычно рассматривались в качестве одного из основных признаков распространения “готской культуры” на территории Восточной Европы. На основании именно этих фибул делались наиболее широкие исторические обобщения о роли готов в судьбах Восточной Европы [Б.А.Рыбаков, ук. соч., стр. 57].
Рис. 6. Пять серебряных браслетов с расширяющимися полыми концами. Случайная находка. [с. 95]
Изучая вопросы развития восточнославянского художественного ремесла, Б.А.Рыбаков подверг “готскую теорию” уничтожающей критике, убедительно показав, что широко распространенные в Поднепровье пальчатые фибулы не имеют ничего общего с готами. Основываясь на изучении типологической эволюции пальчатых и антропоморфных фибул Приднепровья и Крыма, Б.А.Рыбаков смог убедительно доказать не только полное отсутствие связи готской культуры с пальчатыми (лучевыми) фибулами Приднепровья, но и установить их местное средне днепровское происхождение [там же, стр. 57-70]. Начальный период местного производства бронзовых пальчатых (лучевых) фибул на Днепре, первоначально подражающих боспорским образцам, падает на первую половину VI в. В VII-VIII вв. пальчатые фибулы начинают развиваться в сложные ком[с. 93]позиции из антропоморфных фигур, птиц, зверей и змей и утрачивают сходство с прототипом [Б.А.Рыбаков, ук. соч., стр. 69]. К концу этого периода литые антропоморфные фибулы вырождаются в грубые плоские пластины. В крайне условной схематизированной форме человеческой фигуры этих пластинчатых фибул лишь с трудом можно признать отголоски объемной достаточно реалистической композиции более древних антропоморфных фибул [см., например, фибулы из с.Ивахники (колл. ГИМ) и из м.Самгородок (собр. В.Антоновича)]. Удивительно, что А.А.Спицын именно в этих поздних дериватах антропоморфных фибул усматривал наиболее архаический прототип их [А.А.Спицын. Мелкие заметки. К вопросу о происхождении так называемых готских фибул. – ЗРАО, XI. вып. 1-2, СПб., 1899, стр. 384].
Датировку
отдельных этапов типологической эволюции пальчатых и антропоморфных фибул
нельзя считать прочно установленной, но все же, опираясь в известной мере на
разработанную Б.А.Рыбаковым схему эволюции типов, следует, по-видимому, отнести
киевскую фибулу с М.Житомирской ул. ко времени не ранее VII в. По-видимому, недалека
от нее по времени изготовления и фибула из коллекции И.Хойновского, найденная в
Все это
позволяет относить фибулы и браслеты, найденные на территории Киева, к VII-VIII
вв. К этому же времени относится бронзовая византийская монета, найденная в
Перечисленные выше ювелирные изделия, несмотря на случайный характер находок, несомненно свидетельствуют о том, что в “антский период” на территории Киева существовали какие-то славянские поселения, преемственная связь которых с предшествующими поселениями эпохи полей погребений, пока отнюдь не может считаться бесспорно доказанной.
Как известно, облик материальной культуры “антского периода”, в частности, характер поселений, тип жилищ, даже керамика, остаются до настоящего времени загадкой.
В этой связи
заслуживают особого рассмотрения результаты раскопок Института археологии АН
УССР в
Керамика этого культурного слоя резко отличалась от керамики вышележащего слоя, относящегося к IX-Х вв. Она представлена фрагментами лепных сосудов двух видов. К первому принадлежат обломки достаточно больших сосудов, по форме приближающихся к сосудам баночного типа, со слегка отогнутыми венчиками или же почти прямые. Эти сосуды были орнаментированы волнистыми или прямыми линиями, исполненными гребенчатым инструментом, или же рядами отдельных, чаще всего волнистых линий. На одном из таких фрагментов орнамент имеет вид соединенных в одну линию полукругов [там же].
Вторая разновидность керамики представлена толстостенными черепками неорнаментированных сосудов грубой выделки. Среди них часто встречались обломки толстых сковородок с очень низким краем.
Обе эти разновидности керамики были отнесены к VI-VII вв. Подтверждение указанной датировки исследователь усматривал в разновременных случайных находках на Киселевке медных византийских монет (фолисов), чеканенных при императорах Анастасии I (498-518) и Юстиниане I (527-565) [там же].
Отнесенный ло
составу керамических находок к VI-VII вв. культурный слой на Киселевке со
времени раскопок
Не следует
забывать, что этот важнейший для ранней истории Киева вывод был сделан на
основании раскопок, носивших скорее разведочный, чем стационарный, характер.
Нужно помнить, что раскопками
Но наиболее серьезные трудности для окончательного решения проблемы “антского периода” в истории Киева заключаются в неразработанности вопросов хронологической атрибуции восточнославянской керамики VI-VII вв. Если керамическое производство культуры полей погребений III-IV вв. за последние годы подвергалось серьезным исследованиям, если достаточно глубоко изучалась керамика поселений роменско-боршевского типа VIII-Х вв., то керамика VI-VII вв. остается доныне почти неведомой. Попытка связать с VI-VII вв. керамику таких поселений, как Лука Райковецкая или нижние слои Райковецкого городища [В.К.Гончаров. Райковецьке феодальне городище XI-XIII ст. – Вісник АН УРСР, К., 1948, № 7, стр. 49. Ср. его же книгу “Райковецкое городище” (Киев, 1950, стр. 13), где те же поселения отнесены к VIII-IX вв.], не имела успеха.
Датировка описанных выше керамических находок на Киселевке VI – VII вв., на наш взгляд, также не имеет серьезных оснований. Углубленное изучение материальной культуры восточного славянства VI – начала VIII в. является одной из важнейших задач советской археологии. [с. 97]
Поселения VIII—X вв. на территории Киева
Не в худе бо и не в неведоме земли владычествовашя, но в Русьской, яже ведома и слышима есть вьсеми коньци земля.
Иларион. Слово о законе и благодати (середина XI в.).
1. Городище на Андреевской горе
Рис. 7.
Профиль рва древейшего Киевского городища. Раскопки
Еще в
Ров, глубина
которого достигала
В
Корреспондент
газеты “Киевская мысль” сообщал также о том, что в августе
Назначение рва и место его в развитии исторической топографии города осталось невыясненным.
Не только в то время, когда работал Д.В.Милеев, но и значительно позже, вплоть до недавнего времени, считалось, что древнейшим ядром Киева является так называемый “Владимиров город”, т.е. город в тех границах, которые при Владимире Святославиче были ограждены земляными валами с каменными башнями. О существовании более раннего городища, предшествовавшего “городу Владимира”, никто тогда не подозревал.
Раскопки
1936-1937 гг. на территории бывш. усадьбы Петровского и наши раскопки
Продолжение
этого рва было обнаружено шурфом на участке, расположен-дом в 10-
Продолжение
рва было прослежено в
Рис. 8. Разрез
рва древнейшего Киевского городища. Раскопки
Между только
что описанными двумя участками рва находится тот участок, который в 1909-1912
гг. был раскопан Д.В.Милеевым. Судя по замечанию С.Вельмина [С.Вельмин, ук. соч., стр. 140] и чертежу
самого Милеева [архив ИИМК АН СССР, ф. АК]
(рис.8), ров был им обнаружен в
Раскопками
Последний
участок рва был обнаружен нашими раскопками
Вскрытые в 1909-1912 и 1936-1939 гг. участки рва позволяют установить основную трассу этого сооружения. Начинаясь от северного обрыва Андреевской горы (бывш. усадьба Петровского), ров имеет направление сначала к югу, а потом несколько сворачивает к юго-западу, проходя вдоль северной стены Десятинной церкви. Выходя затем за границу усадьбы Десятинной церкви, ров проходит через юго-восточную часть бывш. усадьбы Петровского и выходит в сад усадьбы Слюсаревского. Дальнейшее направление его нe было установлено, но можно предположить, что, пересекая Десятинный пер., ров заканчивается у обрыва Андреевской горы над Кожемяками.
В
Установленная раскопками трасса рва не оставляет никаких сомнении в назначении этого сооружения. Прежде всего ров отнюдь не связан с Десятинной церковью. Наоборот, он проходит так близко от северной стены Десятинной церкви, что, надо думать, сооружение последней стало возможным лишь после предварительной засыпки рва. Уже из этого следует, что существование этого сооружения закончилось не в XIII в., как утверждал С.Вельмин, а значительно раньше, во всяком случае не позже конца Х в. [с. 102]
Terminus ante
quern устанавливается, однако, не только на изложенном выше основании.
Раскопками
Весьма существенные данные о времени существования рва дали находки в его нижних слоях и особенно находки, в значительном количестве обнаруженные на дне рва. В отличие от находок, обнаруженных на поверхности рва, относящихся к XI-XIII вв., находки на дне его состояли в основном из фрагментов грубой лепной керамики и костей. Изучение погребений киевского некрополя убеждает нас в том, что уже в Х в. в Киеве была распространена керамика, хотя и грубая по составу глины и несовершенная по обжигу, но все же сделанная уже на гончарном круге. Распространение в Киеве лепной керамики того типа, который представлен находками со дна рва, относится, по-видимому, к VIII-IX вв., а иногда и к более раннему периоду.
Все это приводит к выводу, что ров, обнаруженный на территории древнего Владимирова города, представляет остаток более древней оборонительной линии Киевского городища, расположенного на западной оконечности Андреевской горы, защищенного с запада и с севера крутым обрывом этой горы. Этот ров и, очевидно, находившийся за ним земляной вал ограждали Киев VIII-Х вв. За рвом древнейшего городища к востоку и к югу был расположен древний курганный могильник, изучение которого дало исключительной научной ценности материал для реконструкции облика древнейшего Киева [М.К.Каргер. 1) Дофеодальный период истории Киева по археологическим данным. – КСИИМК, I, 1939, стр. 9-10; 2) К вопросу о Киеве в VIII-IX вв. – КСИИМК, VI, 1940, стр. 61-66]. Территория этого могильника была очень значительна, во много раз превосходя площадь самого городища.
В конце Х в.
старые городские укрепления были уже недостаточны для разросшегося города.
Владимир Святославич обносит новым валом и рвом разросшийся город. Древний ров,
оказавшийся в черте нового города, был засыпан, а языческий курганный
могильник, расположенный теперь в центре нового города, уничтожен и застроен.
На площади могильника в
Рис. 9. План
жилища с лепной керамикой. Усадьба Киевского исторического музея (бывш. усадьба
Xудожественнои школы). Раскопки
Сказанное
делает понятным, какой исключительный интерес вызывает полуземлянка,
раскопанная Киевской экспедицией.
Рис. 10. Печь из жилища с лепной керамикой [с. 105]
В северо-западном углу была обнаружена удовлетворительно сохранившаяся глиняная печь, имевшая форму вытянутого прямоугольника с провалившимся сводчатым верхом (рис. 10). Задняя часть печи уничтожена поздней траншеей, прорезавшей полуземлянку. Под печи хорошо обожжен и представлял собой плотную глиняную основу, неоднократно подновлявшуюся путем подмазки. Характерной для киевских полуземлянок XI-XIII вв. набивки пода битой глиняной посудой или кирпичом здесь нет. Полуземлянка имеет [с. 104] прямоугольный план, с трех сторон можно было проследить слабые следы обожженных глиняных стенок, четвертая стенка не сохранилась совершенно, и граница полуземлянки с этой стороны установлена исключительно по контуру обожженного пола.
Рис. 11. Глиняная обмазка с отпечатками прутьев. [с. 106]
На полу землянки в слое золы и угля были найдены куски обожженной глины с отпечатками прутьев (рис. 11). Эти куски по характеру обжига и по величине, по-видимому, не связаны с печью, они являются частями стен полуземлянки, плетенных из прутьев и обмазанных глиной. Эти куски позволяют реконструировать облик наземных частей жилища
В числе находок на полу жидища, помимо костей животных, необходимо отметить небольшое количество фрагментов грубой лепной керамики На полу полуземлянки и за ее пределами было обнаружено несколько глиняных пряслиц.
Состав этих находок позволяет отнести раскопанную нами полуземлянку к числу жилищ древнего поселения, существовавшего на Андреевской горе в VIII-Х вв.
2. “Капище” и вопросы его реконструкции
В средней части
довладимирова городища на Андреевской горе раскопками В.В.Хвойки в
“Среди
остатков различных сооружений, по-видимому, самыми древними являются остатки
каменного фундамента какого-то загадочного сооружения. Фундамент этот состоял
из различных по величине камней серого песчаника, принимавших иногда причудливые
очертания, а иногда имевших сквозные отверстия. Камни эти были сложены на
глине, образуя эллиптическую фигуру (
Совокупность всех данных, полученных при раскопках загадочного сооружения, приводила исследователя к выводу о ритуальном характере его и позволяла отнести время постройки его к языческому периоду.
“Весьма вероятно, – писал В.В.Хвойка, – что остатки эти принадлежат славянскому языческому капищу, а столб представляет жертвенник, на котором в течение продолжительного времени совершались жертвоприношения, на что указывают многочисленные кости животных и слои глины, чередующиеся с прослойками золы и угля” [там же].
Последнее обстоятельство автор объяснял тем, что “временами жертвенник выравнивался и на него накладывался новый слой глины, почему в конце концов и образовался высокий массивный столб” [там же].
Рис. 12.
Капище. Раскопки
Это описание В.В.Хвойка сопроводил рисунком (рис. 12), опубликованным впервые К.Болсуновским [К.В.Болсуновский. Жертвенник Гермеса-Световида. Мифологическое исследование. Киев, 1909, табл. I. Вскоре после раскопок по материалам В.В.Хвойки был сделан макет капища, находящийся ныне в Киевском историческом музее (рис. 13)]. По этому рисунку, весьма далекому по манере исполнения от обмерного чертежа, чрезвычайно трудно составить представление об общем характере постройки и тем более о ее деталях. Отсутствие разре[с. 106]зов и каких-либо описательных данных по стратиграфии увеличивают трудности расшифровки этого действительно загадочного сооружения.
Рис. 13. Капище. Макет. Киевский исторический музей. [с. 109]
Предпринимавшиеся
не раз попытки реконструкции первоначального облика киевского капища шли по весьма
различным направлениям. Открытый летом
Сам К.В.Болсуновский вскоре опубликовал брошюру, посвященную киевскому сооружению, в которой весьма наивно пытался связать открытый В.В.Хвойкой “жертвенник” с культом славянского бога Световида. Связывая четыре выступа киевского жертвенника с тем, что и известный Збручский идол имел четыре головы и вообще был четырехсторонним, а также с тем, что в культе греческого Гермеса и римского Меркурия “неизменно фигурируют четыре символа, а самые гермы – всегда четырехсторонние столбы – отвечали четырем сторонам горизонта”, К. Болсуновский приходил к смелому выводу, что открытый на Киевской горе жертвенник и очаг должен рассматриваться как “остаток фундамента, на котором стоял идол солнца Световид, как бы его здесь не называли” [там же, стр. 12]. К.В.Болсуновский был убежден, что приводимые им аналогии между [с. 107] культами греческого Гермеса, с одной стороны, и славянским солнечным божеством под названиями Дажьбога, Богара, Ярыла и Световида, с другой, не оставляют сомнения в том, что “местные славяне заимствовали этот культ в глубокой древности из общего праарийского источника – быть может, из Индии или Китая” [К.В.Болсуновский, ук. соч., стр. 12].
Большой интерес к киевскому капищу проявил Л.Нидерле. Сравнивая киевское капище с остатками языческого храма, раскопанного в Арконе, Л.Нидерле затруднялся решить, было ли открытое в Киеве сооружение “настоящим языческим храмом” (подобно храму в Арконе), или же “святилищем под открытым небом” с жертвенником, склоняясь, по-видимому, ко второму решению [L.Niеdеrlé. Manuel de l'antiquité slave, t. II. La civilisation. Paris, 1926, стр. 155; ср.: L.Niеdеrlе. Slovanské starožytnosti. Život starych slovanů, II, 1. Praha, 1924]. Этого же мнения придерживался и новейший исследователь языческих храмов западных славян Ф.Пальм [Th.Palm. Wendische Kultstatten. Lund, 1937, стр. 143-144], а также Л.А.Динцес [Л.А.Динцес. Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства. – Сов. этнография, 1947, № 2, стр. 75], полагавший, что найденные здесь обгорелые бревна позволяют предполагать то ли ограду, то ли деревянные стены. Л.А.Динцес считал вероятным, что открытый В.Хвойкой памятник был “требищем с требником перед капищем” [там же].
Иначе трактовал киевский памятник Н.И.Брунов, рассматривавший раскопанные В.В.Хвойкой остатки загадочного сооружения как фундаменты каменного “языческого храма, имевшего вид эллиптической башни, с пристроенными к ней четырьмя небольшими прямоугольными притворами в форме креста” (!) [Н.И.Брунов. Беларуская архігэктура XI-XII ст. Зборнік артикулаў, Менск, 1928, стр. 301-302]. Убежденный в том, что корни самобытной “белорусской” архитектуры XI-XII вв. лежат в языческом зодчестве древней Руси, Н.И.Брунов усматривал огромную роль киевского “храма” для “белорусского”, т.е. полоцкого и смоленского, зодчества XI-XII вв., утверждая, что сходство киевского “храма” с башнеподобными полоцко-смоленскими храмами и прежде всего с композицией Смоленского храма Михаила (в Свирской слободе) бросается в глаза [там же].
Позже Н.И.Брунов вновь вернулся к киевскому языческому “храму” в статье, посвященной вопросу об истоках древнерусского зодчества. Новая попытка представить первоначальный облик этого сооружения была еще смелее и фантастичнее. Вот как описывал Н.И.Брунов киевское “капище”:
“Очень важным памятником являются остатки языческого храма, раскопанные в Киеве, около Десятинной церкви. Обнаружена овальная площадка (7:5:2 арш.), окаймленная низкой стеной (?! – М. К.), сложенной из неотесанных камней. Стена имеет четыре прямоугольных выступа. На самой площадке найдено основание столба (?! – М. К.) (может быть, фигуры идола) и остатки жертво[с. 108]приношений. По-видимому, четыре каменных выступа овальной площадки служили основанием для четырех деревянных столбов (?! – М. К.), несших кровлю над жертвенной площадкой и фигурой идола. Вокруг овальной площадки выложен пол из глины, что указывает на крытый характер помещений, окружавших площадку. Возможно, что расположенные по прямоугольнику стенки являлись основанием деревянных стен храма с четырьмя внутренними столбами (?! – М. К.), между которыми помещалась на площадке фигура идола. В таком случае киевский храм оказался бы похожим на храм в Арконе” [Н.И.Брунов. К вопросу об истоках русского зодчества. – Вестник АН СССР, 1944, № 6, стр. 58-59].
Нет
необходимости доказывать, что “низкая стена, окаймляющая площадку, сложенная из
неотесанных камней”, “основание столба, а может быть, даже фигуры идола”,
“четыре деревянных столба, возвышавшихся над выступами каменной стены, несших
кровлю над жертвенной площадкой и фигурой идола” и, наконец, “деревянные стены
прямоугольного в плане храма с четырьмя деревянными внутренними столбами” – все
это лишь плод необузданной и неконтролируемой фактами фантазии, столь же легко
превращающей киевское капище то в деревянный четырехстолпный храм со статуей
идола в середине [там же, стр. 59], то в
каменный храм, имевший вид “эллиптической башни с четырьмя небольшими
прямоугольными притворами в общей форме креста” [Н.И.Брунов.
Беларуская архітэктура XI-XII ст., стр. 301]. Вовсе не считаясь с
описанием открытых в
Рис. 14.
Капище. Общий вид. Раскопки
Вновь
открытое раскопками
С южной
стороны под каменную кладку уходил слой утрамбованной светло-желтой глины
толщиной около
У западного
выступа сооружения, ниже его на
На расстоянии
Едва ли возможно согласиться с выводом, к которому в результате повторных раскопок склонялись исследователи загадочного капища, усматривавшие в этом сооружении фундамент какой-то постройки типа башни и сомневавшиеся в культовом назначении ее [там же].
Если раскопки
По характеру каменной кладки открытое В.Хвойкой сооружение скорее можно сближать с каменными выкладками, обнаруживаемыми иногда в основании древнерусских курганов, в частности в сопках, что позволяет рассматривать киевское сооружение как жертвенное место, облик которого восстановить с желательной полнотой удастся лишь в случае новых открытий памятников подобного рода.
Результаты археологических исследований последних лет на территории древнейшего Киева позволяют по-новому понять некоторые вопросы, связанные с местоположением капища в городе VIII-Х вв.
Капище расположено сейчас почти в центре довладимирова Киева. Нельзя не обратить внимания на то, что в ближайшем окружении капища обнаружены все известные доныне погребения первых веков нашей эры. Не является ли это свидетельством о том, что капище и в VIII-IX вв. находилось не в центре поселения, а скорее на его окраине, на территории древнего родового могильника, уже заброшенного, но не вполне забытого. Вполне вероятно, что значительная часть городища да Андреевской горе разрушена в результате оползней.
Необходимо подчеркнуть, что Владимир Святославич в конце Х в. воздвигая новое святилище, поставил новые кумиры за пределами городского вала, [с. 111] “вне двора теремного”, в отдалении от древнего капища, тем самым как бы отделив общегосударственный пантеон богов для общенародного почитания от более древнего капища, стоявшего на древнем родовом полузабытом кладбище.
Л.А.Динцес высказывал правдоподобное предположение, что это древнейшее капище было связано с культом дружинно-княжеского бога Перуна, перед которым клялись Олег, Игорь и Святослав [Л.А.Динцес, ук. соч., стр. 76].
3.
Остатки других городищ
на территории Киева
В 1870-х
годах в связи с чрезвычайно интересными находками нескольких древних погребений
на Кирилловской ул. (в усадьбе Марра) привлекли внимание остатки поселения, расположенного
на горе над Иорданской церковью. В.Б.Антонович, связывавший это поселение с
летописным названием юры Хоревица, считал, что этот район Киева был “в
доисторическое время многолюдным и торговым центром”, о чем свидетельствовали
найденные здесь клады куфических монет IX-Х вв. и погребения той же поры [В.Б.Антонович. О древнем кладбище у Иорданской
церкви в Киеве. – Тр. IV АС в Казани (1877), т. I, Казань, 1884, стр. 42-43].
В докладе об археологических находках и раскопках в Киеве в
К сожалению, увлеченный кладами и погребениями, открытыми в районе Иорданского кладбища, В.Б.Антонович не уделил ни малейшего внимания городищу, расположенному на горе над Иорданской церковью и кладбищем.
В.В.Хвойка,
занимавшийся в 1890-х годах обследованием этой же местности, нашел интересующее
нас городище уже разрушающимся и тоже не подверг его серьезному
археологическому исследованию. В настоящее время, как показало наше
обследование этого района в
Остатки еще
одного славянского поселения VIII-Х вв., расположенного на северо-западном
склоне горы Киселевки, близ ручья Киянки, впадавшего недалеко от этого места в
приток Почайны – речку Глубочицу, были открыты раскопками Киевского
исторического музея в
К числу находок в этом слое относится прежде всего характерная керамика. Это обломки горшков, изготовленных на гончарном круге, с орнаментацией в виде неглубоких борозд, покрывающей почти всю поверхность сосудов. Посуда этого типа хорошо известна в различных курганных могильниках Х в., в том числе и в киевском некрополе. Наряду с посудой этого типа в этом же слое встречались и фрагменты лепной керамики.
По-видимому,
к этому же времени нужно отнести значительную часть лепной и гончарной
керамики, обнаруженной на Киселевке раскопками Киевского исторического музея в
Среди
керамики из раскопок
Среди
керамики с Киседевки часты также фрагменты от сосудов типа плоской сковороды с
невысоким (порой не более
Характерной особенностью керамики с Киселевки является также обработка венчиков сосудов ямками, сделанными или концом пальца, или защипом двумя пальцами. Венчики обычно очень мало отогнуты наружу, а норой и совсем вертикальны [там же, стр. 58].
Попытку отнести описанные разновидности керамики с Киселевки к VI-VIII вв. [там же, стр. 54] нужно решительно отклонить, так же как отклонена эта датировка в отношении керамики роменско-боршевского типа. Охарактеризованная керамика с Киселевки наряду с аналогичной керамикой, обнаруженной на ряде городищ конца VIII-Х вв. на правобережье Днепра, является несомненным свидетельством того, что так называемая “роменская культура” отнюдь не является особенностью, присущей лишь Днепровскому левобережью в VIII-Х вв. [с. 113]
Среди других
находок на Киселевке заслуживают внимания костяные проколки в виде расколотых
костей с заостренным концом, обломок костяного одностороннего гребня,
состоящего из пластинок, скрепленных железными гвоздиками и орнаментированных
тремя поперечными полосками из нарезных линий. Тут же была найдена плоская
расколотая продольно кость с глубокими выемками на концах (один конец был
наполовину обломан). Этот предмет мог служить для плетения рыболовных сетей; он
найден возле развалин жилища. Из числа металлических предметов следует
упомянуть небольшой (
Раскопками
На расстоянии
около
Для
дополнительной характеристики поселения на Киселевке необходимо напомнить, что
еще в
Ни одного погребения IX-Х вв. на Киселевке не найдено. Могильник этого городища был, очевидно, расположен где-нибудь за пределами горы [там же]. Остатки его до сих пор обнаружить не удалось.
Остатки
поселения IX-Х вв., обнаруженные в
Как свидетельствует начальная история многих древнерусских городов, восстановленная ныне благодаря археологическим исследованиям этих городов, древнейшая история Киева отнюдь не представляла собой исключительного случая. Из нескольких городищ, существовавших в VIII-Х вв., возник, по-видимому, в Х-XI вв. главный город кривичей Смоленск.
Такую же картину представлял, вероятно, и древний Чернигов, на территории которого археологическими исследованиями последних лет установлено наличие нескольких поселений VIII-Х вв. [В.А.Богусевич. Про топографію древнього Чернігова. – Археологія, V, К., 1951, стр. 121] На территории Чернигова сохранилось, кроме того, несколько далеко отстоящих один от другого курганных могильников, связанных когда-то с различными небольшими поселениями.
Изучение исторической топографии древнего Суздаля также привело к выводу о том, что образованию города предшествовало несколько самостоятельных поселений на его будущей территории [А.Д.Варганов. Суздаль. – “Сокровища русского зодчества”, М., 1944, стр. 3].
Группа поселений, расположенных близко одно к другому, находилась на месте древней Твери, причем археологическими исследованиями последних лет было установлено, что жители этих поселений занимались неземледельческими промыслами [П.Н.Третьяков. Восточнославянские племена. – М.-Л., 1948, стр. 159]. [с. 115]
Едва ли можно согласиться с мнением П.Н.Третьякова, утверждавшего, что гнезда селений, существовавшие на месте многих восточнославянских городов, “окружали, несомненно, места древних торжищ” [П.Н.Третьяков, ук.соч., стр. 158]. Это мнение, отражающее в несколько модернизированном виде все ту же “торговую теорию” происхождения древнерусских городов, не находит подтверждения ни в письменных, ни, тем более, в археологических материалах.
Несколько небольших поселений, существовавших в VIII-Х вв. на территории ряда древнерусских городов, в процессе феодализации, особенно усилившемся в Х в., сливались в один крупный город, центром которого становилось одно из наиболее выгодно расположенных и наиболее сильных древних поселений.
Учитывая именно эти археологически установленные факты древнейшей истории Киева, Д.С.Лихачев писал:
“Уместно поставить вопрос: не отражают ли и другие предания (кроме киевского. – М. К.), записанные в летописях о братьях-родоначальниках (Радиме и Вятке, Рюрике, Синеусе и Труворе), легендарного осмысления реального союза или слияния племен в единое государственное целое: союз двух племен мог повести к созданию легенды о том, что родоначальники этих племен были братьями. Перед нами, возможно, исторические предания, обладающие отчетливой политической функцией. Как и во многих других случаях, народное предание не только под пером летописца получает политическое звучание, но обладает им уже с самого начала” [Повесть временных лет, ч. II. Статьи и комментарии Д.С.Лихачева. М.-Л., 1950, стр. 221].
4.
Клады и отдельные находки арабских и византийских монет IX – Х вв.
на территории Киева
Еще в середине 19 века, задолго до того, как внимание исследователей древнейшей истории Киева привлекли остатки древних городищ и могильников, сохранившиеся на территории города, живой научный интерес вызвали богатейшие по своему составу клады восточных, куфических монет, случайно обнаруживавшиеся в различных концах города.
Один из
крупнейших кладов куфических монет был найден в Киеве еще в
“в прошлом, 1707 году, июля в 28 день писал к Великому Государю в Приказ Малые России бывший гетман Мазепа с войсковым канцеляристом с Иваном Максимовичем и прислал ассирийской (!) монеты в мешке за его гетманской печатью” [Е.В.Барсов. О кладе, найденном в Киеве при Петре Великом. ДТМАО, IX, вып. II-III, 1883, Протоколы, стр. 23].
Из донесения гетмана Мазепы явствовало, [с. 116] что присланная монета “была сыскана в Киеве во время строения новой крепости Печерской” [там же]. По распечатании мешка по точному подсчету в нем оказалось 2380 монет, из которых 10 были отправлены Петру I, находившемуся в походе [там же, стр. 22].
Мешок с
“ассирийской” монетой записывался по приходной книге в остатке вплоть до
В первых
сводных обзорах находок куфических монет на территории Восточной Европы,
сделанных X.Френом [Ch.M.Fraehn. Topographische
Uebersichte der Ausgrabungen von altem arabischen Gelde in Russland, nebst
chronologischer und geographischer Bestimmung des Inhalts der verschiedenen
Funde. – Bulletin scientifique, publié par l'Académie des
Sciences de St.Pétersbourg, t. IX, 1841, стр. 301-332],
В.В.Григорьевым [В.В.Григорьев. О куфических
монетах VIII, IX, Х и отчасти VII и XI в., находимых в России и прибалтийских
странах, как источниках для древнейшей отечественной истории. – Записки
Одесского общества истории и древностей, т. I, Одесса, 1844, стр. 115-166]
и П.С.Савельевым [П.С.Савельев. Мухаммеданская
нумизматика в отношении к русской истории, I. Топография кладов с восточными
монетами и изделиями VII, VIII, IX, Х и XI в. в России и прибалтийских странах,
объясненная историческими свидетельствами о торговле северо-востока Европы в
эпоху основания и утверждения Русского государства. СПб., 1846], никаких
упоминаний о находках кладов в Среднем Поднепровье, в том числе и о Киевском
кладе
Краткое
известие о кладе
Точных сведений
о составе клада
Почти
полтораста лет спустя после находки первого клада, в
“На мусульманском Востоке, – по словам П.С.Савельева, – долго не знали никакой другой монеты, кроме диргема. Представителем меньших ценностей была мелкая медная монета „фельс". Она, разумеется, не выходила из пределов страны, и ни в одном кладе с куфическими монетами на Севере не вырыто доселе медных денег, так же как золотых” [П.С.Савельев. Мухаммеданская нумизматика…, стр XXX].
В
Некоторые,
далеко не полные данные о составе клада
Шестьдесят монет из этого клада приобрел П.С.Савельев, это были: а) аббасидские диргемы, битые в Багдаде, Мухаммедии, Аббасии, Мах-аль-Куфе (Хама[с. 118]дане), Бердаа (771-890); б) тагеридские диргемы, чеканенные в Шаше, Мерве и Самарканде (862-878); в) саманидские диргемы из Шаша, Самарканда и Балха (893- 906) [Р.Savelieff. Monnaies coufiques d'argent, trouvées a Kiew en 1851. – Memoires de la Société Imp. d’archéologie, t. V, 1851, стр. 397-398; В.Г.Тизенгаузен.О саманидских монетах, стр. 52-53; А.Марков, ук. соч., стр. 13].
Двадцать пять монет из этого же клада были пожертвованы И. Фундуклеем Русскому археологическому обществу в Петербурге. По определению П.С.Савельева, это были: а) восемь аббасидских диргемов, битые в Багдаде, Аббасии, Самарканде, Нисабуре, в Мах-аль-Куфе и в Бердаа (776-891); б) одна тагеридская монета, битая в Мерве в 251 (865) г.; в) тринадцать саманидских диргемов, битые в Самарканде,.Шаше, Балхе и Андерабе (897-906); г) три подражания саманидским диргемам, чеканенные, вероятно, в Булгаре [П.С.С [авельев]. Куфические монеты из Киевского клада, поступившие в Музей Общества. – ЗРАО, т. IV, СПб., 1852, Переч. засед., стр. 121-122; А.Марков, ук. соч., стр. 13].
Двадцать пять
серебряных куфических монет, по-видимому из этого же клада, были пожертвованы в
том же году И.Фундуклеем в Минц-кабинет Киевского университета. По определению
К.Страшкевича, это были монеты Аббасидов, Саманидов и, возможно, династии
Омейядов. По словам К.Страшкевича, монеты были “большей частью одинакового
штемпеля, но различных годов” [К.Страшкевич.
Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета св. Владимира с 1838 по
Пять серебряных
монет из Киевского клада
Значительная
часть клада
Особого внимания
заслуживает находка в кладе
“золотое запястье, состоящее из двух толстых скрученных вместе проволок, уменьшающихся в объеме к оконечностям, которые не соединены между собой, но только сближены и могут быть разогнуты для того, чтобы прошла между ними рука средней величины, скорее женской, нежели мужской” [М.Brosset. Notice sur les monnaies coufiques, trouvée à Kieff et deposees a l’Ermitage imperial. – Journal de St. Pétersbourg, 1851, № 1575].
В
действительности в кладе
Несмотря на
то, что дошедшие до нас части Киевского клада
В
В
За исключением одного диргема (911-912 гг.), поступившего в Эрмитаж, Иорданский клад был целиком приобретен Минц-кабинетом Киевского университета [Архив ИИМК АН СССР, фонд АК, д. 6/1863 г., лл. 5-18], откуда позже был передан в Киевский исторический музей, где находится и поныне.
Монетная часть клада, по определению Лерха, состоит из одного тагеридского диргема, чеканенного в Фарсе в 293 (905-906) г., и ста семидесяти восьми [с. 120] саманидских диргемов, битых в Шаше, Самарканде, Нисабуре, Балхе, Андерабе, Пенджхире и Мерве в 895-936 гг.
В кладе
находилось, кроме того, двенадцать подражаний саманидским диргемам Насра, сына
Ахмеда, чеканенным в Самарканде [В.Т[изенгаузен].
О кладе куфических монет, найденном в Киеве в
Клад был зарыт в землю, очевидно, не ранее середины Х в.
Девять монет Иорданского клада (904-925 гг.) имеют пробитые отверстия [В.Тизенгаузен (ук. соч., стр. 138) упоминает восемь монет Иорданского клада, имеющих отверстия для подвески; в действительности их девять], а в двух случаях, кроме того, припаянные ушки для подвешивания. По-видимому, вместе с упомянутой выше круглой подвеской, украшенной зернью, эти монеты составляли некогда ожерелье. Возможно, что подвеска и монеты были нанизаны на тот кусок тонкой серебряной перегнутой проволоки, которая была найдена в том же кладе.
Серебряная тисненая, покрытая зернью круглая подвеска и пластинчатые с гравировкой серебряные перстни могут быть отнесены к началу Х в., т.е., по-видимому, современны поздним монетам клада.
В
В
В
В
Находки арабских монет продолжаются и поныне. В 20-х годах нашего столетия при прокладке подземных труб были найдены четыре диргема, которые, по определению Р.Р.Фасмера, оказались все чеканенными халифом Амином в Самарканде в 194 (809-810) г. [Р.Р.Фасмер. Список монетных находок, II. – Сообщения ГАИМК, II, Л., 1928, стр. 290]
В
Более ста лет тому назад В.В.Григорьев, придававший огромное значение изучению кладов арабских монет, найденных на территории Восточной Европы, в качестве источника для изучения древнейшей отечественной истории, писал:
“Подземные сокровища эти могут служить краеугольным камнем древнейшей истории нашего отечества. Это современники VII, VIII, IX, Х и XI веков, над которыми невидимо пролетело тысячелетие, для которых десять столетий прошли как десять минут и которые выходят к нам из гробов свидетельствовать истину, не прибавляя, не убавляя ни единого слова; современники, сохранившие всю свою свежесть, которых мы можем разглядеть, ощупать, которые позволяют нам убедиться всеми чувствами, что они существенность, действительность, истина, а не призрак, не миф, не сказка, не анахронизм, не описка переписчика, не вставка позднейшего компилатора!” [В.В.Григорьев, ук. соч., стр. 150-151].
Клады и отдельные экземпляры восточных куфических монет, найденные в различных районах Киева, представляют драгоценный источник для изуче[с. 122]ния древнейшей истории города. Не раз предпринимались попытки исторического истолкования этих характерных находок.
Так, еще В.Антонович рассматривал эти клады как результат походов русских князей в Табаристан (880, 910 и 914 гг.) или же, что сам автор считал более правдоподобным, “как результат торговых сношений с нынешним Туркестаном, которые производились в IX и Х столетиях, при посредстве камских болгар” [В.Б.Антонович. О монетных кладах, найденных в Киеве и его окрестностях. ЧИОНЛ, кн. II, Киев, 1888, стр. 16]. Тот же автор считал, что находки киевских кладов восточных монет на склонах киевских гор или у подножия их (близ Иорданской церкви) наводят на мысль о средоточии городской жизни в Х в. именно в этой местности [там же].
В другой, более поздней работе тот же автор рассматривал киевские клады куфических монет как свидетельство о наличии “обширной торговли” между Киевом и Туркестаном с конца VIII до начала Х в. [П.Я.Apмaшевcкий и В.Б.Антонович. Публичные лекции по геологии и истории Киева. – Киев, 1897, стр. 40-42]
Несколько ранее А.Котляревский высказывал недоумение по поводу того, что редкость кладов арабских монет в южной Руси и в том числе в Киеве
“как будто не
согласуется с положительным известием арабского писателя Истахри (X в.),
который прямо говорит, что булгарские купцы ходили до Кутабы-Куябы, т.е. Киева,
и вообще с указанным у Савельева фактом, что Киев вел торговлю с Востоком” [А.К[отляревский]. Рец. на статью: К.Страшкевич. Клады,
рассмотренные в Минц-кабинете Университета св. Владимира с 1836 по
В качестве единственного объяснения этой странной “неувязки” А.Котляревский выдвигал случайность находок и безызвестную гибель огромного количества кладов.
Для того чтобы с большей уверенностью решить, о чем же в действительности свидетельствуют киевские клады восточных монет, необходимо отнестись к этому драгоценному историческому источнику более критически, чем это делали раньше.
Необходимо
прежде всего категорически отбросить распространенное до недавней поры
убеждение, что киевские клады восточных монет охватывают период с конца VIII до
начала Х в. Как показано выше, никаких кладов VIII и даже IX в. в Киеве не было
обнаружено. Отбросив клад 1706 и клад 1889 гг. за невозможностью уточнения их
даты, отбросив клад
Нельзя не подчеркнуть и другой особенности киевских кладов и отдельных находок восточных монет.
По сравнению с бассейнами Верхнего Поволжья, Оки, Приильменья и Верхнего Поднепровья, Киев, как и вообще Среднее Поднепровье, значительно беднее находками этого рода. Монетные и вещевые клады названных районов не только значительно более многочисленны, но и древнее по составу, что является неоспоримым свидетельством того, что основное направление восточной торговли в VIII-IX вв. не захватывало Среднего Поднепровья.
Торговые связи Киева и Среднего Поднепровья с Востоком, в первую очередь со Средней Азией, начали развиваться тогда, когда Волжский торговый путь уже давно был проторен и когда значение его уже начинало падать.
Топография кладов восточных монет, найденных в Киеве, позволяет решительно отбросить мысль В.Б.Антоновича о сосредоточении городской жизни в Х в. у подножья Киевских гор, в районе находки Иорданского клада. Необходимо подчеркнуть, что даже если судить только по нумизматическим находкам, этот вывод не может быть подтвержден – наиболее крупные клады куфических монет были найдены на Печерске и в Ярославовом городе. Однако для решения вопросов исторической топографии Киева IX-Х вв. в настоящее время основное значение имеют не случайные находки кладов, а результаты систематических археологических исследований остатков древних городищ и могильников на территории Киева.
Клады и
отдельные находки византийских монет IX-Х вв. в Киеве крайне редки. Известен
один клад византийских монет, найденный в
Находки
единичных экземпляров византийских монет также весьма немногочисленны. В
О находке
возле Софийского собора византийского золотого солида Константина VII и Романа
II (945-959) сообщал В.Б.Антонович [В.Б.Антонович.
1) О монетных кладах…, стр. 16; 2) Археологическая карта…, стр. 36.
В.Б.Антонович отнес монету ко времени Константина Х и Романа II, указав при
этом годы их правления 948-959]. Другой золотой солид Василия II и
Константина VIII (976-1025) был найден в
В
В
О немногочисленных находках византийских монет IX – Х вв. в погребениях киевского некрополя подробно говорится ниже.
В
Клад состоял из монет Василия I (867-868) – 28 экз., Василия I и Константина (869-879) – 2 экз., Романа I (919-944) – 5 экз., Романа II (и Василия?) (959-963) – 1 экз., Никифора Фоки (963-969) – 1 экз. Находка этого клада прошла незамеченной. Единственное известие о нем опубликовано почти сорок лет спустя [Розкопи в Києві на ropi Кисилівці в 1940 р., стр. 146. Даты уточнены по книге: W.Wroth, ук. соч.].
Монеты херсонесского чекана IX-Х вв. известны среди случайных нумизматических находок и в некоторых других городах Киевской земли; так, по [с. 125] свидетельству В.Б.Антоновича, в Триполье (древний город Треполь) были найдены в значительном количестве отдельные монеты императоров Василия, Романа и другие, чеканенные в Херсонесе [В.Б.Антонович. О монетных кладах…, стр. 17].
Немногочисленность кладов и даже отдельных находок византийских монет IX-Х вв. свидетельствует о том, что византийско-русские связи в эту пору были далеко не столь значительны, как это принято было думать еще недавно. [с. 126]
Киевский некрополь IX—Х вв.
Ни один из исследователей или описателей древностей Киева не обратил должного внимания на его курганы. Все сведения в этом отношении ограничивались слабыми намеками на могилы главных витязей, места погребения которых завещаны нам в воспоминаниях летописца…
Я.Волошинский. 1862.
1. История изучения киевского некрополя
Вплоть до
60-70-х годов XIX в. на территории Киева сохранились сотни древних курганов.
Я.Волошинский, один из первых киевских археологов, заинтересовавшийся этими
памятниками, в докладе, прочитанном в декабре
“Собственно в
киевской местности курганы расположены отчасти в самом городе (и
преимущественно в местах, заселенных не более трех десятков лет тому назад),
отчасти же в его предместьях, хуторах, дачах или на пустопорожних доныне
отлогостях Днепровских гор. Число всех этих курганов в этой местности
простирается до двухсот восьмидесяти. Из этого количества только пятнадцать
можно отнести к системе изолированных могил… все же остальные составляют то
большие, то меньшие, отчасти поросшие лесом группы” [Я.Волошинский.
Киевские курганы. – ИОЛЕАЭ, т. XX, кн. 2, вып.
Я.Волошинский, исполнявший обязанности хранителя Минц-кабинета при Киевском университете св.Владимира, был одним из первых исследователей киевских курганов. Задачу изучения киевского некрополя он понимал достаточно серьезно и выполнял ее энергично и с энтузиазмом. [с. 127]
Я.Волошинский справедливо обращал внимание различных киевских ученых обществ и организаций на то, что ни один из исследователей или описателей древностей Киева не заинтересовался его курганами.
“Все сведения в этом отношении, – писал он, – ограничивались лишь слабыми намеками на могилы главных витязей, места погребений которых завещаны нам в воспоминаниях летописца” [Об археологических занятиях хранителя Минц-кабинета Волошинского. Краткий отчет по Университету св. Владимира за 1861/62 уч. год. – Университетские известия, Киев, 1862, № 9, стр. 59].
Я.Волошинский
объяснял это положение не равнодушием местных археологов и не недостатком
правительственных средств, отпускаемых на археологическое изучение Киева. Он
считал, что невнимание к киевским курганам объясняется тем, что “вопросы о
важности курганографических выводов для археологии и истории вообще лишь только
в последнее время вошли осязательно на план науки” [там
же]. Летом
В большом курганном могильнике, существовавшем в 1860-70-х годах на западной окраине современного города, на правом гористом берегу Лыбеди, в урочище Батыева могила, насчитывалось в ту пору свыше двухсот курганов, из которых около двух десятков Я.Волошинский подверг тогда раскопкам. К сожалению, ни отчет, ни полевая документация этих раскопок не были опубликованы, а материал из раскопок бесследно пропал, за исключением инвентаря большого кургана. Курган этот содержал погребение с сожжением. Кальцинированные человеческие кости находились в большом глиняном сосуде грубой выделки, с широким горлом и отогнутым венчиком, с рядом круглых отверстий по нему [Каталог выставки XI археологического съезда в Киеве. Киев, 1899, стр. 89-90, №№ 75-85; ср.: В.Б.Антонович. Обозрение предметов великокняжеской эпохи, найденных в Киеве и ближайших его окрестностях и хранящихся в Музее древностей и в Мюнц-кабинете университета св. Владимира. – КС, т. XXII, Киев, 1888, июль, стр. 120].
Всего на территории Киева Я.Волошинский раскопал свыше полусотни курганов [Я.Волошинский, уч. соч., стр. 19]. Основной вывод, изложенный самим исследователем в докладе об итогах раскопок, заключался в том, что киевские курганы
“нимало не татарские побоища, как думали вообще и как гласит о них большая часть местных преданий, и не укрепления или шаньцы (как думал ранее сам автор), но мирные туземные кладбища, из коих некоторые могут быть относимы и к глубокой древности, но все же к тому времени, когда христианская религия изменила уже понятия [с. 128] о загробной жизни, хотя по местам и не вытеснила совершенно всех обычаев язычества” [там же, стр. 20].
В 1870-х годах хищнического характера раскопки киевских курганов производил киевский коллекционер Т.В.Кибальчич. На Антропологической выставке в Москве было экспонировано 22 черепа из раскопанных им курганов. Черепа сопровождались кратким описанием обстоятельств и места находок. Из этих описаний явствует, что многочисленные древние погребения уже в ту пору были обнаружены в усадьбе Трубецкого, впоследствии неоднократно служившей плацдармом археологических раскопок крупного масштаба. По словам Т.Кибальчича, на древнем кладбище в усадьбе Трубецкого
“костяки лежали главным обраяом от С и СЗ к Ю и ЮВ; попадались также костяки в сидячем положении и сожженные, а при них погребальные урны древнейшей формы, серебряные серьги так называемого киевского типа, и посуда, относящаяся к великокняжескому периоду Киева” [Антропологическая выставка, т. II. М., 1878, Протоколы, стр. 97-98].
На выставке были также представлены четыре черепа из раскопок Т.Кибальчича на Верхней Юрковице (древнее урочище Киева, над р.Глубочицей). По словам Т.Кибальчича, в могилах на Верхней Юрковице было по нескольку костяков без признаков каких бы то ни было вещей [там же, стр. 98].
Чрезвычайно
интересные древние языческие погребения были обнаружены в 1870-х годах в
окрестности Иорданской церкви в Плоской части Киева, в усадьбе купца Марра.
Усадьба эта занимала целый квартал, ограниченный Кирилловской ул., Богословским
и Иорданским переулками и Крутой горой, на которой расположен Лукьяновский
район города. При планировке усадьбы в связи с постройкой нового здания были
открыты кирпичные фундаменты обширного здания, построенного не позже первой
половины XVII в. и уничтоженного пожаром в XVII или XVIII в. На уровне подошвы
фундаментов, в незначительном расстоянии от них, были найдены четыре древних
погребения, инвентарь которых был частично пожертвован владельцем усадьбы в
Музей Киевского университета. Тогда же было установлено, что здание XVII в.
выстроено на месте древнего могильника, по-видимому, в значительной части
уничтоженного при закладке фундаментов этой постройки [В.Б.Антонович.
1) Археологический находки и раскопки в Киеве и в Киевской губерний в течение
Напомним, что
усадьба, в которой были открыты остатки древнего могильника, расположена по
соседству с Иорданским кладбищем, где в
В этом же
районе города в усадьбе Риккерта в начале 90-х годов при земляных работах по
планировке было открыто еще одно погребение с богатым инвентарем, подаренным владельцем
усадьбы французскому археологу барону де Бай, [с. 129] который пожертвовал его
позже через Археологическую комиссию в Московский исторический музей [De Вaye. Sépulture
du X siècle à Kiev. – Extrait de Memoires de la
Société nationale des Antiquaires de France, t. LV, Paris, 1896. Подробное
описание инвентаря этого погребения см.: Л.Голубева. Киевский некрополь.
– МИА, №
Значительное
количество древних киевских погребений было обнаружено в
Ни о каких “раскопках” в собственном смысле, разумеется, не могло быть и речи. По словам И.Хойновского,
“земля
снималась не послойно, а сразу вся четырехаршинная ее высота. Двадцать человек
землекопов становились в ряд на высоте края земли, ломами откалывали на
аршинном пространстве промерзший верхний слой, потом снимали его вглубь до
уровня улицы, выкидывая землю прямо в ящики грабарок” [И.А.Хойновский.
Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною
“Вооружась каждое утро кошельком с мелким серебром и кредитками”, исследователь собирал от землекопов замеченные ими находки, расплачиваясь пятиалтынными и двугривенными за приносимые ему вещи.
Наблюдая с особым вниманием за участком, где появлялись человеческие кости, И.Хойновский в этих исключительно трудные условиях сумел обнаружить более пятидесяти погребений, значительная часть которых относилась к древнейшей языческой поре истории Киева. Сам И.Хойновский не понял огромного научного значения открытых им погребений, рассматривая большую часть их как христианское кладбище при Андреевском Янчине монастыре. Однако, поскольку все погребения были довольно подробно описаны, а многие вещи из них опубликованы в удовлетворительных зарисовках, результаты наблюдений И.Хойновского представляют и поныне значительный интерес для исследователя киевского некрополя.
В 1890-х годах обследованием и раскопками курганов, расположенных на взгорьях вдоль Кирилловской ул., занимался В.В.Хвойка. Им были проведены раскопки курганов в усадьбах: Зарембских (Кирилловская ул., д. 71), Зивала и Багреева (Кирилловская ул., дд.59-61), художника С.И.Светославского (Кирилловская ул., д.81) и в других местах. Раскопками были обнаружены разнообразные типы погребений, в частности немногочисленные сравнительно с остальными погребения с трупосожжением [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья, и их культура в доисторические времена. Киев, 1913, стр. 53-57]. [с. 130]
Широко развернувшимися в 1907-1908 гг. раскопками того же исследователя в усадьбе Петровского (Верхний Киев, Б.Владимирская ул., д.2) наряду с открытием мастерских, жилищ, княжеских дворцов и других замечательных комплексов XI-XIII вв. были обнаружены также и погребения различных эпох, в частности несколько древнейших погребений с трупосожжением [там же, стр. 56].
К сожалению, ни отчетов, ни полевой документации раскопок всех этих погребений не сохранилось, а в упомянутой популярной книжке автора, посвященной итогам его раскопок в Киеве, интересующие нас погребения описаны лишь крайне суммарно. Хранящийся в Киевском историческом музее инвентарь из погребений не расчленен по комплексам и потому не может восполнить отсутствующей полевой документации.
Археологическими
раскопками развалин Десятинной церкви и окружающей ее территории, начатыми по инициативе
Археологической комиссии в
Изучение
вертикальных разрезов могил лишь редко давало возможность установить древний
уровень поверхности земли, современный погребениям. Обычно эта поверхность была
нарушена как земляными работами при постройке древней Десятинной церкви, так и
более поздними перекопами. Однако еще раскопками
Несмотря на
специально архитектурные интересы исследователя, все погребения были раскопаны
чрезвычайно тщательно и в отношении некоторых была сделана попытка датировки, К
сожалению, описания значительной части этих погребений (за исключением раскопок
1908 и 1911 гг.) остались неопубликованными, полевая документация после смерти
Д.В.Милеева в
Д.В.Милеев, конечно, не ставил перед собой задачи специального изучения открытых им погребений, и его краткие информации о некоторых погребениях, раскопанных в 1908 и 1911 гг., обычно дальше перечня найденных предметов не шли. Исключительное научное значение этих погребений не было оценено ни самим Милеевым, ни другими исследователями.
В 1926-1927 гг. в усадьбе В.Трубецкого, неподалеку от места раскопок И.Хойновского, были проведены новые раскопки под руководством С.С.Гамченко, который открыл несколько древних погребений (из них одно – конское), представляющих значительный интерес для изучения древнейшего киевского некрополя.
Краткий отчет
о раскопках, опубликованный С.С.Гамченко [С.Гамченко.
Розкопи 1926 р. в Києві. – Короткі зввдомления за 1926 р., К., 1927, стр.
27-29],1 и сохранившиеся в Архиве Института археологии АН УССР дневники
раскопок 1926-1927 гг. позволяют с достаточной полнотой восстановить
раскопанные погребальные комплексы. Все погребения обнаружены в грунтовых
могильных ямах, вырытых в лёссовом материке на глубину от 1.45-
Раскопками Киевской археологической экспедиции АН УССР, широко развернувшимися в 1936-1937 гг. на территории усадьбы Художественной школы (бывшей усадьбы Петровского и Десятинной церкви), к северу и к югу от развалин Десятинной церкви были открыты еще несколько погребений довладимировой поры, среди которых особый интерес представляют два богатых погребения в срубах. Одно из них, в котором вместе с дружинником-воином была погребена рабыня и боевой конь, исследователи без каких-либо к тому оснований окрестили “варяжским” [M.Ячмeньoв и Ф.Молчанівський. Нові археологічні розкопки у Києві. – “Соціалістичний Київ”, К., 1936, стр. 57-60].
Среди
многочисленных разновременных погребений, открытых под развалинами Десятинной
церкви раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН СССР и ИА АН УССР
под руководством автора в 1938-1939 и [с. 132] 1946-1948 гг., было четыре
погребения интересующей нас поры [М.К.Каргер.
Археологические исследования древнего Киева (1938-1947 гг.). Киев, 1950, стр.
82-93; см. также: М.К.Каргер. Погребение киевского дружинника Х в. –
КСИИМК, V, 1940, стр. 72-89]. Все эти погребения относятся также к
периоду, предшествующему постройке церкви, т.е. старше
Парное
погребение дружинника с рабыней, также в деревянном срубе, было обнаружено
нашими раскопками
Тщательное изучение многочисленных древних погребений, раскопанных или случайно обнаруженных при земляных работах в различных районах Киева, позволило реконструировать своеобразный облик киевского некрополя древнейшей эпохи с достаточной степенью полноты.
Систематизация сведений о случайных находках более чем за 100 лет, изучение отчетов и полевой документации археологических раскопок последнего пятидесятилетия и, наконец, исследование погребального инвентаря, сохранившегося в различных музейных собраниях Киева, Москвы, Ленинграда и Харькова, позволили восстановить около полутораста погребений древнейшей эпохи, не считая многочисленных погребений XI-XIII вв.
Несмотря на то, что степень сохранности этих погребений весьма различна, несмотря на то, что для многих из них и погребальный обряд и в особенности погребальный инвентарь удалось восстановить далеко не полностью, киевский некрополь, подобно некрополям Чернигова и Смоленска, выступил в качестве одного из важнейших исторических источников для изучения древнейшего периода истории города.
Основные
итоги этого исследования были изложены в наших докладах на заседании ученого
совета Института археологии АН УССР 27.II.1939 и на пленуме ИИМК АН СССР
20.IX.1939 [М.К.Каргер. Дофеодальный период
истории Киева по археологическим данным. Доклад на Пленуме ИИМК АН СССР. –
КСИИМК, I, 1939, стр. 9-10]. Десять лет спустя, в
Замечательный погребальный инвентарь киевского некрополя не был подвергнут Л.А.Голубевой серьезному исследованию; автор ограничился кратким перечнем находок. Хронологические атрибуции отдельных погребений основаны на неверных предпосылках и потому ошибочны.
2. Топография киевского некрополя. Основные виды погребений
Подробно описанные ниже погребения, обнаруженные на территории древнего Киева, несмотря на хронологическую близость их между собой, отнюдь нельзя рассматривать как части какого-то единого грандиозного некрополя. Предлагаемое ниже деление на два могильника, один из которых объединяет погребения, расположенные на огромной территории Верхнего Киева, а второй – погребения на взгорьях, тянущихся над Кирилловской ул. (ныне ул. Фрунзе), следует рассматривать лишь как предварительное, вызванное леобходимостыо первичной систематизации материала. Обе указанные территории настолько велики, и в то же время группы погребений, открытые на этих территориях, столь разобщены одна от другой, что рассматривать оба могильника как исторически сложившиеся целостные комплексы можно лишь условно.
Присмотримся
внимательнее к топографии могильника на территории Верхнего Киева. Основная
часть его несомненно была расположена к юго-востоку от рва, ограждавшего
древнейшее Киевское городище на Андреевской горе. Вплоть до конца 80-х годов Х
в., когда при Владимире Святославиче здесь началось строительство Десятинной
церкви и каменных княжеских дворцов, весьма значительная площадь к юго-востоку
от рва была сплошь занята сотнями больших и малых курганов, снесенных перед
постройкой Десятинной церкви. Восточную границу территории могильника
установить трудно. По-видимому, погребения располагались по всей площади
будущего “города Владимира”. Об этом свидетельствуют не только сплошь занятые
древними могилами бывшие усадьбы Трубецкого (Владимирская ул., д.1) и Кривцова
(ул. Жертв революции), но и находка в
Отдельные древние погребения с сожжением были обнаружены и на территории Михайловского Златоверхого монастыря. [с. 134]
Вплоть до
30-х годов XI в., т.е. до начала строительства нового грандиозного архитектурного
ансамбля Ярославова города, к югу и юго-западу от “города Владимира” находилось
“поле вне града”, где незадолго до закладки собора Софии киевские полки
встретились с печенегами. Во времена более древние здесь высились огромные
курганы. Один из них, связываемый преданием с именем князя Дира, существовал
еще во времена летописца, который упомянул этот курган, повествуя о смерти
Аскольда и Дира. О том, что “Дирова могила”, находившаяся, по словам летописца,
“за святою Ориною”, не была здесь единичным могильным сооружением,
свидетельствуют открытые в
Богатейшее
погребение дружинника, случайно обнаруженное в
Могильник на Кирилловских взгорьях несомненно примыкал к городищу, расположенному некогда над Иорданской церковью. Но и в данном случае трудно решить, все ли многочисленные курганные группы, расположенные вдоль Кирилловской ул. (ныне ул.Фрунзе), начиная от Верхней Юрковипы и вплоть до Кирилловского монастыря, следует связывать с этим городищем или же наиболее удаленные из них представляли часть самостоятельного могильника, связанного с неизвестным нам поселением в районе Дорогожичей. Признавая условность предложенного выше членения, в дальнейшем при описании и анализе погребений мы рассматриваем их в составе двух комплексов, именуя первый из них – могильник на территории Верхнего города – могильником I, а второй – могильник на взгорьях вдоль Кирилловской ул. – могильником II.
В составе киевского некрополя в числе погребений с трупосожжением Л.А.Голубева, ссылаясь на книгу М.Захарченко “Киев теперь и прежде”, упоминает еще одну группу погребений на территории Ярославова города (между Прорезной и бывш. Фундуклеевской ул. и на бывш. Елисаветинской ул.). Здесь, по ее словам, на территории обширного и весьма древнего кладбища с трупоположениями были найдены “горшки с сожженными костями, поставленными в грунтовые могилы” [Л.А.Голубева, ук. соч., стр. 105].
В
действительности вопрос этот значительно сложнее. Как сообщает П.Полевой, при
земляных работах, предпринятых в
Особый интерес представляет другая группа погребений. Могилы этой группы были вырыты в виде небольших пещерок, в которых под низким сводом поставлены горшки с пеплом и обожженными костями. Свод и боковые стенки этих могил были начисто вымазаны глиной, и обмазка эта обожжена [там же]. Некоторые предметы, найденные на Прорезной ул., фигурировали на выставке, устроенной к Археологическому съезду в Киеве. К сожалению, из краткого перечня. их в каталоге выставки трудно уяснить характер этих вещей, среди которых упоминаются куски распиленных оленьих рогов, оселок из песчаника, трина[с. 136]дцать пряслиц разного вида из розового и фиолетового сланца (не бусы ли, о которых была речь выше?), глиняное грузило, серьга из серебряной проволоки [Каталог выставки XI археологического съезда в Киеве. Киев, 1899, стр. 96-97, №№ 271-293].
Рис. 15. Два фрагмента греческих амфор с клеймами, найденные в могильнике на Прорезной ул. [с. 136]
В каталоге выставки упоминаются, кроме того, два куска глиняных амфор с клеймами. Эти два фрагмента удалось разыскать среди коллекций Киевского-исторического музея (рис. 15). Они представляют собой обломки византийских амфор с клеймами, на одном из которых читается имя мастера (Γεοργιος).
Характер устройства могил “в виде пещерок, под низким сводом которых поставлены горшки с пеплом и обожженными костями”, позволяет высказать предположение: не было ли здесь какого-то могильника салтовского типа? Что такое предположение не лишено оснований, подтверждает находка на территории Киева погребения, при котором обнаружен горшок, сходный с керамикой Верхне-Салтовского могильника (рис. 16) [I.М.Самойловський. Слов’янський могильник у Києві над Дшпром. – Археологія, т. III, К., 1950, стр. 181]. При этом следует подчеркнуть, что для погребений салтовского типа характерно трупоположение, а не сожжение.
Рис. 16. Глиняный сосуд салтовского типа. [с. 137]
Для того чтобы древние погребения, обнаруженные разновременными раскопками или случайными земляными работами в различных районах современного Киева, использовать в качестве полноценных исторических источников, необходимо не только с возможной полнотой учесть все памятники этого рода, но и попытаться с доступной тщательностью восстановить состав погребального инвентаря и характер погребального обряда каждого из этих погребений в отдельности. Как явствует из кратко изложенной выше истории изучения киевского некрополя, задача эта нелегка. Многие погребения были обнаружены не специальными археологическими раскопками, а при различных случайных земляных работах; сообщения о находках такого рода либо очень [с. 137] кратки, либо преисполнены фантастическими домыслами, которые порой нелегко отделить от фактов. Многие погребения, раскопанные квалифицированными исследователями (Д.В.Милеев, В.В.Хвойка), в значительной мере обесценены отсутствием отчетной документации раскопок и депаспортизацией добытых материалов.
Характеристика состава погребального инвентаря и реконструкция погребального обряда каждого погребения в отдельности позволяет вместе с тем наметить и основные принципы общей классификации. Погребальные комплексы обоих киевских могильников отчетливо членятся на две группы, выразительно различающиеся между собой по богатству инвентаря и большей или меньшей сложности погребального обряда. К первой группе нами отнесены многочисленные погребения с более или менее бедным инвентарем и несложным, но устойчивым обрядом захоронения (ингумацией), подробно охарактеризованным ниже. По характеру погребального инвентаря к этой группе можно было бы отнести и достаточно многочисленные (особенно в могильнике II) погребения с сожжением. Однако ввиду резкого различия самого обряда эти погребения рассматриваются как самостоятельный подраздел первой группы.
Ко второй группе отнесены не столь многочисленные погребения обоих могильников, характеризующиеся не только исключительно богатым и разнообразным инвентарем, но и своеобразным погребальным обрядом и, в частности, значительно более сложным устройством могильных сооружений в виде деревянных камер различных конструкций. В составе этой группы, как явствует из детального изучения отдельных погребений, несомненно можно наметить ряд вариантов, отличающихся по степени сложности погребального обряда, что не мешает, однако, объединять эти погребения в одну группу. В качестве самостоятельного подраздела этой же группы рассматриваются немногочисленные погребения с сожжением, богатый характерный инвентарь которых не отличается от инвентаря других погребений этой группы.
3. Рядовые погребения киевского некрополя (трупоположения)
Могильники IX-Х вв., расположенные у древнерусских городов – Киева, Чернигова, Смоленска, нередко изображались как аристократические кладбища дружинной знати, а самая знать к тому же рассматривалась с позиций более или менее откровенного норманизма [Т.Arne. 1) La Suède et l’Orient. – Upsal, 1914; 2) Scandinavische Holzkammergräber aus der Wikingerzeit in der Ukraine. – Acta archaeologica, II, 3, Kobenhavn, 1931, стр. 285- 302; А.А.Спицын. Гнездовские курганы в раскопках С.И.Сергеева. – ИАК, вып. 15, СПб., 1905, стр. 7-8]. Такое понимание древнерусских городских некрополей IX-Х вв. глубоко ошибочно, оно искажает подлинное значение этих памятников в качестве важнейших исторических источников по древнейшей истории русского города. Причина такой искаженной интерпре[с. 138]тации древнейших некрополей русских городов понятна. Основное внимание исследователей при раскопках этих могильников и особенно во всех попытках интерпретации их привлекали огромные по величине и богатейшие по составу погребального инвентаря курганы. При публикации материалов раскопок роскошно выполненные таблицы эффектных вещей из этих же наиболее богатых погребений оттесняли на задний план или вытесняли вовсе немногочисленные находки в малых курганах, число которых в сотни раз превосходит крупные, богатые курганы. Создавалась неверная, не отражавшая действительного положения картина, которая в свою очередь использовалась для подкрепления ошибочных исторических концепций.
Тщательно систематизированные материалы киевского некрополя, несмотря на случайность и неполноту их, позволяют восстановить подлинное значение этого драгоценного источника для понимания древнейших страниц истории города. На материалах киевского некрополя в большей мере, чем на материалах Гнездовского могильника или группы могильников Чернигова, отразилось охарактеризованное выше увлечение лишь наиболее эффектными по составу находок погребениями. Поскольку древние киевские погребения, расположенные в черте современного города, открывались нередко при случайных земляных работах, внимание привлекали лишь наиболее яркие и особенно драгоценные находки. Рядовые погребения с бедным инвентарем разрушались десятками, если не сотнями, без какой-либо научной регистрации их. Несмотря на это, соотношение между богатыми по инвентарю и скромными рядовыми погребениями отнюдь не свидетельствует об аристократическом характере киевского некрополя.
Наиболее значительная группа рядовых погребений была открыта в 1908- 1911 гг. раскопками Д.В.Милеева в усадьбе Десятинной церкви и на участках, примыкающиx к ней (усадьба Трубецкого, Владимирская ул., д.1; усадьба Крестьянского банка, ныне усадьба Главного телеграфа, Владимирская ул., д.10).
К сожалению, опубликованные Д.В.Милеевым отчеты не только чрезмерно кратки, но и охватывают далеко не весь комплекс раскопанных им погребений. Многие из них, как отмечалось выше, пришлось реконструировать но случайным, недостаточно квалифицированным информациям киевской прессы. Важнейшим подспорьем в решении этой нелегкой задачи было изучение погребального инвентаря, обнаруженного среди депаспортизованных археологических материалов в складе древностей ГАИМК, унаследовавшей не распределенные по музеям остатки археологических коллекций бывшей Археологической комиссии.
Еще одна
значительная группа массовых погребений была открыта в
Несколько погребений этого типа было открыто нашими раскопками 1938 я 1948 гг. под фундаментами Десятинной церкви и неподалеку от них.
Очень значительная группа рядовых погребений была обнаружена раскопками разных лет в составе могильника II на взгорьях, тянущихся вдоль Кирилловской ул. (ныне ул.Фрунзе). Однако только немногие из них могут быть охарактеризованы отдельно. Большей части этих погребений можно дать лишь суммарные характеристики.
При описании погребений отмечается по возможности: 1) точная дата раскопок каждого погребения, 2) руководитель раскопок, 3) точное местоположение погребения, 4) характер погребального обряда и особенно устройство могильного сооружения, 5) погребальный инвентарь и размещение его в погребении, 6) источники и библиография.
Всем погребениям киевского некрополя, за исключением тех, сведения о которых почерпнуты из суммарных описаний, не позволяющих охарактеризовать отдельные погребения, присвоена общая порядковая нумерация.
Погребения 1 – 20
Погребение 1
Обнаружено в
Погребение 2
Обнаружено в
Погребение 3
Обнаружено в
Найденный в
погребении инвентарь хранился в Гос. Эрмитаже, откуда в
Погребение 4
Обнаружено в
Погребение 5
Обнаружено в
Погребение 6
Обнаружено в
Погребение 7
Обнаружено в
Погребение 8
Обнаружено в
У тазовых
костей с левой стороны лежали железный нож с костяной ручкой, железное кресало
и кремень, у правого колена наконечник железного копья [по другим известиям – железный наконечник трехугольной
стрелы (ИАК, Прибавл. к вып. 31, СПб., 1909, стр. 75)] на деревянном
древке, у шеи две маленьких бронзовых пуговки с ушками. Под костяком у поясницы
сохранились остатки истлевшей кожи с рядом бронзовых пуговок, по-видимому пояс [Раскопки в Киеве летом
Погребение 9
Обнаружено в
мае
На шее
найдено ожерелье, состоявшее из раковин, расположенных между маленькими бусами
из стекловидной массы. Погребение известно лишь по сообщениям киевской прессы [Раскопки в Киеве в
Погребение 10
Обнаружено
19.VI.1909 раскопками Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева в
усадьбе Десятинной церкви, к востоку от развалин древней церкви, в грунтовой
могиле, на глубине около
Погребения 11—13
20.VI.1909 раскопками
Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева в усадьбе Десятинной
церкви, к востоку or развалин древней церкви, на глубине свыше
Погребение 14
Обнаружено 25.VI.1909 раскопками Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева в усадьбе Десятинной церкви к востоку от развалин древней церкви, в грунтовой могиле, вырытой в материке. По глубине залегания могильная яма соответствовала погребениям, найденным под уровнем фундаментов древней церкви. Сосновый гроб был сколочен железными гвоздями. Костяк (женский) лежал головой на З, правая рука сложена на груди, левая вытянута вдоль туловища. [с. 142]
В погребении найдено ожерелье, состоявшее из: а) большого количества стеклянных разноцветных крупных и мелких бус, б) нескольких сердоликовых граненых бус, в) трех серебряных крестиков, г) серебряной восточной монеты (диргема). По сообщению корреспондентов киевской прессы, монета относилась к IX в. К этому же времени было отнесено и погребение [там же]. С.Вельмин, принимавший участие в раскопках, сообщал о находке в описанном погребении около сорока стеклянных и сердоликовых бус, трех маленьких серебряных крестиков и куфической монеты, относимой к концу VIII или к самому началу IX в. [С.П.Вельмин. Археологические изыскания…, стр. 137]
Среди
неразобранных материалов раскопок
Погребение 15
Обнаружено в
Погребение 16
Обнаружено в
Погребение 17
Обнаружено в
Погребения 18—20
Обнаружены в
Погребения 21 – 40
Погребение 21
Обнаружено в
Погребение 22
Обнаружено в
Погребение 23
Обнаружено в
Погребение 24
Обнаружено в
Погребение 25
Обнаружено в
У таза с
левой стороны найдены железное кресало, кремень и железный нож с костяной
рукоятью (табл. VII, 1-3). Возле таза найден также узкий ремешок,
украшенный мелкими орнаментированными бронзовыми бляшками, укрепленными на коже
с помощью загнутых стерженьков. На конце его хорошо сохранился бронзовый
наконечник (табл. VII, 4). И ремешок и найденная вместе с ним бронзовая
орнаментированная ромбовидная бляха с прямоугольной прорезью в средней части
являются частями кожаной сумки (табл. VII, 6). Кроме того, возле костяка
было найдено костяное острие с тупым концом в виде головы зверя (табл. VII, 5).
Изучение вертикальных разрезов могилы позволило установить, что могильная яма
была вырыта на глубину
Погребение 26
Обнаружено в
Костяк лежал
в истлевшем деревянном гробу, в вытянутом положении, головой на ЮЗ. Правая рука
на груди, левая на животе (табл.
VIII, 1). Возле черепа, у шеи, найдено сорок девять бус из стекловидной
массы разных цветов граненые сердоликовые, одна граненая хрустальная, две
янтарные, три серебряные позолоченные, украшенные зернью (табл.
IX, 1). У черепа с правой стороны лежала одна электровая
трехбусинная серьга (табл. IX, 1), с левой стороны – два меленьких
серебряных височных кольца (табл. IX, 1) [в
отчете о раскопках они ошибочно названы серьгами (OAK за
Погребение 27
Обнаружено в
Погребение 28
Обнаружено в
Погребение 29
Обнаружено в
Погребение 30
Обнаружено в
В погребении были найдены:
1. Ожерелье,
состоявшее из двадцати четырех бус, раковины и двух монет. Набор бус состоял
из: а) четырнадцати стеклянных шаровидных бус, из которых синего стекла – одна
двойная и одна простая, золоченые – одна четырехчастная, из мелких шариков,
четыре двойных и четыре простых более крупного размера, безцветных – три
простых; б) девяти пастовых бус, из которых одна крупная желтого цвета, одна в
виде сплющенного шара белого цвета (первоначальный цвет утрачен), одна
граненая, неправильной формы, глазурованная, голубого цвета, шесть
шарообразных, желтого цвета; в) одной сердоликовой бусы в виде шара с тремя
сошлифованными неправильными гранями (табл. X, 1). В составе того же ожерелья была раковина
(каури) с просверленным отверстием для подвешивания и два саманидских диргема:
первый – Исмаила ибн Ахмеда, чеканенный в Самарканде в
2. Восемь височных проволочных колец с несомкнутыми концами, один из которых расплющен и завернут (табл. X, 4). Четыре кольца найдены у левой височной кости и четыре у правой [Рукописный каталог Византийского отдела Гос. Эрмитажа, № 928/363-371].
Погребения 31, 32
В
Погребение 33
Обнаружено в
Погребение 34
Обнаружено в
Погребение 35
Обнаружено в
Погребение 36
Обнаружено в
Погребение 37
Обнаружено в
Погребение 38
Обнаружено в
Погребение 39
Обнаружено в
Погребение 40
Обнаружено в
Погребения 41 – 68
Погребение 41
Обнаружено в
Погребения 42, 43
Погребение 42
обнаружено в
Левой стороной описанный костяк лежал поверх правой стороны другого костяка (погребение 43), череп которого находился под левым плечом первого. Слева от нижнего костяка также найдены кости животных и древний кирпич [С.Гамченко, ук. соч., стр. 27-29].
Погребение 44
Обнаружено в
Погребение 45
Обнаружено в
Погребение 46
Обнаружено в
Погребение 47
Обнаружено раскопками ВУАК под руководством С.С.Гамченко в усадьбе В.Трубецкого. Сведений о раскопках этого погребения в дневниках С.Гамченко найти не удалось, но в инвентарной описи находок значатся следующие вещи из “разрушенного погребения II”: 1) глиняное пряслице, 2) медная серьга, 3) фрагмент стеклянного витого браслета желтого цвета, 4) восемь обломков глиняной посуды [Инвентарная опись находок, №№ 4959-4962]. [с. 149]
Погребение 48
Обнаружено раскопками ВУАК под руководством С.С.Гамченко в усадьбе В.Трубецкого. Сведений о раскопках этого погребения в дневниках С.Гамченко найти не удалось, но в инвентарной описи находок значатся следующие вещи из “разрушенного погребения III”: 1) стеклянная бусина, 2) фрагмент стеклянного браслета [Инвентарная опись находок, №№ 4957-4958].
Погребение 49
Обнаружено раскопками ВУАК под руководством С.С.Гамченко в усадьбе В.Трубецкого. Сведений о раскопках этого погребения в дневниках С.Гамченко найти не удалось, но и в инвентарной описи находок значатся следующие вещи из “разрушенного погребения IV”: 1) бронзовое орнаментированное кольцо (найдено у черепа), 2) бронзовый амулет кинжальчик (найден у черепа), 3) девятнадцать фрагментов глиняной посуды [Инвентарная опись находок, №№ 4963-4967].
Погребение 50
Обнаружено раскопками ВУАК под руководством С.С.Гамченко в усадьбе В.Трубецкого. Сведений о раскопках этого погребения в дневниках С.Гамченко найти не удалось, но в инвентарной описи находок значатся следующие вещи из “разрушенного погребения V”: 1) одна сердоликовая и две стеклянных, желтого цвета бусины, 2) три фрагмента стеклянных браслетов, 3) восемнадцать фрагментов глиняной посуды [Инвентарная опись находок, №№ 4969-4974].
Погребения 51—55
Обнаружены 20.II.1892 в усадьбе Кривцова (Трехсвятительская ул.) при земляных работах. Состав инвентаря этих пяти погребений не был в отдельности описан И.Хойновским, однако он связывал с этими погребениями находки “малых горшочков” и клыков диких кабанов [И.А.Хойновский, ук. соч., стр. 23]. По сообщению И.Хойновского, кроме клыков, забранных владельцами усадеб, на которых производились работы, ему удалось получить в свое собрание четырнадцать штук целых кабаньих клыков, два куска отпиленных медвежьих клыков и один клык (розовый с бороздами по длине) неизвестного животного, предположительно – барса [там же]. И.Хойновский сообщал при этом, что ему, как и другим археологам, не раз приходилось находить клыки медведя, волка и дикого кабана в могилах полян.
Погребения 56—68
27.II.1892 в
правой стороне той же усадьбы были раскопаны две могилы [там же, стр. 29], а 28.II еще две, в которых не было
обнаружено никаких предметов, кроме обломков керамики. Совершенно истлевшие
скелеты лежали в деревянных гробах, на глубине около
Погребения 69 – 94
Погребения 69—73
Обнаружены
4.III.1892 в средней части той же усадьбы. Четыре могилы были без инвентаря, в
пятой, обнаруженной на глубине около
Погребения 74—80
Обнаружены 18-19.II.1892 в той же усадьбе. 18.II были раскопаны три грунтовых могилы. Скелеты лежали в досчатых гробах, сколоченных железными гвоздями. Гробы и кости в них были плохой сохранности. Никакого инвентаря при погребениях обнаружено не было [там же, стр. 22]. 19 II были раскопаны еще четыре могилы [там же, стр. 22-23]. Деревянные гробы и кости в них также истлели. Кроме железных гвоздей и гробов, никаких находок не было. Ориентированы погребения различно, чаще на ЮВ.
Погребения 81, 82
Остатки двух
погребений обнаружены раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН
УССР 16.VI.1935 на ул. Жертв революции (против д. № 18), на глубине
Погребение 83
Обнаружено
20-27.V.1937 раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН УССР в
усадьбе Художественной школы (уч. III/1937 г., “Слав. № I”), в нескольких
метрах на В от женского погребения, в срубе (погребение 122), в грунтовой яме,
на глубине 2.20-
Плохо сохранившийся костяк взрослой женщины лежал в деревянном, сколоченном гвоздями, высоком гробу, головой на Ю; руки сложены на груди. В этом же гробу справа от женского скелета лежал детский костяк.
У шейных позвонков женского скелета найдено ожерелье, достоявшее из тридцати с лишним бус и одной литой, из низкопробного серебра лунницы с трубчатым ушком (табл. XI, 1).
В состав ожерелья входили:
а) две плоские многогранные, сердоликовые бусы;
б) две круглые бусы, низкопробного серебра, украшенные зернью;
в) двадцать пять бус различной формы из синего стекла (из них пятнадцать плоских, с широкой пронизкой, одна двойная, две тройных и две состоящих из четырех мелких бусин, две граненных на двенадцать граней, с широкой пронизкой, три длинных призматических, на пять или шесть граней, сглаженных [с. 151] на углах);
г) одна целая и два фрагмента реберчатых, сплющенных зеленых пастовых бус.
В том же
погребении найдено одно височное колечко диаметром
Погребение 84
Обнаружено
21.V.1937 раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН УССР в усадьбе
Художественной школы (уч. III/1937 г., “Слав. №
Погребение 85
Рис. 17. Общий вид погребения 85 и разрез могильной ямы. [с. 152]
Обнаружено в
Погребение 86
Обнаружено в
Рис. 18. Общий вид погребения 86. [с. 153]
У правой ступни лежал боевой топорик, типичный для погребений IX-Х вв. (табл. XII, 1). У правой ноги, начиная почти от ступни и до середины бедренной кости, были найдены фрагменты колчана, состоявшие из трухлявого дерева, ткани и довольно многочисленных обломков железных оковок. В колчане находились четыре железных наконечника стрел с остатками деревянных древков (табл. XII, 2-5). Все стрелы были положены в колчан острием вверх, т.е. к голове погребенного. Немного выше колена правой ноги лежало бронзовое кольцо с орнаментом на лицевой стороне (табл. XII, 6). Между косгью правой ноги и стенкой гроба обнаружены еще два таких же, но гладких бронзовых кольца (табл. XII, 7, 8). Недалеко от наконечников стрел, у правого бедра, найдено овальное железное кресало и кусок кремня (табл. XII, 9, 10). У пояса находился железный нож со следами деревянного футляра. У темени лежал сильно перержавевший бесформенный предмет с остатками дерева. Назначение его определить не удалось. В ногах, у самой стенки гроба, в углу, были обна[с. 153]ружены бесформенные от ржавчины железные предметы. После лабораторной обработки стало возможным установить, что это железные угольники, по-видимому, служившие в качестве оковки углов какого-то небольшого ящичка (рис. 18). На угольниках сохранились следы ткани. С правой стороны от тазовых костей, у самой стенки гроба, найдена кучка железных гвоздей. По одному, и в одном случае два гвоздя найдены по углам в древесной трухе от гробовых досок. Под костяком лежал сплошной слой истлевшего дерева от дна гроба [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 83-85].
Погребение 87
Рис. 19. Общий вид погребения 87. [с. 154]
Обнаружено
30.VII.1948 раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН СССР и ИА АН
УССР под руководством автора в усадьбе Киевского исторического музея (№ 5/1948
г.), к юго-западу от развалин Десятинной церкви, у стены каменного дома.
Могильное пятно обнаружено на глубине
Погребение 88
Обнаружено в
Погребения 89—91
Обнаружены в
Скелеты во всех трех погребениях лежали в вытянутом положении, головой на З, с руками, скрещенными на груди. Во всех трех погребениях найдены остатки истлевших деревянных гробов, сколоченных железными гвоздями. Погребальный инвентарь незначителен. В погребении 89 на правой руке скелета найдено серебряное, украшенное чернью, кольцо, в погребении 90 – подобное же кольцо, а у черепа – серебряная и стеклянная бусины. В погребении 91 возле правой ноги стоял небольшой глиняный сосуд с волнистым орнаментом [Раскопки на Верхней Юрковице в г. Киеве. – АЛЮР, Киев, 1899, июнь, стр. 79].
Погребения 92, 93
Обнаружены в
Погребение 94
Обнаружено в
* * *
Некрополь на
Кирилловской ул. отнюдь не ограничивается описанными выше погребениями. В
большом количестве древние погребения, отчасти с сохранившимися даже невысокими
курганными насыпями, расположены по взгорьям вдоль Кирилловской ул., вплоть до
Кирилловского монастыря. Так, В.В.Хвойкой была обследована и частично раскопана
большая курганная группа в усадьбе Зарембских (Кирилловская ул., д.71). Здесь,
в верхней части усадьбы, примыкающей к Лукьяновке, находился могильник,
состоявший из нескольких сот грунтовых могил, над которыми в большинстве
случаев возвышалась небольшая насыпь (1-
Аналогичные погребения с таким же инвентарем, в составе которого нередко попадались еще серебряные диргемы VIII (? – М. К.) в., использованные в качестве подвесок в ожерельях, были обнаружены раскопками того же В.В.Хвойки в усадьбах Зивала и Багреева (Кирилловская ул., д.59-61), где в конце XIX в. была открыта известная Кирилловская стоянка [там же, стр. 54].
К сожалению, никаких отчетов об этих раскопках не сохранилось, а разнообразный инвентарь из погребений, хранящийся в Киевском историческом музее, депаспортизован, что не позволяет восстановить комплексы отдельных погребений.
Судя по характеру инвентаря, погребения эти относятся к IX-X вв. В тех же усадьбах и в усадьбе художника С.И.Светославского, у края плато расположенных там возвышенностей, были раскопаны погребения, находившиеся также в грунтовых могилах, но с несколько отличным инвентарем. В этих могилах найдены серебряные височные кольца, разнообразные бусы, серьги, реже – браслеты, железные ножи с костяными ручками, кресала, оселки (иногда в серебряной оправе), бронзовые пряжки, деревянные ведерца, от которых обычно сохраняются только железные обручи [там же].
В.В.Хвойка обратил внимание на своеобразный обряд захоронения, встречавшийся в этой группе погребений. Некоторые скелеты были окружены железными гвоздями, воткнутыми в землю на небольшом расстоянии один от другого (от 3 до 5 гвоздей).
4.
Погребальный обряд и инвентарь
рядовых погребений
Описанные выше девяносто четыре погребения несомненно принадлежат к числу массовых могил городского населения. К этому числу нужно прибавить несколько сот небольших курганов на взгорьях вдоль Кирилловской ул., из которых многие были раскопаны В.В.Хвойкой. Количество рядовых погребений еще возрастет, если учесть, что большая часть погребений с сожжением, лишь немногие из которых подверглись раскопкам, по-видимому, должна быть отнесена также к этой же группе.
Рядовые захоронения киевского некрополя характеризуются устойчивым обрядом погребения. Почти во всех случаях, когда удавалось проследить устройство могилы, последняя представляла достаточно глубокую прямоугольную яму, вырытую в плотном материковом лёссе. Погребенные лежат в вытянутом положении, в деревянном гробу, сколоченном железными коваными гвоздями. Ориентация погребений обычно головой на З или с отклонением на ЮЗ, или СЗ (погребения 1, 3-10, 14, 17, 25, 26, 28, 29, 34-46, 56-68, [с. 156] 84, 85). Лишь в единичных случаях погребенный лежал головой на СВ (погребение 9) или Ю (погребения 83, 87).
В группе погребений, раскопанных В.В.Хвойкой на взгорьях вдоль Кирилловской ул., исследователем был отмечен своеобразный обряд. Некоторые скелеты были окружены железными гвоздями, воткнутыми в землю, на небольшом расстоянии один от другого. В.В.Хвойка высказывал предположение, что этими гвоздями прибивалась рогожа или какое-нибудь покрывало другого рода, накинутое на покойника [там же]. Известно, что подобные погребения, где скелет окружен воткнутыми в землю гвоздями, весьма распространены в курганах древлянской земли, однако там погребенный обычно лежит не в грунтовой могиле, а на горизонте (под курганной насыпью). По словам В.В.Хвойки, погребения на горизонте (без могильной ямы) были им обнаружены и в Киеве, при раскопках в усадьбе Петровского и в нижней части возвышенностей возле Кирилловской ул. Место, на котором лежал костяк, было тщательно выровнено слоем утрамбованной, докрасна обожженной глины и иногда вокруг обложено камнями. Над покойником насыпался невысокий курган [там же, стр. 54-55].
Необходимо
отметить еще одну своеобразную особенность погребального обряда, установленную
С.Гамченко в нескольких захоронениях, раскопанных им в усадьбе Трубецкого. В
погребениях 35, 37, 39 и 45 погребенный, лежавший в обычном деревянном гробу,
был обильно посыпан золой и углями. В этом обряде несомненно отразились
пережитки трупосожжения. Эта особенность должна быть отмечена и в одном из
богатых погребений, открытом в
Отголоском еще более отдаленных представлений является обряд посыпания зерном, установленный раскопками С.Гамченко в одном из погребений той же группы. Погребенный был обильно посыпан льняным семенем, скопле[с. 157]ния которого были сосредоточены около черепа, возле обеих ног, у таза и у ступней ног (погребение 34).
На погребальном кострище, открытом в конце 90-х годов в усадьбе Софийского собора, в котором были найдены бронзовая курильница и многочисленные куски перегоревшей ткани “с византийским рисунком”, по словам В.В.Хвойки, также были обнаружены поджаренные зерна пшеницы и проса, расположенные слоями (погребение 118) [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 56].
В одном из погребений, раскопанных в усадьбе Трубецкого, обнаружена особенность, широко распространенная в северно-русских, в частности новгородских, захоронениях: верхняя часть скелета, лежавшего в деревянном гробу, была покрыта берестой (погребение 37).
Погребальный инвентарь в рядовых захоронениях киевского некрополя очень несложен и незначителен по количеству.
Во многих захоронениях встречена глиняная посуда, или в виде целых горшков, по-видимому, с пищей (погребения 9, 17, 22, 31, 32, 51-55), или в виде обломков, может быть, представляющих остатки погребальной тризны (погребения 35-39, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 56-68, 81, 84, 91). В отдельных случаях исследователи указывали на то, что посуда была лепная (погребение 84).
В мужских погребениях часто встречаются железный нож с костяной рукоятью (погребения 1, 8, 21-23, 25, 40), кресало и кремень для высекания огня (погребения 23, 25, 38), последние иногда находятся в кожанном мешочке-кисете (погребение 21); оселок для заточки ножа или стрел (погребения 23, 45), костяной гребень в футляре (погребение 24).
В мужских погребениях дважды найдены (в одном случае возле головы) костяные роговые поделки в виде кривого острия, тыльный тупой конец которого обработан в виде головы зверя (погребения 24, 25; табл. VI – VII).
Хорошо
отполированное кривое острие, сделанное из роговой кости, с тыльным концом,
обработанным в виде головки зверька, найдено в
Интересный
экземпляр подобных изделий найден в землянке Боршевского городища [П.П.Ефименко и П.Н.Третьяков. Древнерусские
поселения на Дону. – МИА СССР, №
Такое же острие было обнаружено П.Н.Третьяковым в кургане XI в. на оз.Имоложье, около Бологого. У пояса погребенной там женщины находились остатки мешочка, содержавшего железные ключи, бронзовые крестовидные [с. 158] подвески, несколько просверленных астрагалов и упомянутое острие, конец. которого обработан в виде головы лося [там же, стр. 48]. Такие же костяные поделки, но несколько меньшего размера встречаются н курганах южного Приладожья. Н.Е.Бранденбург называл их “шильями с головами драконов” [Н.Е.Бранденбург. Курганы южного Приладожья. – MAP, № 18, СПб., 1895, стр. 86-87, табл. V, 5, 9].
Назначение этих предметов, по-видимому, распространенных не только в городских, но и в сельских поселениях Киевской Руси, остается невыясненным. Применяемое по отношению к этим изделиям наименование “кочедык” лишено оснований.
В нескольких
рядовых захоронениях киевского некрополя, так же как и в отдельных богатых
срубных гробницах, встречены кабаньи клыки. Из описания И.Хойновского,
зарегистрировавшего эти находки в погребениях 51-55, невозможно установить, в
каком количестве клыки найдены в отдельных погребениях. В коллекцию
И.Хойновского попало четырнадцать штук, хозяин усадьбы, в которой производились
раскопки, взял и себе некоторое количество. В сруб ном погребении, открытом в
усадьбе Десятинной церкви в
Находки
клыков кабана нередки и в культурных слоях Киевского городища. По словам К.
Болсуновского, “В.Б.Антонович находил их во множестве на местах древних
киевских капищ (?! – М. К.), а В.В.Хвойка – в садах при Десятинной церкви
(раскопки
Рис. 20. Священный дуб с засаженными в него кабаньими клыками. [с. 159]
Исключительный интерес представляет найденный на дне русла Десны между Остром и Черниговом огромный ствол дуба, в который были засажены четыре кабаньих клыка (рис. 20) [К.Болсуновский, ук. соч., стр. 3]. Эта находка свидетельствует о тесной связи культа священных деревьев с культом зверей в древней восточно-славянской мифологии. Как свидетельствует найденный во Вщиже кабаний клык с процарапанной на нем надписью “Г(оспод)и помози рабу своему Θом” [Б.А.Рыбаков. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж. – По следам древних культур. Древняя Русь. М., 1953, стр. 118 и 120], амулеты этого рода продолжали бытовать и в христианской среде.
Наряду с кабаньими клыками в некоторых киевских захоронениях встречены также медвежьи клыки (погребения 51-55) и коготь (погребение 38). В одном погребении, если доверять И.Хойновскому, был обнаружен клык барса (погребения 51-55).
Несколько богаче по инвентарю женские рядовые погребения, в которых нередки ожерелья (погребения 3, 9, 10, 14, 15, 17, 27-30, 33, 48, 50, 83, 90), височные кольца (погребения 26, 30, 83, 84), серьги (погребения 26, 33, 94). Очень редки в киевских массовых захоронениях перстни (погребения 46, 50, 90). Совсем не встречены металлические браслеты. Находки в трех погребениях стеклянных браслетов, может быть, свидетельствуют о несколько более поздней дате захоронения.
Ожерелья состоят из пастовых, сердоликовых, хрустальных и стеклянных бус, а также из различных подвесок – монет, лунниц, раковин. Некоторые из ожерелий насчитывают в своем составе до 50 бус, другие состоят из двух-трех-пяти бусин.
Монеты, найденные в составе ожерелий, подробно рассмотрены ниже, в связи с вопросом о дате погребений.
Височные кольца в массовых погребениях представляют обычно небольшие проволочные колечки с несомкнутыми концами. У восьми височных колец из погребения 30 один конец расплющен и завернут (табл. X, 4).
Заканчивая характеристику рядовых погребений киевского некрополя, нужно напомнить о довольно многочисленной группе захоронений без инвентаря (погребения 2, 4-7, 11-13, 16, 18-20, 41, 69-72, 74-80, 85, 92). Не следует думать, что эта группа покойников была погребена без вещей. В большинстве случаев, по-видимому, при погребенных находились вещи, сделанные из нестойких материалов (дерево, ткани), бесследно исчезнувших. Кроме того, нужно помнить, что в группу погребений “без инвентаря” нередко попадают погребения, которые были раскопаны без необходимой тщательности; мелкие или плохо сохранившиеся вещи при этом остались незамеченными.
Среди рядовых
мужских погребений заслуживает особого внимания несколько захоронений, в
составе погребального инвентаря которых есть немногочисленные предметы
вооружения. Так, в погребении 8, раскопанном в
К этой же
группе следует отнести отлично сохранившееся погребение, раскопанное нами в
В ногах у погребенного
находился какой-то деревянный ящичек с железной оковкой. Точно такой же ящичек,
лежавший также у ног скелета, обнаружен в погребении, раскопанном нами в
[Обломки деревянного ящичка со следами ткани найдены в срубном погребении Хв. в одном из курганов Седневской группы под Черниговом. См.: Д.Я.Самоквасов. Могилы русской земли. – М., 1908, стр. 205. Любопытно, что какой-то деревянный ящик,сбитый гвоздями, был обнаружен в погребении, раскопанном Е.А.Зноско-Боровским в одном из курганов близ с. Берестяное Каневского у., относящихся к числу могильников киевских торков и бврендеев. См.: А.Спицын. Курганы киевских торков и берендеев. – ЗОРСА (нов. сер.), т. XI, вып. 1-2, СПб., 1891, стр. 159-160]
Полагаем, что все перечисленные выше погребения принадлежат рядовым дружинникам, составлявшим основную массу княжеской дружины, резко отличавшуюся по своему социальному положению от все более и более обособляющейся аристократической верхушки дружины.
Среди
погребений киевского некрополя особняком стоит погребение, случайно
обнаруженное в
Весы служили для взвешивания серебра или монет, которые, как известно, резались на две, четыре или другое количество частей. Складные весы и гирьки к ним неоднократно находили в богатых по инвентарю курганах Гнездова, Приладожья, на Верхней Волге и в других местах.
В гпездовских
курганах раскопками только последних лет, ведущимися под руководством
Д.А.Авдусина, дважды обнаружены складные весы, из которых один экземпляр почти
целый, но без чашечек, другой представляет обломок орнаментированого коромысла.
Гирьки к таким весам в гнездовских курганах были найдены много раз; форма их
бочковидная или многогранная [Д.А.Авдусин. 1)
Гнездовские курганы. – Смоленск, 1952, стр. 17, 20; 2) Гнездовская экспедиция (
Наборы или
единичные экземпляры весовых гирек и части весов довольно часто встречаются в
курганах IX-Х вв. Ярославского Поволжья. Они были встречены в нескольких
курганах в известном Михайловском могильнике близ Ярославля (курганы №№ 10, 20
и 44 – 1897г., №№ 1, 5 и 10 –
Д.А.Авдусин, отмечая случаи находок весов и гирек в погребениях, в которых вместе с тем было найдено небогатое оружие и поясные наборы, считал, что погребения эти принадлежат рядовым дружинникам [Д.А.Авдусин. Гнездовские курганы, стр. 24]. Весы и гирьки выступают в этих погребальных комплексах как атрибуты купца-воина.
5. Рядовые погребения киевского некрополя (трупосожження)
К числу рядовых погребений городского населения несомненно относится и большая часть трупосожжений, обнаруженных как в могильнике I, так и, в значительно большем количестве, в могильнике II. Не следует из этого делать вывод, что обряд кремации покойников более характерен для могильника на Кирилловской ул., а обряд ингумации – для могильника на Андреевской горе. Значительные части могильника на Кирилловской ул. сохранились вплоть до конца XIX-начала XX в. в виде курганов, которые подверглись систематическим раскопкам. Могильник на Андреевской горе уже в конце Х в. оказался в центре нового города Владимира. Тогда же его курганные насыпи были снесены. С той же поры территорию могильника начали энергично застраивать. Многие погребения этого могильника были открыты при случайных земляных работах. Вполне естественно, что значительная часть кострищ при этих работах оставалась незамеченной. Как будет показано ниже, даже при археологических раскопках значительные комплексы находок из трупосожжений порой оставались непонятыми. Тем не менее еще В.В.Хвойка отмечал, что при раскопках в усадьбе Петровского ему не раз попадались погребения с трупосожжением.
“Обнаруженные здесь погребения, – сообщал он, – заключали в себе и одни кострища с остатками пережженных костей, и кострища с сосудами, в которых были уложены остатки сожженного тела покойника” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 56].
Ниже даны описания погребений с трупосожжением, обнаруженные в разные годы в могильнике I.
Погребение 95
Обнаружено в
Погребение 96
В рукописной инвентарной книге Музея древностей при Киевском университете под № 176 значится еще одна “большая, глиняной массы урна, без ушей и без шейки, в которой находились прах и кости человеческие”. Согласно записи в инвентаре, урна была найдена Анненковым на отлогости горы ниже Михайловского монастыря и поступила в музей при выписке из журнала заседания Комитета древности от 10.IX.1838 г. [Инвентарь Музея древностей Университета св. Владимира, № 176. КИМ]
Погребение 97
Обнаружено
28.II.1892 И.Хойновским при земляных работах в неоднократно упомянутой выше усадьбе
Кривцова, на глубине около
“кроме массы угля, найдены были кусочки обуглившегося дерева и кусочки сожженных костей; при этом кострище найдено было только много черепков битой посуды и кости съеденных на тризне животных: куриных, гусиных, овечьих и др.” [там же].
Погребение 98
Обнаружено в
мае
Погребение 99
В июне
Погребения 100, 101
Обнаружены в
Находки
погребений с трупосожжениями в могильнике II известны уже давно. Еще в
Погребение 102
Вблизи от описанного выше погребения 88 обнаружен сосуд из белой глины, сделанный на гончарном круге. По венчику сосуда “криволинейный” (по-видимому, волнистый?) орнамент. Сосуд, опрокинутый вверх дном, заключал в себе пережженные человеческие кости [В.Б.Антонович. 1) Археологические находки и раскопки…, стр. 252; 2) О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве, стр. 43].
Сообщая о тех
же находках в усадьбе Марра, А.Рогович дополнял факты нелепыми вымыслами; так,
например, он писал о находке не только “горшков (!) с посмертным пеплом и
уцелевшими полуобгорелыми костями человеческими”, но и “печи (!?) для сожигания
покойников” [А.Рогович. Об экскурсии,
произведенной в
Большое
количество погребений с сожжением было обнаружено раскопками В.В.Хвойки в
усадьбах дд. 59-61 по Кирилловской ул. Отсутствие документации раскопок
вынуждает ограничиться суммарной характеристикой погребений. Погребения были
расположены на разном расстоянии одно от другого и представляли тщательно
выровненные кострища различной величины (2 –
В той же
усадьбе были найдены два погребения, расположенные в
Подобное же погребение было открыто на плато возвышенности в усадьбе Светославского (Кирилловская ул., д.81). Здесь также на незначительной глубине от поверхности земли был найден глиняный сосуд, наполненный кальцинированными человеческими костями, поверх которых лежал железный нож, два куска серы, бронзовая застежка и какой-то аморфный предмет [там же].
Как объяснить наличие двух различных погребальных обрядов в киевском некрополе, что характерно не только для рядовых массовых погребений, но, как будет показано несколько ниже, и для группы богатых погребений киевской знати. Погребения с ингумацией наряду с одновременно распространенным обрядом кремации известны не только в Киеве IX-Х вв. Сосуществование двух погребальных обрядов типично и для могильников Чернигова. Наоборот, в одновременном Гнездовском могильнике безраздельно господствует обряд кремации. Считать один из этих обрядов более древним нет особых оснований. Материалы черниговского и киевского некрополей свидетельствуют об одновременности тех и других погребений.
На сосуществование погребальных обрядов трупосожжения и трупоположения в киевском некрополе обращал внимание еще В.В.Хвойка, отмечавший, что эта черта, присущая еще культуре полей погребений, была унаследована и славянами VIII-Х вв. [там же, стр. 97]
Однако ссылка на более давнюю традицию не объясняет происхождения самого явления. Обоснованное решение этого вопроса будет возможно лишь тогда, когда более глубоко и всесторонне будут изучены сложнейшие процессы формирования восточного славянства, происходившего в ту эпоху, которая лежит за хронологическими гранями настоящего исследования. [с. 165]
6. Погребения знатных дружинников
Наряду с массовыми погребениями, рассмотренными выше, в составе киевского некрополя в разное время была обнаружена значительная группа богатых погребений с гораздо более сложным устройством могилы. Погребения эти обычно находятся в больших подземных деревянных срубах, перекрытых бревенчатым накатом. Инвентарь погребений этого типа резко отличается от инвентаря массовых погребений. Богатое вооружение, пышные одежды и драгоценные украшения, скелет коня и роскошная конская упряжь, находимые в погребениях этого типа, не оставляют сомнения в том, что это – погребения знатных представителей княжеской дружины. В нескольких случаях погребенного сопровождает женщина, по-видимому убитая рабыня.
Большая часть погребений этого типа, к сожалению, была обнаружена при случайных земляных работах или же раскопками, методическая сторона которых и особенно графическая фиксация оставляли желать много лучшего. Вследствие этого сложное устройство могильных сооружений, состав и особенно расположение инвентаря в могилах далеко не всегда могут быть восстановлены с желаемой полнотой и точностью. Тем не менее, учитывая исключительное значение погребений этой группы для решения многих проблем истории Киева в эпоху сложения Древнерусского государства, необходимо по возможности полнее охарактеризовать их сложное устройство и богатый инвентарь.
Погребения 103 – 108
Погребение 103
Обнаружено в
мае
Несмотря на
некоторую неясность описания, погребение, открытое в
Небезынтересно отметить, что при обсуждении сообщения П.Г.Лебедин-цева А.А.Котляревский заметил, что “сожжение не сразу перешло в погребение, а тело в переходный, так сказать, период или сжигали отчасти, или полагали на сожженное предварительно место” [там же]. Находки поступили в Музей Киевского университета. Обнаружить их в коллекциях Киевского исторического музея, куда поступило собрание университетского музея, нам не удалось.
Погребение 104
В
“костяную крупную привеску под узду лошади, сделанную в виде двойной новой луны, одна под другой, соединенных поперек столбиками с ушком для продевания шнурка в верхнем конце ее” [И.A.Xoйнoвcкий, ук. соч., стр. 13].
Там же были найдены наконечники стрел, “пик” и другие предметы. По словам И.Хойновского, Кибальчич забрал находки “в свою пользу” [там же].
Погребение 105
Обнаружено
6.III.1892 И.Хойнозским при земляных работах в усадьбе Кривцова, в срубе,
перекрытом деревянным дубовым накатом. Деревянный сруб (по терминологии
И.Хойновского – склеп) имел в длину около
Рис. 21. Наконечники стрел из колчана (погребение 105). [с. 168]
Общее
количество стрел в колчане было около 50 штук. Стрелы были разной величины и
формы (рис. 21). Колчан был сделан из луба, обтянутого кожей, и украшен
костяными прямоугольными бляшками величиной
Погребение 106
Рис. 22. Погребальный инвентарь (погребение 106). 1 — серебряная шейная гривна, 2 — амфора. [с. 169]
Обнаружено
И.Хойновским 26-27.II.1892 в той же усадьбе, в грунтовой могиле, вырытой в
материке на глубину около
Погребение 107
21.II.1892 при тех же работах была обнаружена грунтовая могила с парным захоронением. Мужской и женский костяки лежали рядом на подстилке из деревянных досок. Около них находилась большая амфора, покрытая “поясками и бороздками” по окружности. На руке у женского [с. 168] скелета был “коринфской меди” (бронзовый?) перстень, на квадратном щитке которого резное изображение цветка (розетки). Кроме того, в этой же могиле найдены костяной наконечник стрелы с высверленным отверстием для насадки на древко и стеклянный сосуд типа так называемых слезниц [там же, стр. 24].
Погребение 108
Обнаружено
весной
“Когда мы прокопали канаву для фундаменга, то нашли лежащие вдоль рва конские кости, а поперек, в боку канавы, виднелась человеческая голова. Вытащив ее, мы за ней увидели другие кости; выбирая последние, мы вытащили вместе с ними позеленевшую кожу, на которой были бляхи. Из кожи посыпались ребра. Сбоку костей был меч, топорик и кинжал с костяной рукоятью, также позеленевшей и украшенной резными цветами. У головы были бляшки (монеты), [с. 169] штук 40, которые мы приняли за олово от бутылок, почему, пробуя их, многие поломали и побросали, между костями нашли более десятка стеклышек (шашки) и костяную плитку с нарезками (зернь). Заметив, что бляхи серебряные, мы стали срывать их с кожи, некоторые поломали, а самую кожу порвали. Кроме того, при лошади были еще железные стремена и удила, но их вывезли вместо с землею на тачке. Подрядчик и городовой видели, как мы вытаскивали вещи, но сказали, что все это пустяки, и не мешали нам делать, что хотим” [В.Гезе, ук. соч., стр. 143].
Выяснить расположение блях на коже из рассказов участников работ В.Гезе не мог. Одни кожу эту называли латами, на которых бляхи сидели так тесно, что нельзя было разрубить кожу, не поломав их, другие утверждали, что это были остатки седла [там же].
Найденные вещи были разделены рабочими между собой; тот, которому достался меч, обломал конец последнего и собирался уже оторвать серебряную оправу с рукояти, когда о находке узнал торговец, который, приобретя оставшиеся целыми предметы, в свою очередь продал их В.Гезе. Позже вещи оказались в собрании Ханенко, а ныне часть их находится в Киевском историческом музее.
В коллекцию В.Гезе поступили следующие вещи из этого замечательного погребения.
1. Большой
стальной обоюдоострый меч, с отломанным острием (табл.
XIII). Длина меча
Рис. 23. Боевой топор (погребение 108). [с. 171]
2. Железный
боевой топорик (рис. 23); длина
3. Двенадцать целых и обломки от восьми поломанных больших серебряных, штампованных, довольно массивных блях, имеющих форму овала с заострением (табл. XIV). На лицевой поверхности блях – орнаментальный рисунок (крин), выполненный плоским рельефом на углубленном фоне. Углубленный фон был покрыт густой позолотой; на одной из блях позолота видна и на рельефе.
Контурам углубленного фона на лицевой стороне блях соответствуют выпуклости на обороте, свидетельствующие о технике выполнения блях. С оборотной стороны блях, по краю их сделаны невысокие шпеньки, с уцелевшими местами остатками кожи, с которой бляхи были сорваны находчиками; шпеньки прикреплены с помощью широких плоских колец. Все бляхи были выполнены, по-видимому, одним штампом. [с. 170]
4. Пятнадцать целых небольших серебряных блях сердцевидной формы (табл. XIV). Лицевая сторона со следами позолоты украшена орнаментальным рисунком, состоящим из кружков с точкой посредине и стеблей. В.Гезе видел в этом орнаментальном рисунке схематическое изображение головы животного (?). Все бляшки выполнены одним штампом. На обороте их по три шпенька.
5. Две целых и одна поломанная серебряные маленькие квадратные бляшки с углублением посредине и выемками по бокам (табл. XIV). На лицевой стороне бляшек сохранились местами следы позолоты, на оборотной стороне – один шпенек. Бляшки также выполнены одним штампом.
6. Два медных бубенчика с разрезом (табл. XIV).
7. Четыре
стеклянные игральные шашки в виде усеченного конуса с верхом в форме полушара
(табл. XIV). Три шашки из темного стекла, одна из голубовато-зеленого с черной
спиралью (табл. XIV). Высота их
8. Игральная кость, имеющая форму параллелепипеда размером 3:1.5:1.5 см (табл. XIV). В.Гезе считал материалом ее слоновую кость (?). Поверхность ее покрыта очками в арифметической прогрессии от 1 до 6, имеющими вид точек, окруженных двумя концентрическими кружками.
9. Шесть диргемов, из которых: а) один – Исмаила ибн Ахмеда 287 (900) г., чеканенный в Шаше, б) четыре – Насра ибн Ахмеда, из которых один чеканен в Самарканде, а другой представляет варварское подражание, в) один – автором описания не определен. Находчики утверждали, что монет было около 40 штук. Большая часть их исчезла.
Не были приобретены коллекционерами и бесследно пропали кинжал с позеленевшей костяной рукоятью, украшенной резными цветами, железные стремена и удила и некоторые другие предметы [там же, стр. 144-146].
По информации о находке погребения, напечатанной в “Археологической летописи Южной России”, скелет был “в шлеме и панцыре” [АЛЮР, 1900, июнь, Случ. находки, стр. 120]. Правдоподобность [с. 171] этого сообщения, к сожалению, не может быть установлена. Весь комплекс находок и отдельные вещи из этого погребения неоднократно издавались [Кроме цитированной выше заметки В.Гезе, см. также: информацию, напечатанную в АЛЮР, 1900, июнь, Случ. находки, стр. 120; Древности Приднепровья. Собрание Б.И. и В.Н.Ханенко, вып. V. Киев, 1902, табл. XX; J.Наmреl. Ornamentika a Honfoglalasi korernlekein. – Archaeologiai Ertesito, fc. XXIV, 1904, стр. 113].
В коллекции
Киевского исторического музея находится еще один предмет, по-видимому,
происходящий из того же погребения. Это большая серебряная фибула в виде
кольца, украшенного по кругу тремя рельефными головками птиц; к кольцу
прикреплена длинная игла (табл. XV). Фибула эта поступила в музей из
коллекции Б.Ханенко. В описании вещей этой коллекции сказано, что фибула была
найдена в
Погребение 109
Рис. 24. План раскопок восточной части Десятинной церкви (под южной апсидой – сруб погребения 109)
Под южной
апсидой Десятинной церкви и частично за ее пределами раскопками Д.В.Милеева в
Сруб опущен в
материк глубже подошвы фундамента храма. Глубина заложения нижнего венца сруба
от уровня современной поверхности
Д.В.Милеев,
не решавшийся определить назначение деревянного сооружения, высказывал, однако,
предположение, что раскопками открыты лишь нижние подвальные части какой-то
постройки, наземная часть которой не сохранилась [OAK
за
Разумеется,
решающим материалом в вопросе о назначении этого деревянного сооружения могли
быть находки на дне подземной камеры-сруба, если бы эта часть сооружения
сохранилась в достаточной степени. Поскольку большая часть сруба оказалась в
Однако, известно, что даже самые опытные хищники-кладоискатели, занимавшиеся с весьма давних пор ограблением богатых курганов, никогда не могут выбрать из погребения весь инвентарь полностью. Так было и при ограблении интересующей нас камеры. В заполнении нижней части сруба, ниже уровня подошвы фундаментов церкви, были найдены обломки толстых глиняных черепков с обильной примесью кварца, несколько аморфных в результате коррозии железных предметов, в частности гвоздей, а также два бронзовых [с. 173] предмета, представляющих особый интерес для выяснения вопроса о назначении сооружения.
Рис. 25. Погребальный инвентарь (погребение 109). 1 — бронзовый литой наконечник ремня; 2 — бронзовая литая накладка на ремень. [с. 175]
Это были
бронзовый литой наконечник ремня с сердцевидной петлей на одном конце и с
вырезкой в виде тупого угла на другом; на лицевой поверхности наконечника –
углубленный орнамент в виде квадрифолия (рис. 25, 1) и бронзовая литая
орнаментированная накладка на ремень с сердцевидной прорезью в середине (рис.
25, 2). Обе находки, а в особенности вторая, имеют ближайшие аналогии
среди инвентаря курганных погребений Х в. на Руси и в Венгрии [Д.I.Блiфельд. Деснянська археологічна експедиція 1949
р. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. V, К., 1955, стр. 20 и табл. II, 7; N.Felliсh.
Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn. – Archaeologia Hungarica, XXI,
Budapest, 1937, табл. 59, 1,
Изложенные
выше стратиграфические наблюдения, сделанные при раскопках, не оставляют
сомнений в том, что погребальное сооружение, открытое в
Погребение 110
Обнаружено
5-6.VI.1909 раскопками Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева в
усадьбе Десятинной церкви, к северо-востоку от развалин древнего храма, в
прямоугольной грунтовой могиле, вырытой в материковом лёссе. Могильная яма была
расположена на склоне рва, опоясывавшего некогда древнейшее городище на
Андреевской горе. К сожалению, как отмечалось выше, отчет о раскопках в
До недавнего
времени для реконструкции этого интереснейшего погребения могли служить лишь
информационные заметки в киевской и столичной прессе, печатавшиеся с 7 по
18.VI.1909 [Раскопки в Киеве в
В
Рис. 26. Могильная камера (погребение 110). [с. 177]
Вскоре среди фонда депаспортизованных негативов киевских раскопок тех же лет удалось найти один негатив, запечатлевший момент окончания расчистки интересующего нас погребения (рис. 26). На фотографии дна могильной ямы при сильном увеличении можно было узнать некоторые предметы, найденные среди упомянутых выше материалов из фондов Археологической комиссии. Сопоставление подлинных материалов и полевой фотографии с краткими заметками журналистов, написанными несомненно со слов руководителя раскопок, и описанием С.Вельмина позволило с уверенностью восстановить как общий характер, так и некоторые особенности детского погребения.
Корреспонденты киевских газет, описывая устройство могилы, называли ее “погребальным склепом в виде сруба, с завалившимся потолком”. Отпечатки деревянных стен сруба, отчетливо заметные на лёссовых стенках могильной ямы, не оставляют сомнений в том, что погребение действительно относилось к широко распространенному в киевском некрополе типу “срубных погребений”. Среди материалов из раскопок наряду с остатками истлевшего дерева найдено много железных гвоздей, связанных, по-видимому, с устройством деревянного наката над срубом.
На дне могильной ямы лежал головой на СЗ плохо сохранившийся детский костяк. Возраст погребенного во время раскопок определяли, разумеется весьма приблизительно, в 6-8 лет. Возле скелета, на нем и по всей площади могильной ямы лежал многочисленный и разнообразный погребальный инвен[с. 175]тарь, начиная от гяиняных и деревянных сосудов с пищей и питьем и кончая детскими игрушками.
На груди были найдены два серебряных диргема, служившие в качестве подвесок. На одном из них сохранилось приклепанное ушко для подвешивания, на другом – два довольно больших круглых отверстия (табл. XVI, 1-4). На втором диргеме процарапан крест с тремя перекладинами [С.П.Вельмин. Археологические изыскания…, стр. 138. По-видимому, в действительности на диргеме процарапана разметка для разрезки его на части], ввиду чего С.Вельмин считал, что этот диргем носился как иконка. Обе монеты чеканены в Шаше при Ахмеде ибн Исмаиле в 299 (911-912) г. [определение А.А.Быкова]
На груди же была найдена серебряная крестообразная накладка (?) с расширяющимися концами (табл. XVI, 11). Поверхность накладки гладкая, за исключением средокрестия, которое украшено выпуклой круглой розеткой. На тыльной стороне – ушко для прикрепления накладки к какому-то предмету. Назначение крестообразной накладки неясно, однако не может быть сомнений в том, что это отнюдь не “нательный крест”, как полагал С.Вельмин, и вообще предмет, не связанный с христианским культом.
У ног погребенного стояли два деревянных ведерка, от которых сохранились лишь железные обручи и нижняя часть глиняного сосуда. Слева от скелета у стены сруба стояло еще три глиняных сосуда (два из них совершенно целые), около которых найдена прекрасно сохранившаяся костяная ложка с металлическим кольцом для подвешивания (табл. XVII).
Рис. 27. Орнаментированные астрагалы и “битки” (погребение 110). [с. 178]
С левой стороны от скелета лежал кучкой целый набор бараньих астрагалов для игры, состоявший из 157 “бабок” (табл. XVIII); некоторые из них украшены гравированным орнаментом, а некоторые (битки) налиты свинцом (рис. 27).
Кроме того, в разных местах могилы найдено много разнообразных предметов: фрагмент костяного одностороннего гребня (табл. XVI, 14), костяная свистулька (табл. XVI, 9) и обломки каких-то других костяных поделок, миниатюрный железный топорик (табл. XVI, 10), железный ножичек с костяной ручкой (табл. XVI, 5), бронзовая подковообразная пряжка (табл. XVI, 7), две маленькие серебряные пуговицы с ушками, бронзовое коромысло миниатюрных весов (?) (табл. XVI, 12), два миниатюрных оселка (табл. XVI, 6, 8) и масса аморфных обломков каких-то железных изделий (табл. XVI, 15).
Особого
внимания заслуживают три кабаньих клыка (табл. XIX, 1) и множество раковин
unio с просверленными круглыми отверстиями (табл. XIX, 2). Погребение благодаря
многочисленному и разнообразному инвентарю было объявлено “погребением дитяти
богатого варяга” [Раскопки в Киеве в
Погребения 111 – 113
Погребение 111
Рис. 28. Общий вид погребения 111. [с. 179]
Обнаружено в
В погребении найден следующий инвентарь:
1. Четыре фрагмента перстня из низкопробного серебра (находились под тазовыми костями мужского скелета).
2. Железный наконечник дротика (копья?) (там же).
3. Железный наконечник стрелы с остатками обгорелого дерева (там же).
4. Обломок кольчуги из железных колец (там же).
5. Обломок железного гвоздя (там же).
6. Фрагмент железного ключа.
7. Бронзовое кольцо (находилось у правой ступни мужского скелета). [с. 177]
8. Обломок бруска из шифера.
9. Пять фрагментов стеклянного витого браслета фиолетового цвета и одив фрагмент темно-зеленого цвета.
10. Два фрагмента круглой подвески с ажурной решетчатой плетенкой.
11. Золотая трехбусинная серьга.
12. Свыше ста
фрагментов глиняных сосудов [Дневник раскопок
Погребение 112
Обнаружено в
июле-августе
По стенкам
могильной ямы были хорошо видны отпечатки деревянного сруба, а местами хорошо
сохранились и истлевшие остатки дерева. Сверху могильная яма была перекрыта деревянным
накатом, следы которого были хорошо видны на верхних обрезах ямы (табл. XX, 1).
Накат под тяжестью курганной насыпи, разумеется, давно провалился и могильная
яма сплошь заполнилась рыхлой землей, под которой на дне ямы сохранились
остатки в значительной степени разграбленного богатого погребения. На дне
могильной ямы обнаружены два плохо сохранившихся скелета – мужской и женский,
[с. 178] лежавшие рядом, головой на З. В северо-западном углу могильной ямы, на
расстоянии
На дне могильной ямы найден богатый погребальный инвентарь, расположение которого по отношению к костякам, к сожалению, не было ни описано, ни зарисовано при раскопках.
Большая часть находок происходит из богатого женского убора; лишь остатки железной обивки щита и боевой конь, погребенный в той же могиле, свидетельствуют о том, что это погребение дружинника – воина с рабыней. По-видимому, вещи, связанные с мужским погребением, и в первую очередь оружие привлекли основное внимание грабителей.
К числу вещей женского убора, найденных в погребении, несомненно принадлежит ожерелье из бус и монет-подвесок, височные кольца и фибула. Перстень, судя по размеру фаланги пальца, на которой он был найден, по-видимому, тоже принадлежал женщине.
1. Ожерелье состоит из восьми сердоликовых бусин и восьми серебряных диргемов. Бусы двух видов-одна цилиндрическая, остальные семь граненые (табл. XX, 2, а).
Из восьми диргемов у шести [в отчете о раскопках говорится о находке семи диргемов-подвесок и двух без приспособлений для подвешивания. В инвентарной описи, однако, значатся всего восемь монет] сохранились бронзовые приклепанные ушки с петелькой для подвешивания (у одной монеты сохранились только следы от ушка), у седьмого диргема ушко, возможно, обломилось вместе с краем монеты, на восьмом следов прикрепления ушка нет (табл. XXI). [с. 179]
Семь диргемов чеканены при Саманидах:
три – Исмаилом, сыном Амхеда (из них два в Шаше – в 287 (900) г. и в 288 (900-901) г. и один в Самарканде – в 287 (900) г.);
один – Ахмедом, сыном Исмаила, в Самарканде – в 300 (912- 913) г.;
три – Насром, сыном Ахмеда, из которых два в Шаше (один в 310 (922-923) г., дата другого находилась на отломанной части монеты) и один в Мерве в 302 (914-915) г.
Восьмой диргем с сильно стертой поверхностью не поддается определению. Таким образом, по крайней мере семь монет из восьми относятся к одному периоду – между 900 и 923 гг. [определения А.А.Быкова]
2. Большой
интерес представляют три височных кольца с фигурной подвеской (одно целое, два
незначительно фрагмеитированы), обычно неправильно называемые “серьгами
волынского типа” (табл. XX,
2, б). Каждое из этих украшений представляет кольцо из тонкого
серебряного дрота, на котором укреплены две бусинки, состоящие из шести шариков
мелкой зерни. Нижняя половина кольца перевита четырьмя тонкими сканными
проволочками. Сканная проволочка образует, кроме того, несколько петель внутри
нижней части кольца. Под кольцом свисает прикрепленная петелькой длинная
зерневая подвеска, состоящая из шести нанизанных одна под другой звездочек,
каждая из которых имеет по четыре луча. Каждый луч в свою очередь состоит из
двух зерневых шариков, одного более крупного, другого помельче, и миниатюрного
колечка между ними. Внизу всю подвеску замыкает луч такого же устройства.
Диаметр кольца 3:2.7 см, длина нижней подвески
3. Наиболее
эффектной вещью из женского убора, сохранившейся в могиле, является несомненно
большая серебряная фибула, состоящая из большого массивного кольца и длинной
иглы (табл. XXII). Кольцо, имеющее не вполне
круглую форму (диаметр 5.8-
4. Серебряный перстень состоит из широкого пластинчатого щитка, занимающего более трех четвертей всей окружности перстня, и дужки в виде двух тонких проволочек, завязанных посредине узелком (табл. XX, 2, в). Края щитка имеют фигурный обрез в виде волнистой линии. На лицевой поверхности щитка чеканный, заполненный чернью орнамент, состоящий из кружков, образующих волнистые линии поперек щитка, прямых полосок и мелких точек, покрывающих весь фон щитка.
5.
По-видимому, в качестве подвески ритуального назначения служил маленький
бронзовый литой ключик (вероятно херсонесского происхождения) с подвижным
фигурным кольцом; на плоской, почти квадратной бородке – четыре сквозных
круглых отверстия. Длина
6. В том же погребении найдены две сильно потускневших жемчужины.
[Отчет о работе Киевской археологической экспедиции в
1936-1937 гг., стр. 45-4; Дневник Киевской археологической экспедиции
Погребение 113
Обнаружено
1-5.VIII.1939 раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН СССР и ИА
АН УССР под руководством автора в усадьбе Десятинной церкви (№ 17/1939 г.), в
западной части среднего нефа древнего храма. Могильное пятно было обнаружено в
лёссе, при зачистке рва ленточного фундамента церкви на оси северных столбов
среднего нефа и рва крайней западной поперечной перемычки среднего нефа, на
глубине
Могильное
пятно, имевшее форму квадрата, в юго-западный угол которого врезался фундамент
северо-западного столба новой Десятинной церкви (XIX в.), было перекрыто
деревянными субструкциями фундаментов древнего храма. Ниже этих субструкций
обнаружен завалившийся деревянный накат, сложенный из тонких бревен, положенных
в два ряда, перпендикулярно один к другому. Под завалом наката были расчищены
северная, восточная и южная стены квадратного сруба, рубленного “в обло”, от
которого сохранился in situ лишь один нижний венец (табл.
XXIII, 1). Бревна развалившейся восточной стенки сруба были
обнаружены под завалом наката. Бревна нижнего венца лежали на
Вдоль южной стенки сруба лежал костяк, верхняя часть которого (до таза) не сохранилась. По-видимому, при закладке столба новой церкви провалившийся деревянный накат сруба привлек чье-то внимание и верхняя часть скелета, вместе с одеждами и частью вооружения была из гробницы вытащена. Нижняя часть скелета в свою очередь была повреждена фундаментом столба новой церкви. Слева от костяка, т. е. между южной стенкой сруба и скелетом, были найдены боевой топор и железный наконечник копья (рис. 29). Во втулке топора сохранились остатки деревянной рукояти.
|
Рис. 29. Наконечник копья, боевой топорик, удила, стремена, железные пряжки, бронзовые бляшки и серебряная накладка (погребение 113). [с. 181] |
Рис. 30. Фрагмент глиняного сосуда (погребение 113). [с. 183] |
В северо-восточном углу под развалом верхнего наката и восточной стенки был найден in situ отлично сохранившийся комплекс погребального инвентаря. Почти в самом углу лежало несколько фрагментов глиняного сосуда, сделанного на гончарном круге. В склеенном виде фрагменты представляют стенку сосуда со слабо отогнутым венчиком и волнистым орнаментом [с. 183] по плечикам; ниже почти все тулово сосуда покрыто линейным орнаментом (рис. 30). В глине большая примесь кварца, обжиг плохой.
|
Рис. 31. Семь бронзовых бляшек от конской сбруи и одна серебряная прорезная накладка (погребение 113). [с. 184] |
Рис. 32. Стрелы, железные обломки колчана, куски кожи (погребение 113) |
В том же северо-восточном углу сруба лежали истлевшие деревянные и перержавевшие железные части большого колчана, внутри которого было найдено более двадцати стрел. Сохранились не только железные наконечники стрел, но частично и древки (рис. 32). Форма стрел ромбовидная. Поверх нижней части колчана лежали конские железные удила, а рядом с ними ближе к центру сруба, пара железных стремян (рис. 29). Тут же найдены куски кожаных ремней с прикрепленными к ним семью сердцевидными бронзовыми орнаментированными бляшками (рис. 31) и четырьмя железными пряжками; на одном из кусков кожи, была прикреплена литая серебряная прорезная накладка в виде полукруга из стилизованных стеблей с листьями (рис. 31). Несмотря на то, что в гробнице не было обнаружено скелета коня, находка полного ассортимента конского снаряжения не оставляет сомнения в том, что погребение коня (целиком или разрубленного на части) находилось в западной разрушенной части сруба.
Рис. 33. Железные обручи и дужка деревянного ведра (погребение 113). [с. 185]
В
В гумусном заполнении сруба (над накатом) было найдено несколько фрагментов керамики, три железных гвоздя, астрагал, обломки человеческих костей. Не исключено, что эти предметы были выброшены из западной (разрушенной) части сруба, при закладке фундамента столба церкви XIX в. [Предварительное сообщение об этом погребении опубликовано в нашей статье “Погребение киевского дружинника Хв.” (КСИИМК, V, Л., 1940, стр. 79-82); см. также: М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 85-88]
Погребения 114 – 117
Погребение 114
Обнаружено в
После
удаления глиняной обмазки пола на всей площади жилища, в углу, образуемом
северо-западной стеной и печью, в светлом материковом лёссе, [с. 185] на глубине
Рис. 34. Общий вид погребения 114. [с. 186]
Расчистка
этого пятна привела к обнаружению парного погребения в камере (рис. 34; табл.
XXIV). От последней сохранились остатки дерева вдоль стенок
могильного пятна и три круглые ямки (диаметр 0.15-
На дне камеры был обнаружен мужской костяк, лежавший головой на С.
Вдоль правого бедра находился отлично сохранившийся меч франкского типа (табл. XXV, 1, 2) и еще какой-то железный предмет, назначение которого ввиду его очень плохой сохранности установить не удалось. Слева у грудной клетки обнаружены фрагменты железной оковки колчана, в котором сохрани[с. 186]лись железные наконечники стрел (табл. XXV, 3). На грудной клетке найдено три бронзовых пуговицы. Слева от скелета воина рядом с ним лежал очень плохо сохранившийся женский скелет, кости которого за исключением черепа, почтм полностью истлели. Никаких вещей при этом погребении не обнаружено.
[М.К.Каргер. 1) Киевская экспедиция (
Погребение 115 (конское)
Обнаружено в
Рис. 35. Бронзовые украшения конского убора и подвеска из песчаника (погребение 115). [с. 187]
Скелет коня лежал на правом боку; передние ноги вытянуты по направлению к голове, задние поджаты. Череп обернут лубом, который частично покрывал и шею. Конь был погребен в сбруе, в полном боевом снаряжении. У средней части хребта сохранились остатки седла, подпруги стременных ремней, а неподалеку и железные стремена и подкова. Тут же были найдены остатки деревянного колчана и лука. У ног коня лежали железный наконечник копья, одиннадцать железных наконечников стрел различной формы, железный нож и такое же кольцо, подвеска из песчаника с просверленным отверстием (рис. 35) и ряд фрагментов аморфных в результате сильной коррозии железных предметов, назначение которых не удалось установить.
Несколько в
стороне (на расстоянии
У головы коня лежали железные удила и остатки перегнившей уздечки. Уздечка была богато украшена многочисленными бронзовыми (и серебряными?) украшениями – бляшками различной формы. На черепе и под ним, у шейных позвонков и на груди коня было найдено более двухсот бляшек. На многих хорошо сохранились шипы для прикрепления к ремню [С.Гамченко, ук. соч., стр. 29-30, 36]. Сохранившиеся мелкие бронзовые украшения конского убора можно расчленить на восемь разновидностей.
1. Сто
тридцать две целых и девять фрагментов круглых гладких бляшек (диаметр около
2. Восемнадцать бляшек такого же размера и формы; на лицевой стороне их пятиконечная звезда на углубленном фоне, первоначально заполненном серебром. Серебряной насечкой выполнено также колечко по краю бляшки и маленькое колечко с точкой в центре; посредине звезды (рис. 35).
3. Шестнадцать бляшек, состоящих из трех соединенных вместе кружков, Контуры двух концентрически расположенных колечек и точка в центре каждого кружка были первоначально исполнены серебряной насечкой (рис. 35). На обороте бляшек по два шипа.
4. Четыре бляшки четырехугольной формы с округленными углами. В середине бляшки ромб, обрисованный углубленной линией; в центре круглое сквозное отверстие (рис. 35).
5. Две круглых выпуклых бляшки; в центре их крупный полушарик; по краю полоска из мелких остроконечных лепестков (рис. 35).
6. Одна квадратная бляшка; в центре ее и посредине каждой из четырех сторон выпуклые полушарики (рис. 35).
7. Две большие круглые бляшки. На лицевой стороне четырехлепестковые розетки с остроконечными лепестками. В центре розеток выпуклый полушарик (рис. 35). [с. 188]
8. Семнадцать наконечников ремней с округленным одним концом. На лицевой стороне углубленное изображение ветки с тремя овальными листьями (рис. 35).
Кроме того, к составу конского убора принадлежали две бронзовых бляхи листовидной формы (рис. 35) [аналогичная, но литая бляха листовидной формы с рельефным орнаментом найдена при раскопках Д.В.Милеева в усадьбе Десятинной церкви].
Среди многочисленных погребений, обнаруженных раскопками разных дет в могильнике II, лишь три погребения можно отнести к интересующей нас группе.
Погребение 116
Обнаружено в
Интереснейшие
сведения об этом погребении опубликовал киевский архитектор В.Николаев в
“Корреспонденции из Киева”, напечатанной в журнале “Зодчий”. Сообщая о
постройке в
“При
постройке этого завода в горе, на 5 аршин от поверхности зешш, найдена медная
булавка, рисунок которой прилагаю. Булавку эту, покрытую сильной окисью, с
ос[с. 189]татками позолоты, отрыли вместе со скелетом человека и лошади; тут же
найден железный меч, совершенно испорченный окисью, обоюдоострый, длиной до 1.5
аршин, шириной вершка
Рис. 36. Кольцевая бронзовая фибула (погребение 116). [с. 189]
При
корреспонденции был опубликован рисунок замечательной кольцевой фибулы с
длинной иглой (рис. 36). Сопоставление сообщений В.Антоновича и В.Николаева
позволяет с уверенностью установить, что в
Погребение 117
Обнаружено в
По словам В.Б.Антоновича, в могиле был найден “всадник на лошади, с полным вооружением: кольчугой, шишаком и обоюдоострым мечом, характеризующим древнюю эпоху Киевского княжения” [В.Б.Антонович. О древнем кладбище у Иорданской церкви в Киеве, стр. 43]. Голова лошади была проломана большим камнем, найденным в черепе [там же].
По другому, более подробному описанию, сделанному со слов владельца усадьбы, в погребении, кроме костей человека, найденных совместно с костями лошади, были обнаружены:
1) большой обоюдоострый меч с тяжелой головней (франкского типа), подобный мечам, находимым в могильниках Киева, Чернигова, Смоленска и других древнерусских городов;
2) верхняя часть железного шлема (шишака);
3) два железных стремени;
4) восемь железных наконечников стрел;
5) бронзовая с серебряной насечкой пряжка от пояса;
6) железный наконечник копья, и
7) железный топор [В.Б.Антонович. Археологические находки и раскопки…, стр. 252-253].
Описывая то же погребение, другой автор сообщал о находке, кроме упомянутого выше инвентаря, еще седла со стременами, сумки с железными стрелами, двух тонких серебряных крестов (по-видимому, крестовидных подвесок), небольшого бруска, употреблявшегося, по мнению автора, для заточки стрел, части пояса, двух больших медных вызолоченных пряжек с выпуклыми украшениями (скорлупообразных фибул?) и иглы из красной меди [А.Рогович, ук. соч., стр. 233-234]. Тот же автор сообщал о находке вместе со скелетом коня трех человеческих скелетов. Головы всадника и лошади, по его словам, были раздроблены кистенем, круглым булыжником, зашитым в кожу [там же]. В этом сообщении инвентарь погребения явно перепутан с инвентарем погребения 125 (см. ниже). Погребение 117 отно[с. 190]сится к распространенному в киевском некрополе типу дружинных погребений с конем. Богатый инвентарь погребения бесследно пропал у владельца усадьбы.
Погребения 118 – 121
Погребение 118
Обнаружено в
Рис. 37. Общий вид кургана в процессе раскопок (погребение 118). [с. 191]
На
возвышенной части упомянутой усадьбы, отделенной оврагом от соседней усадьбы
Иорданской церкви, до
Под насыпью
кургана обнаружилась прямоугольная могильная яма (4.5:3.15 м), вытянутая по оси
СВ-ЮЗ. Яма была вырыта в плотном материковом [с. 191] грунте на глубину до
Никаких следов деревянного сруба, по-видимому, установить не удалось, да при том способе, которым велись “раскопки”, это и невозможно было сделать. Однако характер погребального сооружения, открытого под курганом, позволяет с уверенностью отнести его к широко распространенному в киевском некрополе типу погребений в срубах. Могильная яма несомненно была перекрыта, кроме того, деревянным накатом, над которым возвышалась высокая курганная насыпь.
|
Рис. 38. Шпоры, пряжка, бронзовое кольцо, пастовые бусы, миниатюрный стеклянный сосудик, серебряная оковка деревянной чаши (погребение 118). [с. 192] |
Рис. 39. 1 – 2 – бронзовая ручка от кресала (погребение 118); 3 – 4 – аналогии из Прикамья. [с. 193] |
Северо-восточная часть могилы была нарушена кладоискательской ямой. Найденные здесь человеческие кости и отдельные предметы лежали в полном беспорядке. По мнению Н.Ф.Беляшевского, кости в этой части могильной ямы принадлежали, по-видимому, трем погребениям. В северном углу ямы под черепом лежала железная шпора (рис. 38), а возле нее окислившийся железный [с. 193] предмет, по-видимому, подковка от сапога. В этой же части ямы найдена бронзовая фигурная ручка от железного кресала со скульптурными изображениями двух птиц, клюющих голову стоящего между ними человека (рис. 39). В средней части могилы найден миниатюрный стеклянный сосуд (рис. 38).
Рис. 40. Костяная пластина из распиленного лосиного рога (погребение 118). [с. 195]
Кладоискательский раскоп, к счастью, разрушил не все погребение. Юго-западная сторона могильной ямы оказалась нетронутой. Здесь, очень близко к стенке ямы, лежал скелет с вытянутыми вдоль туловища руками и ногами, головой на ЮВ. У левой руки его находились три крупных разноцветных пастовых бусы и бронзовая пуговка. Большое количество разнообразных предметов найдено возле ног скелета. У ступни правой ноги лежала железная шпора (рис. 38), парная к той, что найдена в северо-восточной части могилы. Тут же лежало бронзовое литое кольцо (рис. 38). Под правой ступней найдена костяная пластина, сделанная из распиленного вдоль лосиного рога (рис. 40). Пластина имеет форму неправильного треугольника, один из углов которого обработан в виде стилизованной головы птицы с клювом и большим круглым отверстием на месте глаза. Поверхность пластины почти сплошь изрыта выщер-бинами, среди которых лишь кое-где видны следы врезанных линий. Однако восстановить рисунок уже нет возможности.
На пластине
несколько круглых отверстий различного диаметра, служивших для прикрепления ее
к какому-то предмету. Очевидно, для этой же цели служило несколько параллельных
нарезок на одном из углов пластины. Н.Ф.Беляшевский считал пластину налучьем,
отмечая в то же время, что незначительная величина предмета (длина
Аналогичные костяные накладки с выступом в виде головы хищной птицы, покрытые глубоко врезанным плетеным орнаментом, найдены в Шестовицком могильнике.
Рядом с
описанной костяной пластиной лежали кости какого-то мелкого животного. Между
голенями ног стояла деревянная точеная чаша (диаметр верхнего края
Н.Ф.Беляшевский, образно назвавший описанное погребение “курганом-могиканом на территории Киева”, полагал, что эта была коллективная могила с ритуалом погребения, “схожим с позднеязыческим славянским”, однако при этом почему-то высказывал сомнение в славянском происхождении погребения [Н.Ф.Беляшевский, ук. соч., стр. 361]. [с. 194]
К числу богатых погребений знати несомненно можно отнести и весьма немногочисленные погребения с кремацией покойников.
Погребение 119
В конце 90-х годов XIX в. в усадьбе Софийского собора при выемке земли для фундаментов большого дома было разрушено интересное погребение с сожжением. К сожалению, из-за невнимания и безучастного отношения находка была полностью потеряна для науки. Очевидец, случайно посетивший место постройки, видел на дне котлована, на значительной глубине остатки огромного кострища, большая часть которого была уже вывезена. Среди предметов, которые удалось извлечь из кострища, особое внимание вызвали “бронзовый котелок или курильница” и многочисленные куски перегоревшей ткани (парчи?) с ясно видным на них “византийским рисунком” [М.К. В усадьбе Киево-Софийского собора. – КС, т. LXIV, Киев, 1899, январь, Арх. летопись, стр. 46-47=АЛЮР, I, Киев, 1899, январь, Случ. находки, стр. 11]. По этим находкам трудно составить представление то несомненно богатом погребении.
Рис. 41. Бронзовая курильница (погребение 119). [с. 196]
Для уточнения места находки может служить замечание автора заметки о том, что участок Софийской усадьбы, на котором она была сделана, находится в нескольких шагах от усадьбы Есикорского, где незадолго перед этим был обнаружен известный клад ювелирных изделий [М.К. В усадьбе Киево-Софийского собора, стр. 46]. Об одной любопытной особенности софийского погребения была речь выше. По свидетельству В.В.Хвойки, на погребальном кострище были найдены “поджаренные зерна пшеницы и проса,расположенные слоями” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 56]. [с. 195]
Упомянутый бронзовый котелок, или курильница, позже был приобретен в коллекцию Ханенко [Древности Приднепровья, вып. VI, Киев, 1907, стр. 42 и табл. XXXIX]. Он представляет собой массивный литой сосуд на трех ножках с ручкой в виде втулки, в которую вставлялась деревянная рукоять (рис. 41).
Погребение 120
Обнаружено в
Погребение представляло собой остатки сожженных человеческих костей с прикипевшей к ним шлаковидной массой с зеленым окислом, а также подвергшиеся действию огня различные металлические и костяные изделия, лежавшие в слое золы и угля.
Погребение,
по-видимому, было в значительной мере разрушено при постройке на этом участке в
XVII в. большой керамической печи для обжига кирпича. В процессе раскопок плохо
сохранившиеся остатки погребального костра не были поняты как погребальный
комплекс [Дневник Киевской археологической экспедиции
Изучение состава находок, обнаруженных на этом участке, позволяет до известной степени реконструировать этот интересный разрушенный комплекс. В погребальном кострище сохранились следующие вещи: [с. 196]
|
Рис. 42. Костяные орнаментированные пластинки (погребение 120). [с. 197] |
Рис. 43. Бронзовые литые бляшки, наконечник ремня, пряжка, бубенчик, сердоликовая, костяная и настовая бусы, глиняное пряслице, два астрагала для игры и обломки железных предметов (погребение 120). [с. 199] |
1. Большое количество мелких, поломанных и подвергшихся действию огня костяных пластинок (накладок), украшенных орнаментом из кружочков с точкой посредине в различных композициях (рис. 42).
2. Пять круглых бронзовых, литых бляшек с изображением шестиконечной звезды на лицевой поверхности, исполненным серебряной инкрустацией (рис. 43).
3. Одна маленькая бронзовая, литая сердцевидная бляшка, также украшенная плохо сохранившейся серебряной инкрустацией (рис. 43).
4. Один бронзовый, литой наконечник ремня, с орнаментацией, по-видимому, первоначально также инкрустированной серебром (рис. 43).
5. Бронзовая литая пряжка в виде двух овальных колец, к которым с двух сторон примыкают маленькие щитки-выступы, один овальный, другой с заостренным концом. На лицевой стороне щитков углубленный орнамент, по-видимому, первоначально также заполненный серебряной инкрустацией (рис. 43).
6. Бронзовый бубенчик с одним разрезом (рис. 43).
7. Три бусины: граненая сердоликовая, плоская костяная и па-стовая оранжевого цвета (рис. 43).
8. Глиняное пряслице (рис. 43)
9. Два астрагала для игры; на одном процарапан орнамент, на другом просверлено круглое отверстие (рис. 43).
10. Обломок большого железного кольца с прикипевшей к нему кальцинированной костью.
11. Обломок железной скобы (от колчана?) (рис. 43).
12. Небольшой обломок электрового дрота, кусок окислившейся бронзы и несколько аморфных обломков железных предметов.
Сохранившиеся в погребальном кострище многочисленные фрагменты подвергшихся действию огня костяных пластинок, а также разнообразные брон[с. 197]зовые литые бляшки и наконечник ремня с серебряной инкрустацией, бронзовая литая пряжка, астрагалы для игры, на одном из которых выгравированный орнамент, сердоликовые и настовые бусы – все это свидетельствует о том, что погребение 120 представляло, по-видимому, захоронение дружинника с рабыней.
Погребение 121
Остатки
разрушенного трупосожжения обнаружены в
[Анализ]
Охарактеризованные
выше погребения по степени сложности погребального обряда распадаются на несколько
групп: в одном случае погребен богато вооруженный дружинник без коня
(погребение 105), в пяти случаях – дружинник в сопровождении боевого коня
(погребения 103, 106, 108, 113, 117); по-видимому, к этой же группе следует
отнести разрушенное погребение в срубе, раскопанное в
Устройство могильных сооружений, к сожалению, было прослежено далеко не во всех случаях, поэтому не все детали поддаются реконструкции. Могильные сооружения этого типа представляют прямоугольную яму, вырытую в материковом лёссе, в которой находится деревянная камера в виде сруба, рубленного из тонких бревен, перекрытого деревянным накатом, над которым выси[с. 198]лась курганная насыпь. В отдельных случаях конструкция деревянной камеры состоит из угловых вертикальных столбов, в пазы которых укреплена деревян” ная обшивка стен из колотых плах (погребение 114).
В отличие от массовых погребений киевского некрополя, инвентарь срубных погребений весьма разнообразен и богат. Характернейшей особенностью перечисленных выше погребений является прежде всего наличие в них богатого оружия и снаряжения боевого коня.
В погребениях найдены мечи (погребения 105, 108, 114, 116, 117), боевые топоры (погребения 108, 113, 117), кинжалы (погребение 108), копья (погребения 105, 111, 113, 117), колчаны со стрелами (погребения 105, 106, 107, 111, [с. 199] 113, 114, 117, 118), шлемы (погребения 108 (?), 117) [кроме шлемов, найденных в составе вышеуказанных погребений, следует упомянуть еще об отдельных случайных находках на территории Киева, возможно, происходящих из разрушенных погребений. К их числу относятся наносник от шлема с серебряной и золотой насечкой, найденный в усадьбе Десятинной церкви (табл. XXVI, 1) [см.: Древности Приднепровья. Собрание Б.И. и В.Н.Ханенко, вып. VI. Киев, 1907, стр. 43 (№ 1133), табл. XXXVI], железный шлем, найденный вместе с частью панцыря К.Лохвицким (Ф.Т[имковский]. К.А.Лохвицкий и его жизнь в Киеве. – “Киевлянин”, 1865, 9 XII, № 145), и шлем из погребения, случайно обнаруженного, по словам В.В.Хвойки, на Б. Житомирской ул. (В.Козловская. Славянские курганы и городища как исторический источник, стр. 11)], кольчуги (погребения 111, 116), щиты (погребение 112), шпоры (погребение 118), стремена (погребения 108, 113, 117), удила (погребения 108, 113), седла (погребение 117), сбруя (погребения 108, 109, 113).
К составу личного инвентаря дружинника в этих погребениях относятся также бруски для заточки стрел (погребение 111), кресала (погребение 118), игральные кости и стеклянные шашки (погребение 108).
Значительная доля богатого погребального инвентаря связана с сопровождающей дружинника рабыней, погребальный убор которой, вероятно, был значительно богаче, чем ее одежды при жизни. В парных захоронениях встречены следующие предметы женского убора: ожерелья, состоящие из различных бус и подвесок – монет, раковин, крестообразных подвесок с расширяющимися концами (погребения 112, 118), фибулы в виде кольца с длинной иглой (погребения 108, 112, 116), височные кольца (погребение 112), перстни (погребения 107, 112, 114).
К кругу
рассмотренных памятников относится еще одно не совсем обычное погребение,
открытое в
О погребении боевого
коня, спасшего жизнь князю Андрею Боголюбскому, образно рассказал летописец. В
“в велику беду… зане обступлен бысть ратными и гнаста по нем; ят бо бе двема копиема под ним конь, а третьим в передний лук седельный… конь же его язвен велми, унес господина своего, умре; князь же Андрей, жалуя комоньства его, повеле и погрести над Стырем” [Ипат. лет. 6657 (1149) г.].
Отличительной чертой охарактеризованных выше погребальных комплексов киевского некрополя является не только резко выраженное социальное неравенство погребенных, но и специфически военный характер наиболее богатых по инвентарю погребений. Эти черты наглядно свидетельствуют о весьма [с. 200] значительной роли, которую приобрела в это время княжеская дружина, представляющая собой “организованную силу феодализирующейся власти, охрану этой власти, войско, охранявшее и расширявшее пределы подвластной территории” [Д.А.Авдусин. Гнездовские курганы, стр. 24].
Необходимо
отметить, что киевские дружинники, судя по их погребениям, резко делились на
несколько различных в социальном отношении групп. Все более обособляющуюся
социальную верхушку дружины, ее военных вождей характеризуют наиболее богатые
по погребальному инвентарю курганы. В эту группу следует отнести прежде всего
погребения, сопровождаемые захоронением убитой рабыни или боевого коня, а
нередко и рабыни и коня. Для погребальных комплексов этой группы характерно
дорогое и разнообразное оружие, драгоценные, нередко заморского происхождения
вещи, богатое снаряжение боевого коня. Как свидетельствуют погребения, подобные
раскопанному в
Среди
охарактеризованных выше массовых погребений киевского некрополя отчетливо
выступает другая группа дружинных погребений. В погребальном инвентаре этой
группы киевских курганов также существенное место занимают предметы вооружения:
боевой топорик, копье, колчан со стрелами, однако погребения эти и по
устройству могильного сооружения (деревянный, сколоченный железными гвоздями
гроб) и по характеру погребального инвентаря значительно проще, беднее
погребений первой группы. Наиболее типичным представителем этих погребений
рядовых дружинников является раскопанное нами в
Особого внимания
заслуживает раскопанное в
Открытие
этого погребения вызвало многочисленные отклики и толкования. Основываясь на
находке серебряного “крестика”, а также на том, что на одном из диргемов якобы
“был процарапан восьмиконечный крест”, погребенный был объявлен “юным
варягом-христианином” [Раскопки в Киеве в
Весьма
решительно в пользу христианского происхождения могильника, открытого под
фундаментами Десятинной церкви и в ее окружении, высказался Б.В.Фармаковский,
связывая его с киевскими христианами довладимировой поры. По мнению
Б.В.Фармаковского, раскопками открыто “целое кладбище христианской общины,
которое датируется найденными византийскими и восточными монетами вплоть до IX
в.” Опираясь на данные раскопок, Б.В.Фармаковский приходил к выводу о том, что
“уже за 100 лет до князя Владимира христианство получило прочную базу в древней
Руси”. Более того, Б.В.Фармаковский полагал, что Владимир, начиная постройку
Десятинной церкви, предназначавшейся служить усыпальницей для самого князя и
его родственников, избрал местом постройки кладбище древнейших киевских
христиан [там же, стр. 133-134; ср. выступление
Б.В.Фармаковского по докладу Д.В.Милеева “О раскопках в усадьбе Десятинной
церкви в Киеве летом
Христианским признавал древний некрополь, открытый под фундаментами Десятинной церкви, и С.П.Вельмин, отражая, по-видимому, прочно устано[с. 202]вившуюся точку зрения руководителей раскопок. Относя открытые в 1908- 1909 гг. погребения к VIII-середине Х в., С.П.Вельмин утверждал, что кладбище, предшествовавшее постройке Десятинной церкви, было христианским. “На это, – по его словам, – указывают найденные крестики и положение покойников лицом на восток” [С.П.Вельмин. Археологические изыскания…, стр. 138-139]. Учитывая вместе с тем наличие в погребениях следов языческих обычаев – глиняные сосуды с пищей, клыки и т.п., С.П.Вельмин считал некрополь под Десятинной церковью “кладбищем самых первых на Руси христиан, умерших в ту эпоху, когда еще жили в народе языческие обряды и обычаи” [там же, стр. 139].
Тщательное
изучение погребального инвентаря, обнаруженного нами среди неразобранных материалов
киевских раскопок
Мнение, высказанное С.П.Вельминым о том, что один из диргемов служил иконкой [там же, стр. 138], также не подтвердилось. Процарапанная на диргеме черта, перечеркнутая тремя перпендикулярными ей линиями, представляет, по-видимому, наметку для дробления монеты на 8 частей.
Никаких признаков христианского обряда в других погребениях киевского некрополя IX-Х вв. обнаружить не удалось. Все основные черты погребального обряда, как в рядовых захоронениях, так и в захоронениях знати, характеризуют киевский некрополь этого времени как языческий.
Некоторые из предметов, найденных в погребении 110, заслуживают особого внимания. На полу могильной камеры лежали кучкой 157 астрагалов (табл. XVIII); некоторые из них были залиты свинцом, многие были покрыты выгравированным геометрическим орнаментом (рис. 27).
Более или
менее значительные наборы астрагалов встречаются в погребениях IX-Х вв. не раз.
Набор, состоявший из сотни костей, лежавших в бронзовом сосуде, обнаружен в
погребальном инвентаре известного черниговского кургана “Черная могила”.
Некоторые из них были также орнаментированы. Вместе с этим набором лежал
бронзовый “биток”, отлитый в форме астрагала [Д.Я.Самоквасов.
Могильные древности Северянской Черниговщины. – М., 1916, стр. 33 и рис. 39; Б.А.Рыбаков.
Древности Чернигова. – МИА СССР, №
Небольшой набор игральных костей обнаружен раскопками М.И.Артамонова в детском погребении у городища Белая Вежа. Интересно отметить, [с. 203] что в этом погребении, так же как и в киевском, был миниатюрный топорик [пользуюсь случаем выразить благодарность М.И.Артамонову за информацию о составе инвентаря этого погребения]. Беловежское погребение относится уже к христианской поре.
Киевский и беловежский наборы игральных костей принадлежали детям. Б.А.Рыбаков считал, что наличие игральных бабок в Черной могиле подтверждает предположение о двух мужских погребениях в этом кургане и “может указывать на то, что один из знатных воинов был молод еще настолько, что носил неполномерный шлем и играл в бабки” [Б.А.Рыбаков. Древности Чернигова, стр. 27].
Два
астрагала, из которых один покрыт гравированной орнаментацией, были в составе
инвентаря богатого погребения с сожжением, раскопанного в
Наборы астрагалов попадаются и на городищах. Восемнадцать просверленных астрагалов косули и бобра были найдены в пяти землянках Боршевского городища и два в культурном слое того же городища вне жилищ [П.П.Ефименко и П.Н.Третьяков. Древнерусские поселения на Дону, стр. 48 и табл. VII, 1-4]. По справедливому замечанию исследователей этого городища, “попытка рассматривать их в качестве украшений или амулетов является малоудачной. Вероятнее предположить, что они служили для игры в кости” [там же, стр. 48].
Бараньи астрагалы для игры найдены также в землянках IX-Х вв. на городище у с.Петровское на Ворскле [П.М.Третьяков. Стародавні слов’янські городища у верхній течії Ворскла. – Археологія, т. I, К., 1947, стр. 132].
Просверленные или украшенные гравированным орнаментом астрагалы нередко встречались в культурных слоях Х-XIII вв. на территории Киева.
Среди
инвентаря детского погребения привлекает внимание еще один предмет – большая
костяная плоская ложка, ручка которой украшена гравированным орнаментом в виде
плетенки. Орнамент на расширяющемся конце ложки в условной стилизации передает
чешуйчатый хвост какого-то чудовища (табл.
XVII). Костяные ложки, близкие по форме к киевской, весьма часто
встречаются в могильных комплексах скандинавских курганов [Н.Аrbman. Birka. Die Graber. – Uppsala, 1940, Taf. 151 (погребения 955, 823, 129, 644, IIA, 817, 807, 1142; W.Ноlmquist. On the origin of the lapp ribbon ornament. – Acta
archaeologica, v. V, fasc. 3, Kobenhavn, 1935, стр. 265-282; E.Flоderus.
Sigtuna. – Acta archaeologica, v. I, fasc. I, рис. 13] и в курганах Прикамья [М.В.Талицкий. Верхнее Прикамье в X-XIV вв. – МИА
СССР, №
Бронзовая ложка, по форме также несколько напоминающая киевскую, была найдена среди нагрудных украшений (костяные коньки или птицы, бронзовые собачки, гребешки, ножички в футлярах, ключи и пр.) радимических курганов, раскопанных П.М.Еременкой в Новозыбковском районе [А.С. Вещи из раскопок П.М.Еременко в курганах Новозыбковского и Суражского уездов. – ЗРАО (нов. сер.), т. VIII, вып. 1-2, СПб., 1896, стр. 99 и табл. IV, 10].
Миниатюрные
бронзовые ложки найдены в кургане у с.Заозерье (южное Приладожье) [W.Raudonikas. Die Normannen der Wikingerzeit und das
Ladogagebiet. – Stockholm, 1930, рис. 24] и в кургане у с.Челмужи на
территории Карельской АССР (раскопки Г.П.Гроздилова в
Миниатюрные бронзовые ложечки-подвески и одна большая ложка, происходящие из раскопок в Киевской области, хранятся в собрании КИМ; таковы две ложечки из раскопок А.Бобринского в южной части Киевской области [КИМ, инв. № С. 22613-44873 и С. 22608-14878] и три – неизвестного происхождения [КИМ, инв. № 230 и 57576; указанием на эти находки я обязан Г.Ф.Корзухиной].
7. Погребения знатных женщин
Погребениям
знатных дружинников по богатству и разнообразию инвентаря не уступали и
погребения знатных женщин той же поры, хотя по устройству могильных сооружений
эти погребения несколько проще. Среди женских погребений киевского некрополя
только одно, раскопанное в
Погребение 122
Обнаружено
23.VI.1908 раскопками Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева в
усадьбе Десятинной церкви [с. 205] (№ 1/1908 г.), к востоку от новой церкви,
под развалинами средней апсиды древнего храма, в грунтовой могиле, на глубине
1. У шеи лежали девятнадцать мелких бус – сердоликовых, настовых и серебряных с зернью (табл. XXVI, 2, а), современная имитация золотого византийского солида императоров Василия I и Константина (869-879), сделанная из серебра, но позолоченная сверху, с припаянным грубым серебряным ушком для ношения в качестве подвески [ср.: W.Wroth. Catalogue of the imperial byzantine coins in the British Museum, v. II. – London, 1908, стр. 436 и табл. L, 12] (табл. XXVI, 2, б, в), плоская белая с перламутровым отливом раковина в виде неправильного, слегка выпуклого с одной стороны кружка с просверленным отверстием для подвешивания (лежала у затылка вместе с бусами). Все перечисленные предметы составляли ожерелье.
2. На груди с
правой стороны лежала серебряная с позолотой круглая, слегка выпуклая фибула
(диаметр
3. У таза с правой стороны были найдены два сильно истлевших железных предмета, которые Д.В.Милеев предположительно считал ножницами; у правого колена – две пуговки.
4. У ног
погребенной с правой стороны находились остатки деревянного ведерка с тремя железными
обручами и железной дужкой (высота ведерка
Погребение 123
Обнаружено
29.V-1.VI.1937 раскопками Киевской археологической экспедиции ИИМК АН УССР в
усадьбе Художественной школы (уч. III/1937 г.), в грунтовой могиле, выкопанной
в материковом лёссе на глубину
Погребение расположено почти у самого юго-западного угла наружной галереи Десятинной церкви. Дно могилы лежит глубже подошвы фундаментов храма.
Рис. 44. План и разрез могильного сруба (погребение 123). [с. 207]
Пятно
могильной ямы прослеживалось в нижних слоях гумуса. На глубине
Возле черепа найдены остатки золототканой парчи с узором, вышийым серебром (табл. XXVII). Золотая основа ткани и шелковые нитки сохранились достаточно хорошо. У черепа с обеих сторон лежало по два височных кольца, сделанных из золотого дрота с заходящими несомкнутыми концами (табл. XXVII). Тут же, справа от черепа, найдена пастовая глазчатая бусина; вторая пастовая бусина лежала у правой ноги. У шеи и в верхней части грудной клетки лежали четыре сердоликовых, две настовых и семь серебряных ажурных бусин, составлявших вместе с упомянутыми двумя настовыми бусами ожерелье. В состав ожерелья, очевидно, входила и подвеска в виде кольца из золотого рубчатого дрота с неспаянными закрученными концами, на которое надета пастовая бусина (табл. XXVII).
На кистях обеих рук найдено два браслета, сделанные из серебряного дрота с несомкнутыми концами (табл. XXVII). На пальцах обеих рук – по два золотых колечка из тонкой проволоки с завязанными узлом концами (табл. XXVII).
У поясницы с
правой стороны лежала небольшая подковообразная серебряная пряжка, вырезанная
из пластины с закрученными в трубочку концами (табл. XXVII), а у таза – сильно
окислившийся серебряный диргем (табл. XXVII) [А.А.Быков
предположительно отнес диргем к чекану саманидского эмира Ман-сура ибн Нуха
(350-365 (961-976))]. Возле ступни левой ноги стояло деревянное ведерко,
от которого сохранились железные обручи и дужка, а также незначительные следы
сгнившего дерева [Ф.Б.Копилов. Зрубне поховання
біля Десятинної церкви. – Археологія, V, К., 1951, стр. 233-235; см. также:
Отчет о работе Киевской археологической экспедиции в 1936-1937 гг., стр. 49-50
и Дневник Киевской археологической экспедиции
Погребение 124
Обнаружено в
начале 90-х годов XIX в. при земляных работах по планировке местности в усадьбе
пивоваренного завода Риккерта, расположенной на Кирилловской ул. (ныне
ул.Фрунзе). Обстоятельства находки и устройство могилы неизвестны. Инвентарь
погребения был подарен владельцем усадьбы французскому археологу барону де Бай.
Последний, продемонстрировав этот материал на заседании Парижской Академии
надписей в 1894, в
В состав погребального инвентаря, поступившего в ГИМ, входили следующие предметы.
Рис. 45. Две скорлупообразные фибулы (погребение 124). [с. 209]
1. Две бронзовых позолоченных скорлупообразных фибулы (11:7.5 см) с прорезной литой накладной в виде плетенки между пятью коническими выступами (рис. 45); на тыльной стороне одной из фибул сохранилась сломанная железная игла и петля для застежки.
2. Круглая
серебряная фибула (диаметр
3. Пара
серебряных височных колец (так называемых “серег волынского типа”) с зерневыми
подвесками (табл. XXVIII). На дужке каждого кольца (диаметр
Верхняя часть подвески представляет собой розетку из четырех зерен, увенчанную более крупным шариком. Нижняя часть подвески состоит из трех рядов спаянных между собой шариков различной величины и двух колечек над ними.
4. Простая
серебряная (бронзовая?) проволочная серьга (диаметр
5. Золотое
колечко (диаметр
6. Ожерелье, состоящее из девятнадцати бус: сердоликовых, хрустальных, па' стовых (синих), одной стеклянной, одной янтарной и одной серебряной с зернью (табл. XXVIII) [из девятнадцати бус, найденных в погребении было: пастовых-десять, сердоликовых – три (из них двенадцатигранных с ромбическими сечениями – две, бипирамидальных восьмигранных – одна), хрустальных – три (из них двенадцатигранных с ромбическими сечениями – одна, бипирамидальных – две), стеклянных – одна, янтарных – одна, серебряных с зернью – одна].
7. Бронзовая крестообразная пластинчатая подвеска (2.8:2.8 см) с приклепанным ушком для подвешивания (табл. XXVIII), аналогичная по форме серебряным подвескам из погребения 125; на лицевой стороне точечный орнамент по краям и ромбовидный в середине, сделанный зубчатым колесиком.
8. Серебряная пластинчатая прямоугольная подвеска (2.3:1 см) с закругленными нижними углами; вверху приклепанное ушко для подвешивания (табл. XXVIII).
9. Две византийские серебряные монеты, одна из которых обломана, с именами императоров Романа I, Константина VII, Стефана и Константина, чеканенные между 931 и 944 гг. (табл. XXVIII) [ср.: W.Wroth, ук. соч., стр. 461 и табл. LIII, 5]; обе монеты были снабжены колечками для подвески.
10. Железный гвоздь (по-видимому, от гробовища).
Погребение 125
Обнаружено в
У шеи найдено ожерелье, состоявшее из шести стеклянных и одной настовой (с глазками) бус и одного серебряного аббасидского диргема с приклепанным к нему ушком для подвешивания (табл. XXIX). Диргем чеканен в 142 (759-760) г. в Куфе, при халифе Абу Джафаре аль-Мансуре (754-775).
У шеи же (по другому сообщению – у поясничных позвонков) найдены две серебряных подвески в виде крестов с расширяющимися концами (табл. XXIX). Подвески вырезаны из тонкого листа серебра и украшены орнаментом из мелких кружочков, сделанных пунсоном. На одной подвеске хорошо сохранилось прикрепленное ушко для подвешивания, на другой видны круглые отверстия. [с. 210]
У поясничных позвонков скелета лежал небольшой точильный брусок в виде четырехгранной призмы с просверленным отверстием на одном конце для подвешивания (табл. XXIX).
У плечевых
костей скелета (по другому известию – у пояса) были найдены две
скорлупообразные серебряные, позолоченные фибулы с прорезными литыми накладками
(табл. XXIX), у одной из фибул сохранилась сзади бронзовая булавка и петля для
застегивания [В.Б.Антонович. 1) Археологические
находки и раскопки…, стр. 251-252; 2) О древнем кладбище у Иорданской церкви в
Киеве, стр. 43; 3) Археологическая карта Киевской губ., стр. 31; см. также: Т.Аrne.
La Suède et l’Orient, стр. 57]. Почти весь инвентарь из
описанного погребения поступил в музей Киевского университета, а ныне находится
в собрании Киевского исторического музея [В.Б.Антонович.
Обозрение предметов великокняжеской эпохи…, стр. 118- 119; см. также: Каталог
выставки XI археологического съезда в Киеве. Киев, 1899, стр. 92- 93, №№
144-158, а также рукописную инвентарную книгу университетского Музея
древностей, хранящуюся ныне в Киевском историческом музее (№№ 2072-2087 – вещи,
найденные в усадьбе Марра в
Инвентарь описанных выше погребений состоял почти исключительно из предметов богатого женского убора, в который входили ожерелья из разнообразных бус и подвесок (погребения 122-125), в том числе дважды встречены восточные монеты и дважды – византийские, височные кольца (погребения 123, 124), скорлупообразные фибулы (погребения 124, 125), круглые серебряные фибулы, покрытые сканью и зернью (погребения 122, 124), браслеты (погребение 123), золотые и серебряные серьги с насаженными бусинами (погребения 124, 125), перстни (погребение 123).
Остановимся на некоторых элементах женского убора богатых погребений киевского некрополя. Среди разнообразных металлических украшений, составлявших этот убор, особого внимания заслуживают височные кольца – одна из наиболее типичных особенностей славянского убора. При рассмотрении рядовых женских погребений киевского некрополя не раз отмечено наличие во многих из них височных колец в виде простых проволочных колечек (бронзовых или серебряных). В богатых погребениях дважды встречены значительно более сложные височные кольца, обычно именуемые “серьгами волынского типа”. Эти исключительно изящные ювелирные изделия детально описаны выше, при характеристике инвентаря погребений 112 и 118. [с. 211]
Височные
кольца “волынского типа” известны в двух вариантах, различающихся между собой
формой подвески и оформлением кольца [Г.Ф.Kopзyxинa.
О технике тиснения и перегородчатой эмали в древней Руси X-XII вв. – КСИИМК,
XIII, 1946, стр. 49]. Кольца, найденные в погребениях киевского
некрополя, относятся ко второй группе, имея многочисленные аналогии среди
южнорусских древностей Х в. Височные кольца этого типа были в Юрковицком,
Копиевском [Н.Лінка-Геппенер. Копіївський
скарб. – Археологія, т. II, К., 1948, стр. 182], Борщевском [А.С.Гущин. Памятники художественного ремесла древней
Руси Х-XIII вв. – М.-Л., 1936, табл. XI, 1, 3] и Денисовском [OAK за
Топография перечисленных находок свидетельствует о распространенности этого типа украшений в Среднем Поднепровье и особенно на Волыни. Находка в Пересопницком могильнике в погребении ювелира штампов для изготовления первого варианта колец “волынского типа” [Е.Н.Мельник, ук. соч., стр. 506-511, 540-542, табл. VIII; Г.Ф.Корзухина. О технике тиснения…, стр. 48-49, рис. 10] окончательно убеждает в местном происхождении этих изысканных ювелирных изделий Х в.
В богатых женских погребениях киевского некрополя дважды встречены крестообразные подвески, вырезанные из тонкой серебряной или бронзовой пластинки и украшенные орнаментом из мелких кружочков, сделанных пунсоном (погребение 125), или точечным орнаментом, выполненным зубчатым колесиком (погребение 124).
На подвесках сохранилось прикрепленное ушко для подвешивания, на других видны круглые отверстия.
Подвески эти не имеют никакого отношения к христианским крестам и являются украшением, распространенным в славянских языческих погребениях. Точно такие же крестовидные подвески обнаружены в погребениях Х в. в Бирке [Н.Аrbman, ук. соч., табл. 102, 5-11 (погребения №№ 51, 480, 517, 703, 835, 968, 983)].
8. Некоторые особенности погребального инвентаря киевской знати
Необходимо остановиться подробнее на некоторых характерных особенностях погребений киевской знати. В ряде срубных погребений встречено [с. 212] деревянное с железными обручами ведерко (погребения 110, 113, 115, 122, 123), а иногда при нем и деревянный ковш с серебряной оковкой (погребения 118, 122). Эта черта погребального обряда известна и в массовых погребениях киевского некрополя: о находках деревянных ведер при раскопках курганов на взгорьях вдоль Кирилловской ул. сообщал В.В.Хвойка [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 54].
Находки
деревянных ведер с железными обручами в славянских погребениях очень
многочисленны. Обычные размеры их не более 25-
Остатки деревянных ведер, окованных обручами, найдены в срубном погребении Х в. в Седневе под Черниговом [Д.Я.Самоквасов. Могилы русской земли, стр. 205], в Шестовицких курганах того же времени [Т.Аrne. Scandinavische Holzkammergräber aus der Wikingerzeit in der Ukraine. – Acta archaeologica, II, 3, Kobenhavn, 1931], в курганах Гнездовского могильника [А.Спицын. Гнездовские курганы в раскопках С.И.Сергеева. – ИАК, вып. I, СПб., 1905, стр. 10 (курганы №№ 74, 76, 78)].
Особенно характерны эти предметы для древлянских погребений. Они найдены во многих курганах Житомирского, Искоростенского, Речипкого и других могильников, раскопанных В.Б.Антоновичем, С.С.Гамченко и В.Я.Яроцким [В.Б.Антонович. Раскопки в стране древлян. MAP, № 11, СПб., 1893, стр. 67- 68 (курганы №№ 3, 5, 6, 8, 13, 16), 74 (курган № 5), 70 (курган № 5), 46; С.С.Гамчeнко. Житомирский могильник. – Житомир, 1888 (курганы №№ 3, 19, 29); В.Я.Яроцкий. Краткий отчет о раскопках курганов Речицкого могильника. – Труды Общества исследователей Волыни, т. I, Житомир, 1902, стр. 98, 114]. Многочисленны находки этого рода в волынских курганах [В.Б.Антонович Археологическая карта Волынской губернии. – Тр. XI АС в Киеве (1899), т. I, М., 1901, стр. 39; Е.Н.Мельник, ук. соч., стр. 492-493] и курганах дреговичей [В.З.Завитневич. 1) Из археологической экскурсии в Припетском Полесье. – ЧИОНЛ, кн. IV, Киев, 1890, отд. II, стр. 26; 2) Вторая археологическая экскурсия в Припетское Полесье. – ЧИОНЛ, кн. VI, Киев, 1902, отд. II, стр. 28]. В одном из дреговичских курганов (Микуличский могильник) в Речипком уезде было найдено ведерко, которое, по словам исследователя, “по краям было украшено серебряными бляшками, а одна такая же бляшка была прибита на дне внутри ведра” [В.З.Завитневич. Вторая археологическая экскурсия…, стр. 25].
По свидетельству Е.Н.Мельник [Е.Н.Мельник, ук. соч., стр. 493, ср. стр. 546], в одном из раскопанных ею курганов (курган № 7 близ с. Басов Кут) к деревянному ведру, стоявшему возле скелета, серебряными гвоздиками было прикреплено шесть тонких серебряных пластинок, согнутых вдвое и одна такая же медная. [с. 213]
Б.А.Рыбаков, отмечавший аналогичные находки в курганах радимичей, высказывал предположение, что ведерки в могилах предназначались для хмельного меда [Б.А.Рыбакоў. Радзімічы. – Працы Археолёгічнай Kaмісіі, т. III. Менск, 1932, стр. 108; позже в работе “Древности Чернигова” Б.А.Рыбаков высказывал мнение о том, что деревянные ведра Черной могилы и Гульбища служили сосудами для меда, вина, пива (МИА СССР, № 11, 1948, стр. 42)].
Нередко встречаются в погребениях киевской знати глиняные сосуды, сделанные на гончарном круге (погребения 109, 110, 111, 115), а иногда и какая-то заморская посуда (амфоры в погребениях 73, 107, амфоры и “миска с муравленым дном” в погребении 106), в том числе стеклянная (погребения 107, 118).
О находках кабаньих клыков была уже речь выше. Эти амулеты были, по-видимому, распространены не только в массах городского населения, но и среди знати (погребения 106, 110).
Однажды найдены ножницы (погребение 122). Назначение их в погребении знатной женщины неясно. Несколько раз ножницы были обнаружены в курганах Гнездова. Кроме одного экземпляра, все они, как и киевские, древнего пружинного типа. Лишь в одном кургане были обнаружены ножницы современного шарнирного типа [Д.А.Авдусин. Гнездовские курганы, стр. 16-17]. Ножницы, найденные в погребении богатого дружинника, раскопанном П.И.Смоличевым в Шестовицком могильнике, по-видимому, свидетельствуют о том, что вместе с дружинником была сожжена рабыня.
В погребении
знатного дружинника, обнаруженном в
В отличие от игры “в бабки”, которая была распространена как в аристократических кругах Киевской Руси (детское погребение киевского некрополя, Черная могила в Чернигове), так и среди народных масс (наборы астрагалов в землянках Боршевского городища), игры, связанные с набором стеклянных “шашек” и игральных костей (с очками), попадающихся только в богатых погребениях, по-видимому, не были народными.
Набор
стеклянных “шашек” двух типов, состоящий из 26 двуцветных малых фигур и 2
высоких конусообразной формы с головкой обнаружены в богатом срубном
захоронении дружинника с рабыней, раскопанном в Шестовицком [с. 214] могильнике
Я.В.Станкевич [Я.В.Станкевич. Шестовицька
археологічна експедиція 1946 р. – Археологічні пам’ятки УРСР, I, К., 1949, стр.
54 и рис. 5]. Находки этого рода в Шестовицких курганах были и раньше (раскопки
П.Смоличева) [Т.Аrne. Scandinavische
Holzkammergräber aus der Wikingerzeit in der Ukraine, стр. 285-302].
Стеклянная “шашка” зеленоватого цвета находилась в составе Гнездовского клада
Игральные
кости (с очками) также встречаются преимущественно в богатых курганах дружинной
знати. Находки их известны в Черной могиле [Д.Я.Самоквасов.
Могильные древности Северянской Черниговщины, стр. 33- 35; Б.А.Рыбаков.
Древности Чернигова, стр. 43], в курганах Гнездова [А.А.Спицын. Гнездовские курганы в раскопках
С.Сергеева, рис. 76; В.Н.Сизов. Курганы Смоленской губернии, вып. I.
Гнездовский могильник близ Смоленска. – MAP, № 28, СПб., 1902, стр. 58, 97,
табл. VI, 14; XIII, 12]. В последние годы такие же кости
найдены в культурных сдоях Новгорода [А.В.Арциховский.
Раскопки восточной части Дворища в Новгороде. – МИА СССР, №
В составе погребального инвентаря киевского некрополя необходимо отметить ряд вещей, привезенных в Киев издалека, свидетельствующих о многообразных внешних связях социальной верхушки киевского общества в IX- Х вв.
Вопреки распространенному мнению о давних связях Киевской Руси с Византией и о большой роли последней в сложении древнерусской культуры, необходимо отметить, что в погребальном инвентаре киевского некрополя вещей византийского и, в частности, херсонесского происхождения почти нет, если не считать четырех византийских монет Х в., найденных в трех погребениях (94, 121, 124), одного местного (может быть, русского) подражания византийской монете IX в. (погребение 122) и херсонесского ключика (погребение 112). Ничтожное количество отдельных случайных находок византийских монет IX-Х вв. отмечалось и при рассмотрении нумизматических кладов IX-Х вв., найденных на территории Киева.
Связи с Халифатом отражены в инвентаре киевского некрополя не только довольно многочисленными диргемами Х в., превращенными в подвески, но [с. 215] и рядом других находок. К их числу в первую очередь следует отнести многочисленные пастовыо (“глазчатые”) бусы, в огромном количестве вывозившиеся из Средней азии не только в Восточную Европу, но и в Скандинавию и на Запад. Несомненно восточного происхождения бронзовая курильница, найденная в погребении с сожжением на Софийском дворе (погребение 119).
По неясному описанию И.Хойновского трудно с уверенностью установить у что представляла собой “миска с вычурно муравленым дном”, на дне которой по белому полю “нарисована” розетка зеленого и красного цвета (погребение 106), но все же восточное происхождение этой вещи весьма вероятно.
Связи с Халифатом отчетливо отражены и в рассмотренных выше материалах нумизматических и вещевых кладов. Уместно подчеркнуть, что погребальный инвентарь киевского некрополя подтвердил высказанное на основе изучения кладов наблюдение об установлении прочных связей Киева с арабским Востоком не в IX и тем более не в VIII, а лишь в середине Х в.
Особого внимания заслуживает вопрос о связях Киева с северо-восточными районами Восточной Европы.
В погребении
под огромным курганом, раскопанном в
Это необычное
для киевского художественного ремесла изделие является несомненно привозной
вещью, попавшей в Киев издалека. Близкие аналогии этой вещи имеются среди
древностей Прикамья: одно кресало (рис. 39, 3) происходит из с.Редикор
Чердынского у. Пермской губ. [А.А.Спицын.
Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых. – MAP, №. 26, СПб., 1902,
табл. XXII, 3], другое (рис. 39, 4) – из того же уезда [OAK за
Киевское кресало точно повторяет второе из указанных выше кресал и отличается лишь в некоторых деталях от первого. А.А.Спицын относил кресало из Редикора к IX-Х вв. [А.А.Спицын. Древности Камской чуди…, стр. 33] Недавно опубликовано еще одно кресало, представляющее близкую аналогию киевскому. Оно происходит из Плеховского могильника на Каме и представляет бронзовое изделие с рельефным изображением двух хищных птиц, клюющих в голову человека, находящегося между ними. Опубликовавший это кресало В.В.Оборин, не понял изображения (он утверждает, что изображены три птицы, одна из которых, средняя, впрямь, а две другие в профиль, “образуя над первой арку”) [В.В.Оборин. Плеховский могильник на Каме. – КСИИМК, XXXVI, 1951, стр. 200-201, рис. 62]. В.В.Оборин полагает, что вещь представляет “основу шумящей подвески” [там же]. Вещи из Плеховского могиль[с. 216]ника имеют много аналогий среди материалов прикамских могильников и городищ родановского времени (X-XIV вв.) [там же, стр. 201]. По-видимому, кресало одновременно с киевским. Приведенные три аналогии позволяют с уверенностью считать киевское кресало, столь необычное для южнорусских изделий, привозным из Прикамья.
К числу изделий, ввозившихся из Западной Европы, по-видимому, следует отнести франкские мечи, найденные в некоторых погребениях киевского некрополя (погребения 105, 108, 114, 116, 117); из них до нашего времени сохранились лишь два (погребения 108, 114; табл. XIII, XXV, 1, 2). Оба они детально описаны при характеристике погребальных комплексов, в которых они были найдены.
Рис. 46. Меч, найденный на Подоле. [с. 217]
В Киевском
историческом музее хранится еще несколько мечей, найденных на территории Киева,
происходящих, по-видимому, из разрушенных древних погребений. Один из них
найден при постройке в
С преувеличенным вниманием буржуазные археологи издавна интересовались вещами скандинавского происхождения, нередко причисляя к этой кате[с. 217]гории и такие находки, которые не имели к ней ни малейшего отношения. Мираж “норманизма”, в плену у которого находились многие буржуазные историки и археологи, приводил к искаженной трактовке археологических памятников, добытых многолетними исследованиями.
В составе погребального инвентаря киевского некрополя нельзя не заметить ряд вещей несомненно скандинавского происхождения. К их числу относятся прежде всего скорлупообразные фибулы, найденные в погребених 124, 125 (рис. 45 и табл. XXIX). Предметы эти были очень широко распространены на Руси и известны в десятках экземпляров в более или монее богатых погребениях южного Приладожья [Н.Е.Бранденбург. Курганы южного Приладожья, табл. I, 1-3; W.Raudоnikas, ук. соч., рис. 29, 48, 58, 70-72, 78, 86, 88, 90, 92а], Верхней Волги [Я.В.Станкевич. К вопросу об этническом составе населения Ярославского Поволжья в IX-Х ст., рис. 9, табл. IV, 1-4], Владимиро-Суздальской земли [А.А.Спицын. Владимирские курганы. – ИАК, вып. 15, СПб., 1905, стр. 129, рис.8, 15], в Гнездовском могильнике [В.И.Сизов, ук. соч., табл. I, 1, 2; V, 20; XII, 3]. В южнорусских курганах скорлупообразные фибулы встречаются реже, несколько экземпляров обнаружены недавно в погребениях Шестовицкого могильника [раскопки Д.И.Блифельда. Материал не опубликован].
Кроме фибул
из упомянутых двух погребений, известны также случайные находки их на
территории города. Три скорлупообразные фибулы (табл. XXX) были найдены на территории
Владимирова города: две в
К кругу
привозных ювелирных изделий северного происхождения несомненно относятся две
кольцевых фибулы с длинной иглой, одна из которых найдена в срубном погребении
дружинника с рабыней и конем, раскопанном в
К тому же кругу скандинавского импорта следует отнести две круглых серебряных фибулы, украшенных филигранью и зернью, найденные в погребениях 122 и 124 (табл. XXVI, XXVIII). Небезынтересно отметить, что первая из них была использована в женском уборе уже не как фибула, а как подвеска-медальон, для чего к ней с тыльной стороны было приклепано проволочное кольцо (табл. XXVI). Фибулы, найденные в погребениях 122 и 124, имеют многочисленные аналогии среди вещей скандинавского происхождения [А.А.Спицын. Владимирские курганы, стр. 130, рис. 22, 23, 25; Т.Arne. La Suède et l’Orient, стр. 29, рис. 9; Р. du Сhaillu. The viking Age, II. – London, 1899, стр. 328, рис. 1262; стр. 331, рис. 1271; О.Montelius. Les temps préhistorique en Suède et dans les autres pays scandinaves. – Paris, 1895, стр. 248, рис. 334].
К числу вещей скандинавского происхождения относится, по-видимому, фибула из коллекции И.Хойновского, найденная в Киеве. По описанию И.Хойновского, находка представляла собой
“медную
кольцеобразную фибулу с отвороченными вверх кольцами в виде рогов лося. На ней
длинная игла для застегивания. Диаметр кольца
В собрании КИМ есть полностью соответствующая этому описанию фибула, происходящая, по-видимому, с городища Княжа гора (по инвентарной книге музея – из с.Пекари) [КИМ, инв. № С. 66418-8980. Указанием на эту фибулу и ее аналогии я обязан Г.Ф.Корзухиной]. Ближайшие аналогии фибул из Киева и Княжой горы имеются среди находок в Эстонии [В.Nerman. Die Verbindungen zwischen Scandinavien und dem Ostbalticuin in der jüngeren Eisenzeit. – Stockholm, 1929, рис. 151] и на о.Готланде [там же, рис. 152].
Среди вещей несомненно скандинавского происхождения следует, наконец, упомянуть великолепную бронзовую позолоченную фибулу с длинной иглой из погребения 116 [ср.: Н.Arbman, ук. соч., табл. 43, 7]. [с. 219]
Перечисленные с возможной полнотой вещи скандинавского происхождения, найденные в погребальных комплексах киевского некрополя, с учетом всех случайных находок на территории города, убедительно свидетельствуют о том, сколь незначительно их место даже в жизни социальных верхов киевского общества IX-Х вв., не говоря уже о массах городского населения, в культурном облике которого пет ни одной черты, обязанной пресловутому норманскому влиянию. Это обстоятельство не мог не заметить даже такой убежденный норманист, как французский археолог барон де Бай, опубликовавший первые сведения о погребении знатной киевлянки Х в. (погребение 124), которую он, несмотря на наличие нескольких вещей иноземного происхождения, счел все же местной жительницей [Baron de Вауе, ук. соч., стр. 6]. Наоборот, Т.Арне безоговорочно объявил ее шведкой [Т.Arne. La Suède et l’Orient, стр. 56-57].
За норманистами-иностранцами некритически следовали и их продолжатели из числа русских буржуазных ученых. Напомним лишенную каких-либо оснований версию о варяжско-христианском характере некрополя у Десятинной церкви.
Запоздалыми
продолжателями этих буржуазных теорий выступили в недавнее время некоторые
украинские археологи, безоговорочно отнесшие раскопанное в
“дает важные материалы для изучения конкретных условий и форм появления классового общества в Поднепровье, выясняет роль и место скандинавских элементов в общественных отношениях того времени, иллюстрирует идеологию, технику и искусство” [там же].
Исчерпывающе охарактеризованные выше находки отдельных вещей скандинавского происхождения в Киеве наряду с характерным славянским обликом всех основных элементов погребального обряда и многочисленного разнообразного инвентаря убедительно свидетельствует о ничтожной роли скандинавского влияния в сложении культуры Киевской Руси.
9.
Датировка киевского некрополя.
Проблема этнической принадлежности погребений в под курганных срубах
Изучение погребального инвентаря позволяет вернуться к вопросу о времени существования киевских могильников I и II. Разнообразные предметы, найденные в составе погребальных комплексов, многие особенности погребального обряда позволяли сопоставлять киевские погребения с погребениями [с. 220] древнерусских городских могильников IX-Х вв. (Черниговский, Шестовицкий, Гнездовский, Михайловский и другие могильники).
Было бы весьма важно, однако, уточнить даты отдельных погребений киевского некрополя, а тем самым, может быть, и даты киевских могильников I и II.
Наиболее
значительная группа из числа известных доныне погребений расположена в районе
Десятинной церкви. Как показано выше, открытие этих погребений в большей их
части и обязано прежде всего археологическим исследованиям названного
архитектурного памятника. Значительная часть погребений была обнаружена под
фундаментами храма, при закладке которых погребения, расположенные несколько
глубже уровня подошвы фундаментов, остались нетронутыми. Часть погребений
обнаружена также под подошвами фундаментов каменного дворца, выстроенного в
конце Х в. рядом с Десятинной церковью. Возможно, что некоторые древние
погребения при этом были потревожены, как свидетельствует об этом обнаруженное
раскопками
Курганы, расположенные к юго-востоку от вышеупомянутой группы, по-видимому, были снесены в ту же пору, так как в связи с постройкой новых укреплений, значительно расширивших в конце Х в. границы Киевского детинца, эта территория стала центром нового “города Владимира”.
В эту пору
были снесены курганы, погребальные сооружения под которыми были в конце
XIX-начале XX в. открыты И.Хойновским и С.Гамченко в усадьбах Кривцова и
Трубецкого. Исключительная по наглядности картина была раскрыта нашими
раскопками
Немногим
дольше просуществовали и курганы на “поле вне града”, расположенном за рвом и
валом Владимирова города. В 30-х годах XI в. здесь уже создавался новый
блестящий архитектурный ансамбль Ярославова города. [с. 221] Вероятно, в это
время и были снесены большие курганы, возвышавшиеся над погребениями,
обнаруженными в
Среди инвентаря, найденного в погребениях могильника I, немало предметов, позволяющих уточнить время существования могильника, в частности, выяснить “нижнюю” его дату. Особый интерес вызывали уже давно монеты, найденные в погребениях, но именно эта категория памятников чаще всего служила основанием для ошибочных выводов. Среди погребений, раскопанных на территории Верхнего города, в восьми комплексах были встречены арабские и византийские монеты. В отдельных погребениях обнаружено по одной, по две, по восемь и даже по нескольку десятков монет.
Вопреки утверждению Л.А.Голубевой среди многочисленных арабских диргемов, найденных в составе погребений могильника I, нет ни одной монеты, относящейся к IX в. О находке диргемов IX в. Л.А.Голубева сообщает дважды, относя на этом основании и погребения, в которых эти монеты были обнаружены, также к IX в. [Л.А.Голубева. Киевский некрополь, стр. 109, 112-113]
Необходимо прежде всего заметить, что дата монеты, найденной в составе погребального инвентаря и к тому же уже превращенной в подвеску, далеко не во всех случаях может быть основанием для отнесения погребения к тому же времени. Примеры такого рода будут указаны ниже.
Но особо
осторожным обязан быть исследователь в тех случаях, когда сведение о дате самой
монеты почерпнуто из случайного или малоавторитетного источника. О находке в
погребении, раскопанном Д.В.Милеевым в
Среди
депаспортизованных в большей их части материалов из раскопок Д.В.Милеева
Второе
погребение, отнесенное Л.А.Голубевой на основании находки диргема к IX в. [Л.А.Голубева, ук. соч., стр. 112-113], было
раскопано в
Ошибки в датировке погребений киевского некрополя, основанные на доверчивом отношении к непроверенным информациям, не ограничиваются вышеприведенными.
В
замечательном по составу инвентаря детском погребении в срубе, раскопанном
Д.В.Милеевым в
Остальные монеты, найденные в составе погребального инвентаря могильника I, не вызывали никаких разнотолков.
В погребении,
случайно обнаруженном при земляных работах в
В женском
погребении, обнаруженном в
Восемь
диргемов, входивших в состав ожерелья рабыни, сопровождавшей богатого
дружинника, были обнаружены в составе инвентаря срубного погребения,
раскопанного в
Для полноты
обзора находок восточных монет в могильнике I нужно упомянуть о двух диргемах,
найденных, по словам С.П.Вельмина, в большом срубе, раскопанном в
Зарегистрированные
находки восточных монет в отдельных погребальных комплексах могильника II
единичны. К их числу относится единственный диргем VIII в., чеканенный в 142
(759-760) г. в Куфе при халифе Абу Джафар аль Мансуре, найденный в погребении,
обнаруженном в
По мнению
Л.А.Голубевой, диргем
Найденные в погребении наряду с диргемом VIII в. две скорлупообразные фибулы также не могут быть отнесены к столь древней дате. Распространение фибул этого типа падает на IX-Х вв. Некоторые другие вещи из того же погребения также имеют аналогии в погребальных комплексах Х в.
Из сказанного
следует, что было бы ошибкой отнести погребение 125 к VIII в., основываясь
только на том, что в нем имеется диргем
О неоднократных находках диргемов в составе погребений, раскопанных в усадьбах Зивала и Багреева (Кирилловская ул., дд. 59-61), в общей форме упоминал В.В.Хвойка, относя монеты к VIII в. [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 53-54] Ввиду депаспортизации материалов из этих раскопок проверить это сообщение, к сожалению, невозможно.
Значительный интерес для уточнения даты погребальных комплексов киевского некрополя имеют также находки византийских монет, хотя по сравнению с восточными монетами последние попадаются в погребениях значительно реже.
Наиболее
древней из них является довольно грубая имитация византийского золотого солида
Василия I и Константина (869-879), представляющая серебряную позолоченную
подвеску с прикрепленным ушком. Подвеска эта происходит из богатого женского
погребения, раскопанного в
Дата подвески
вызывала серьезные разногласия. В каталоге византийского отдела Гос.Эрмитажа,
где до
“русским (вероятно) подражанием монетам Василия и Константина, но различным, так как на подлинных византийских монетах такого именно соединения лицевой стороны с обратной, по мнению А.К.Маркова, не встречается” [ЗОРСА, IX, СПб., 1913, Протокол заседания ОРСА, 28.II.1909, стр. 293].
Тщательное исследование подвески позволяет считать оригинал, который она имитирует, солидом Василия I и Константина (869-879). Однако время изготовления самой подвески установить невозможно. Отнюдь не исключена возможность, что она значительно моложе, чем ее оригинал.
Медная
византийская монета, чеканенная императором Львом VI (886- 912), обнаружена в
остатках богатого погребения с трупосожжением, раскопанных в
Две одновременных византийских серебряных монеты с именами императоров Романа І, Константина VII, Стефана и Константина (931-944) были найдены в составе богатого погребения, обнаруженного в 90-х годах XIX в. в одной из усадеб по Кирилловской ул. (погребение 124; табл. XXVIII). Обе монеты снабжены колечками для подвески.
Обломанная
византийская монета Константина Багрянородного (913- 959) была найдена в
погребении, открытом в
Таким образом, если не считать имитации, дата которой не может быть установлена, три византийские монеты, найденные в погребениях киевского некрополя, относятся к середине Х в. и одна – к началу этого же столетия.
Подводя итоги наших наблюдений по вопросу о монетах, найденных в погребальных комплексах киевского некрополя, следует сказать, что достаточно многочисленные восточные и немногие византийские монеты, встречающиеся в погребениях, за ничтожным исключением относятся к началу или середине Х в. В составе погребального инвентаря монеты фигурируют обычно в качестве подвесок, для чего к ним приклепывается ушко или в пробитое отверстие продевается колечко. Учитывая, что дату погребения с монетой в составе инвентаря отнюдь нельзя отождествлять с датой самой монеты, погребения, о которых шла речь, следует отнести к середине, а некоторые, может быть, и ко второй половине Х в.
Изучение
погребального инвентаря киевского некрополя приводит к выводу, что наиболее
богатые по составу инвентаря погребения и, в частности, те, которые связаны с
находкой восточных и византийских монет, относятся ко времени от середины до
конца Х в. Данные для уточнения даты более древних погребений не столь
определенны. Высказывалось правдоподобное предположение, что инвентарь более
древних погребений был менее значителен количественно и не столь богат [Г.Ф.Корзухина. Художественное ремесло VIII-IX вв.
Доклад в Группе славяно-русской археологии ЛОИИМК 29.XII.1952].
Характерным образцом этой группы цогребений является парное погребение в
небольшом срубе, открытое нашими раскопками
Хронологическая систематизация древнерусских вещевых кладов позволила установить, что клады, зарытые в IX-первой половине Х в., состоят обычно из очень простых бронзовых и серебряных украшений, целиком связанных еще с убором дофеодального периода [Г.Ф.Корзухина. Русские клады IX-XIII вв. М.-Л., 1954, стр. 75]. Во второй половине, и особенно в конце Х в., суровая простота убора предшествующего периода сменяется варварской роскошью. Этот новый убор княжеско-дружинной знати наглядно отразился в составе вещевых кладов, относящихся к этой поре [там же, стр. 83-90; см. также табл. IV настоящего исследования].
В еще большей степени эта перемена отображена в погребальном инвентаре городских могильников этого времени и, в частности, в богатейшем инвентаре погребений знати киевского некрополя.
В заключение необходимо высказать несколько замечаний по вопросу об этнической принадлежности срубных погребений киевского некрополя. Наличие в Среднем Поднепровье в одних и тех же могильниках наряду с широко известными дружинными погребениями с кремацией покойников (Черная могила, Гульбище, погребение, открытое в 90-х годах XIX в. на Софийском дворе) дружинных погребений с трупоположением в деревянных срубных гробницах (Киев, Чернигов, Шестовицы) вызывало различные попытки истолкования этой двойственности погребального инвентаря.
В.Б.Антонович в докладе “О типах погребения в курганах Киевской губернии”, прочитанном на VIII археологическом съезде в Москве, пытаясь выделить в группе славянских курганов наряду с древлянскими курганы полян, характерным признаком их считал обряд погребения с конем.
“В земле полян, – писал он, – умершего погребали вместе с его лошадью; яма делалась очень глубокая, и скелет находится в полном вооружении из железа (громадное копье, кольчуга, прямой меч, стрелы, топор) с типичным шлемом времен дружинной и княжеской эпохи Руси” [Труды VIII АС в Москве (1890), т. IV, М., 1897. Протоколы, стр. 69].
Д.Я.Самоквасов считал известные ему погребения в деревянных срубах одним из типов погребений, характерных для северян [Д.Я.Самоквасов. Северянская земля и северяне по городищам и могильникам. М., 1908, стр. 16-17]. Вслед за Самоквасовым эту же мысль повторяли П.И.Смоличев [П.И.Смоличев. Подвійні поховання Х ст. коло с. Шестовиці на Чернігівщині. – Записки Чернігівського наукового товариства, Праці історико-краєзнавчої секції, Чернігів, 1931, стр. 56] и Я.В.Станкевич [Я.В.Станкевич. Шестовицька археологічна експедція 1946 р. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. I, К., 1949, стр. 56]. Названные авторы исходили из традиционного определения территории северянского племени, не пытаясь даже объяснить двойственность обряда погребения у северян и не обращая внимания на существование значительной группы аналогичных погребений в полянском Киеве. [с. 227]
Т.Арне, ссылаясь на “многочисленность вещей скандинавского происхождения”, объявил Шестовицкий могильник кладбищем скандинавов [Т.Аrne. Skandinavische Holzkainmergräber aus de Wikingerzeit in der Ukraine, стр. 285-302].
Б.А.Рыбаков, изучая некрополь Чернигова, пытался объяснить наличие одновременных курганов с сожжением и со срубными гробницами “возможностью племенных скрещений, особенно легких на границе природных зон, где расположен Чернигов” [Б.А.Рыбаков. Древности Чернигова, стр. 52], предполагая, что
“курганы с сожжением, близкие к северным смоленским (Гнездово), это – погребения славянских русских былей и могутов, а курганы со срубными гробницами, известные только в южной части Руси, это – могилы славянизованных шельбиров и ольберов, жителей черниговских степей, потомков древних кочевых племен, ассимилированных земледельцами славянской лесостепи и в IX-Х вв., по своей культуре не отличавшихся от остального населения Чернигова, но сохранивших особый обряд погребения и некоторые социальные термины” [там же, стр. 53].
Таким образом, собственно славянскими Б.А.Рыбаков считал только черниговские курганы с сожжением, “близкие к северным, славянским курганам Гнездова и Приладожья по всем деталям погребения” [там же].
“Немногочисленная примесь “племени срубных гробниц” (в основном селившегося вне Чернигова), – заключал тот же автор, – не нарушала славянского характера черниговского некрополя, а лишь свидетельствовала о многообразии дружины “сильного и богатого и многовоя” черниговского князя, верховного сюзерена окружавших его бояр-землевладельцев IX-Х вв.” [там же].
Материалы киевского некрополя не позволяют согласиться с изложенной выше точкой зрения. “Племя срубных гробниц” выступает в киевском некрополе отнюдь не как “немногочисленная примесь”. Погребения этого типа, как показано выше, представляют господствующий погребальный обряд социальной верхушки киевского общества в IX-Х вв. Более того, изучение киевских погребений различных социальных слоев позволило установить, что обряд ингумапии характерен не только для верхов киевского общества в IX-Х вв., но широко распространен и в рядовых погребениях горожан этого времени. На материалах киевского некрополя удалось установить промежуточные формы погребального обряда, свидетельствующие об этническом единстве погребений различных социальных слоев.
Далеким прототипом срубных гробниц на территории Среднего Поднепровья, по мнению Б.А.Рыбакова, являются скифские курганы.
“Более тысячи лет, – писал он, – отделяют скифские курганы от славянских; устанавливать поэтому непосредственную связь между ними трудно, но необходимо отметить, что тип скифских срубных гробниц Киевщины и Пол[с. 228]тавщины воскресает позднее именно в этих же географических пределах” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 40].
Еще более определенно мысль о связи срубных погребений Среднего Поднепровья со скифскими высказана тем же автором несколько дальше. “Погребальные обряды Среднего Поднепровья в IX-Х вв. воскрешают старый скифский обряд захоронения в обширном срубе под курганом” [там же, стр. 117].
Эту же мысль развивал двадцать лет тому назад и автор настоящих строк, утверждая в связи с изучением киевского некрополя, что
“срубные погребения с курганной насыпью, относящиеся к первой половине I тысячелетия н.э. или к последним столетиям до нашей эры, открытые в большом количестве в Среднем Поднепровье, связывают киевские погребения IX-Х вв. с погребениями скифской эпохи” [М.К.Каргер. Дофеодальный период истории Киева по археологическим данным. – КСИИМК, I, 1939, стр. 10].
“Переживания древних форм среднеднепровских погребальных сооружений, ведущих свое начало от скифского времени”, усматривал в “обложенных деревом склепах” черниговских курганов и П.Н.Третьяков [П.Н.Третьяков. Восточнославянские племена. – М.-Л., 1949, стр. 174].
Попытки генетической увязки погребений в срубных подкурганных камерах киевского и черниговского некрополей с погребениями скифского времени не имеют серьезных оснований. По справедливому замечанию Д.И.Блифельда, названных исследователей “прельщало даже не столько внешнее (очень, впрочем, отдаленное) сходство обоих типов погребений, сколько, видимо, общая схема славянского этногенеза” [Д.И.Блифельд. К исторической оценке дружинных погребений в срубных гробницах Среднего Поднепровья IX-Х вв. – СА, XX, 1954, стр. 150], в которой, добавим от себя, “скифской подоснове” придавалась весьма существенная роль. В свете современной постановки проблемы славянского этногенеза поиски основ восточнославянских погребальных обычаев следует искать отнюдь не в сомнительной “скифской подоснове” восточного славянства.
Однако едва ли можно согласиться с той несомненно упрощенной трактовкой интересующей нас проблемы, которую выдвигает в только что упомянутой статье Д.И.Блифельд, пытающийся доказать не только “исключительное сходство”, но даже и “почти тождество” дружинных погребений в срубных гробницах с дружинными погребениями с трупосожжением [там же, стр. 160]. Приведенные выше данные о погребальном инвентаре и некоторых сторонах погребальной обрядности, характерных для обеих этих групп, с несомненностью свидетельствуют об общности социальных признаков тех и других погребений. Эта общность, однако, не дает оснований не замечать и весьма существенных отличий обряда погребения в срубной гробнице от обряда трупосожжения. Эти существенные отличия в погребальных обрядах, как показано выше, присущи не [с. 229] только погребениям знати, но и массовым погребениям горожан. Причины этих отличий лежат, по-видимому, в неоднородности этнографического состава населения крупнейших древнерусских городов, каковыми были Киев и Чернигов в IX-Х вв.
Нельзя не согласиться с Б.А.Рыбаковым, что важный исторический вопрос о племенной принадлежности срубных гробниц IX-Х вв. и об их отношении к срубным гробницам Поросья XI-XII вв. не может быть решен на одном черниговском и – добавим от себя – одном киевском материале. Для его решения необходимо тщательное изучение не только всех срубных гробниц русского юга, но и одновременное изучение поставленной выше проблемы двойственности обрядов погребения – кремации и ингумации на различных ступенях истории восточного славянства. [с. 230]
Оборонительные сооружения Киева XI – XIII вв.
… Славный град твой Киев величеством яко венцем обложил…
Иларион. Слово о законе и благодати (середина XI в.).
1. История оборонительных сооружений Киева
Сложная система оборонительных сооружений древнего Киева, защищавших не только наиболее укрепленную часть города – Детинец, или, как обычно называли его киевские летописцы, “Гору”, но и раскинувшийся на огромной территории городской посад – “Подолие”, никогда не была предметом специального исследования, хотя отдельные вопросы, связанные с проблемой обороны древнейшей столицы Руси уже с давних пор дебатировались в историко-археологической литературе.
О том, сколь недостаточно изучены даже самые основные вопросы истории оборонительных сооружений Киева, свидетельствует повторяющееся с давней поры и вплоть до наших дней утверждение, что Киев якобы был в древности окружен каменными стенами. Так, еще М.А.Максимович, один из наиболее компетентных знатоков исторической топографии Киева, вспоминал распространенное в его время мнение о том, что сооруженный Ярославом “град великий” состоял не только из больших земляных валов, но и” “как полагают многие, из каменной стены вокруг Киева”.
“Была ли
действительно сия стена, – писал он, – и как далеко простиралась она, об этом
ничего не видно из наших летописей, иностранные же писатели средних веков
говорят об ней преувеличенно” [M.A.Максимович.
Обозрение Старого Киева. – “Киевлянин на
О том, что
Киев был окружен каменными стенами, писали Лутковский [Лутковский.
Исторический обзор построения в России крепостей и укреплений с древних времен
до
В
опубликованной в
О совершенно недостаточной изученности оборонительных сооружений Киева свидетельствуют существовавшие до последней поры серьезные разногласия в определении основных границ “Ярославова города”, весьма разноречивые попытки реконструкций Золотых ворот, разноречивые толкования различных сохранившихся доныне участков земляных валов и пр.
В отличие от новгородских и псковских летописцев, уделявших исключительное внимание постройке, многочисленным ремонтам и реконструкциям оборонительных сооружений не только самого Новгорода и Пскова, но и небольших городов Новгородской и Псковской земель, киевские летописцы XI и XII вв. чрезвычайно скупо освещают даже самые основные этапы строительства оборонительных сооружений Киева.
Под
“Заложи Ярослав город великый, у него же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, митрополью, и посемь церковь на Золотых воротех святыя Богородица благовещенье, посемь святаго Георгия манастырь и святыя Ирины” [Лавр. лет. 6545 (1037) г.].
Как известно,
летописная статья, занесенная под
Летописный текст крайне лаконично освещает грандиозные работы по строительству оборонительных сооружений. Летописец упоминает лишь одни [с. 232] главные, как это явствует из дальнейшей истории, ворота города, названные, по-видимому, по константинопольскому примеру “Золотыми”, и особо отмечает постройку надвратной церкви Благовещения над этими воротами.
Другие ворота
Ярославова города впервые упоминаются лишь в летописных рассказах о военных
событиях середины XII в. Под
“… Изяслав ста межи Золотыми вороты и межи Жидовьскыми, противу Бориславлю двору, а Ростислав с сыном своим Романом ста перед Жидовьскыми вороты и многое множество с ними, а Городеньскый Борис у Лядьских ворот” [Ипат. лет. 6659 (1151) г.].
Лядские
ворота упоминаются в последний раз в летописном рассказе о штурме Киева
татаро-монгольскими полчищами в декабре
Лишь случайно
на страницах киевских летописей упомянуты оборонительные сооружения Подола. В
летописном повествовании о нападении на Киев в феврале
“…нача Изяслав полкы рядити с братьею и доспев иде к Подолью, а Ростислав стояше с Андреевичем подле столпье, загорожено бо бяше тогда столпием от горы оли и до Днепра. И бысть брань крепка велми зело от обоих, и тако страшно бе зрети, яко второму пришествию быта. И нача одоляти Изяслав: уже бо половци (его союзники, – М. К.) въездяху в город, просекаюче столпие, и зажгоша двор Лихачев попов, и Радьславль, и побегоша берендиче (союзники Ростислава, – М. К.) к Угорьскому, а друзие к Золотым воротам” [Ипат. лет. 6669 (1161) г.].
В летописном
рассказе о занятии Киева в
После
разгрома Киева татаро-монгольскими полчищами в
Величественные,
хотя и заброшенные остатки мощных земляных укреплений Верхнего Киева не раз
привлекали к себе внимание путешественников, посещавших Киев в XVI-XVII вв.
“Киев был очень укреплен на обширном пространстве”, – писал Эрих Ляссота,
побывавший в Киеве в
О стене, окружавшей древний Киев, и о воротах старинной архитектуры в ней “как о памятниках прежнего величия города”, упоминал в своем описании руин древнего Киева королевский секретарь Рейнольд Гейденштейн [там же, стр. 23]. Огромные валы, сохранившиеся на киевских высотах, по мнению Гейденштейна, свидетельствовали, “что город, должно быть, когда-нибудь был очень многолюден и велик” [там же, стр. 24].
Высоко оценил стратегические преимущества древних ярославовых укреплений по сравнению с новым польским замком на Киселевке военный инженер Боплан, который писал: “Замок нового Киева лежит на вершине горы (Киселевки, – М.К.) и повелевает нижним городом (Подолом, – М.К.); но старый Киев повелевает и самым замком” [там же, стр. 45].
С первых дней
воссоединения Украины с Московским государством московское правительство
проявляло чрезвычайную заботу об укреплении обороноспособности Киева. Отправляя
30 января
“Бояром же и воеводам князю Федору Семеновичу Куракину да князю Федору Федоровичю Волконскому, да дьяку Андрею Немирову досмотрить в Киеве, какие крепости учинены, где им бояром и воеводам, и служилым людем, и киевляном началным и всяким служилым и жилецким и уездным людем в приход воинских людей быти безстрашно и надежно.
И будет, по их досмотру, в Киеве такие крепости нет, и им бояром и воеводам говорити митрополиту и Печерскому, и иных монастырей архимаритом, и игуменом, и протопопом, и всему освященному собору, и полковником, и бурмистрам, и всяким служилым и жипетпким людем, что в приход воинских людей в Киеве ему, митрополиту, и всему освященному собору и им, бояром и воеводам, и служилым, и жилетцким, и уездным людем, быть негде и вперед, для бережения от приходу воинских людей, им, митрополиту и всему освященному собору, и полковником, и бурмистром, и всяким служилым и жилетцким и уездным людем, без крепостей быти не уметь: сами они то ведают, какое в Киеве наперед сего от литовских людей и от татар было разоренье; и киевленя б, всяких чинов служилые и жилетцкие и уездные люди, для своей избавы на городовое дело лесу вывезли и город делали.
А которые служилые люди с ними, с бояры и воеводы, пришли в Киев, для обереганья от приходу воинских людей, и они, бояре и воеводы, [с. 234] тем служилым людем городовое дело и крепости делать велят с ними ж вместе” [АЮЗР, X, СПб., 1878, стр. 362].
Царский наказ поручал воеводам произвести осмотр и обмер древних киевских укреплений:
“И в котором месте и каким крепостям в Киеве быти и бояром и воеводам князю Федору Семеновичи Куракину да князю Федору Федоровичю Волконскому, да дьяку Андрею Немирову место, где лутче городу быть, осмотреть и велеть начертить на чертеж и отписати о том и чертеж прислати к государю к Москве” [там же, стр. 363].
Наказ требовал далее после устройства новой крепости
“в котором месте в Киеве, по государеву указу, и какую крепость устроят и каким образом, и бояром и воеводам то все велеть написать в строелные книги подлинно, порознь, и на чертех начертить и те строелные книги за дьячею приписыо и чертеж прислати к государю к Москве в розряд” [там же, стр. 364].
27 февраля
“И по твоему, государеву, наказу, осмотрели киевских крепостей. И в Киеве, государь, около посаду, с одну сторону, от реки Днепра до гор было острогу сажень с 300, а по тому острогу было 6 башень да двои ворота проезжие; и тот, государь, острог во многих местех вызжен и розломан (речь идет об остроге, ограждавшем Киево-Подол, – М.К.). Да в Киеве же, государь, на горе поставлен воевоцкой двор и огорожен острогом (речь идет о замке на горе Киселевке, – М.К.); а остроженко, государь, и по нем башни худы и воды в нем нет; а был, государь, в том остроге, у воеводы у Адама Киселя, для его домового покою, один колодезь копаной, до воды 50 сажень, и вода в нем была худа, и тот колодезь завалился; а иных, государь, вод никаких к тому острогу нет, и в приход, государь, воинских людей с гор от пушечные стрелбы в том остроге ущититца нелзе и вылазки из него и промыслу учинить над воинскими людми не мощно, место не укромно” [там же, стр. 386-387].
Все эти крупные недостатки литовского замка на Киселевке, правильно подмеченные московскими воеводами, заставили их решительно отказаться от возобновления этого укрепления. Наоборот, фортификационные возможности земляных укреплений древнего Ярославова города, давно уже заброшенного, в XIV-XVII вв., по-видимому, ни разу не обновлявшегося, были высоко оценены московскими воеводами:
“И мы, холопы твои, осмотрели место, где быть городу или острогу, на горе, близко Софейского монастыря; мерою, государь, того места кругом 820 сажень в трехаршинную сажень, а будет, государь, впредь твои, государевы, ратные прибылые люди будут, или уездные люди в осаду збегутца, и к тому, государь, городу, смотря по людем, и прибавка учинити мочно” [там же, стр. 387]. [с. 235]
Однако московские воеводы встретились с совершенно неожиданным серьезным препятствием в осуществлении своих планов. Территория древнего Ярославова города, называвшаяся в XVII в. Софийской слободой, принадлежала киевскому митрополиту. Занимавший в описываемое время митрополичью кафедру Сильвестр Коссов пытался оказать решительное сопротивление градостроительным мероприятиям московских воевод, едва не кончившееся крупным конфликтом между московским правительством и киевской митрополией.
Московские воеводы подробно извещали царя о своей стычке с митрополитом:
“…февраля, государь, в 25 день были мы, холопи твои, у киевского митрополита Селивестра и о городовом деле говорили ему, по твоему государеву наказу, чтоб на том месте от приходу воинских людей город поставити; а окроме, государь, того места инде города поставить негде.
И митрополит Селивестр, выслушав у нас, холопей твоих, говорил нам, что на том месте города он ставить не даст, потому что та земля его Софейская и Архангелского и Николского монастырей и Десятинные церкви под его митрополичьего паствою, и он тех земель под город не поступаетца. И мы, холопи твои, ему, митрополиту, говорили, что опричь того места инде города поставить негде, таких угожих мест нет” [АЮЗР, X, стр. 387].
Воеводы давали обещание, что взамен земли, отбираемой под укрепление, митрополит получит от царя “иную землю”, на что митрополит отвечал, что “земли все у них поделены и по их правам отдать ему тое земли под город нелзе” [там же, стр. 388]. Митрополит раздраженно говорил московским воеводам, что “будет де хотите черкас оберечь, и вы оберегайте от Киева верст за двадцать и болши, а города он ставить на той земле не даст” [там же]. Московские воеводы упорствовали, указывая митрополиту на то, что когда
“наперед сего в приход к Киеву полских и литовских людей в Киеве города не было и полские и литовские люди посад выжгли и церкви божий разорили и православных христиан греческого закона многих побили, а только б был город, и они б, прося у Бога милости, в городе сидя, всякими мерами оберегались”.
Они доказывали полную непригодность старого замка на Киселевке и отсутствие другого подходящего места для постройки укреплений, кроме избранного ими (“окроме того места в иных местех города ставити негде, потому что такова. угожего места нет; а на котором месте ныне стоит Литовский острог, и то место к городовому делу не угоже и не крепко и безводно” [там же]).
Наконец, исчерпав все доказательства и методы убеждения, московские воеводы намекнули митрополиту на то, что даже “будет он, митрополит, и не похочет того места дать под город”, они все равно по государеву указу будут [с. 236] ставить город на выбранном месте, “потому что опричь того места иного такова угожего места нет” [там же].
Митрополит пришел в ярость (“учал сердитовать”) и угрожал, что “будет де учнете на том месте ставить город, и я де учну с вами битися”. Московские воеводы сообщали царю о том, что он (митрополит) так говорит, “не имея страха божия и не хотя государской милости к себе”. По поводу угрозы митрополита “битца” воеводы иронически заметили: “и кем ему битца?” [там же, стр. 388-389].
В нашу задачу отнюдь не входит изучение дальнейшего течения этого конфликта, в котором митрополит дошел до того, что проговорился, что “он де митрополит… бити челом государю, о том, что ему быть под государевой высокой рукою не посылывал” и что в качестве духовного иерарха он живет “с духовными людьми о себе, ни под чьею властью”. Он недвусмысленно угрожал изменой, заявляя, “не ждите де начала, ждите де конца, увидите де сами, что над вами будет вскоре” [там же, стр. 389-390]. Однако представители московского правительства проявляли непреодолимое упорство. Небезосновательно подозревая симпатии Сильвестра “литовскому королю”, они трактовали сопротивление Сильвестра как его домогательство, “чтоб… поставити город не в угожем месте, чтоб над городом какое дурно случилось” [там же, стр. 389].
Вскоре сопротивление митрополита было сломлено. Через киевских полковников, сотников и войта, которым пожаловались воеводы, Сильвестр просил прощения, ссылаясь на то, что говорил “с серца”, потому что де “преж сего поляки и литва многие у них земли себе посвоили и завладели и ныне он чаял того ж” [там же, стр. 391]. 27 февраля московские воеводы, известив Богдана Хмельницкого о том, что митрополит говорил им “встрешно про городовое строенье”, угрожая боем, сообщали ему о своем непреклонном решении “делать город” на киевских высотах [там же, стр. 391-392].
17 марта того же года воеводы сообщали в Москву о том, что “острог и всякие крепости” строятся “всеми людми, днем и ночью” [там же, стр. 395].
Одобряя деятельность своих воевод в Киеве, царь требовал в грамоте, посланной из Москвы 30 марта, чтобы “городовым делом промышляли… с великим раденьем и поспешеньем” [там же, стр. 397]. В Москву затребовали “городовому делу роспись и чертеж” [там же, стр. 399].
31 марта воеводы сообщали:
“В Киеве, государь, мы, холопи твои, острог весь и башни поставили, а ныне, государь, по тому острогу делаем мосты и [с. 237] обламы и ров копаем. А как, государь, со всеми крепостми острожными сделаем, и о том мы, холоди твои, отпишем и острогу чертеж и образец к тебе, государю, к Москве пришлем” [АЮЗР, X, стр. 408].
Работы по
строительству острога на Старокиевской горе были закончены, по-видимому, в том
же 1654 или в следующем
“Да и то б государю ведомо было, – говорится в этом докладе, – что в Киеве острог поставлен стоячей, сосновой, в одно бревно; а проезд в посад и выезд из посаду сквозь острог всяким людем одною дорогою” [там же, стр. 414].
Исключительная быстрота строительства киевских укреплений, охвативших огромную площадь Верхнего города, свидетельствует о том, что московские воеводы отнюдь не строили новую крепость. Обновляя древние укрепления Ярославова города, они, по-видимому, в полной мере использовали сохранившиеся огромные земляные валы XI в., на которых после небольшого ремонта и частичной подсыпки был поставлен “тын стоячий, в одно бревно”, т.е. простейшая система деревянных укреплений.
После того
как проведенные в срочном порядке первоочередные работы по восстановлению
древних оборонительных сооружений Киева были закончены и заброшенные
исторические руины древнего Ярославова вала вновь превратились в мощную
действующую крепость на юго-западной границе Московского государства, в течение
второй половины XVII и в начале XVIII вв. неоднократно проводились работы по
усовершенствованию и частичной модернизации киевских укреплений. Так, из
“росписи, что принято в Киеве по острогу наряду и в казне пороху и свинцу”,
составленной в июле
В ноябре того же года В.Шереметев, сообщая царю о нападении на Киев Д.Выговского, упоминает о “битых и стреленых работных людях, посланных по лес на острожное и валовое дело” [там же, стр. 281]. Из этой же отписки Шереметева мы узнаем о том, что “у валового дела, как новой вал делали”, ведал Аверкий Балтин [там же, стр. 285]. В этой же отписке часто наряду с “старым валом” упоминается “новый вал” [“А по старому, государь, валу от колодезя Хрещатика и от нового валу до Золотых ворот…”; “А от Золотых ворот по старому и по новому валу…”; “А острогу, государь, и от острогу по новому и по старому валу до нового же валу и от нового валу до острогу другие стороны 2199 саж…” (АЮЗР, XV, стр. 285)]. Характер непрерывно продолжавшихся работ явствует из той же [с. 238] отписки:
“А по новому, государь, валу и по старому, – сообщал Шереметев, – деланы у нас, холопей твоих, крепости, рвы покопаны и обламы поставлены, и катки положены, и для воды зделаны городки земленые” [там же].
В донесении о
новых работах по восстановлению киевских укреплений в
В
В
В начале
XVIII в. укрепления эти были признаны несоответствующими новым требованиям
фортификации. В мае
“Я ездил вокруг Киева, также около Печерского монастыря и все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравится здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости. Но Печерский монастырь зело потребен и труда с ним немного: город изрядный, каменный, только немного недоделан и хотя зачат старым маниром, но можно изрядную фортецию учинить да и есть чего держаться, потому что в нем много каменного строения и церквей, а в Киеве городе (речь идет об укреплениях Верхнего Киева, – М.К.) каменного строения только одна соборная церковь да монастырь” [В.С.Иконников. Пребывание Петра Великого в Киеве (Киев-Полтава). – ВИВ, Киев, 1910, № 5-6, стр. 6-7].
Столь высоко оцененный Меншиковым “изрядный город” вокруг Печерского монастыря представлял мощную каменную стену, незадолго перед этим построенную Мазепой. Как на главный недостаток старых киевских укреплений Меншиков указывал на то, что “городовое основание великое и ежели его крепить, зело нелегок станет” [там же].
В “Журнале”
Петра Великого о его пребывании в Киеве в
“В тое
бытность государь усмотрел, что Киевская фортеция имеет зело худую [с. 239]
ситуацию: того ради за благо рассудил фортецию сделать в ином месте, для
которой за удобное место избрал монастырь Печерский, которое гораздо удобнее
Киева (т. е. Верхнего Киева, – М. -К.)” [Журнал или
поденные записи Петра Великого с
15 августа
Наряду с
постройкой новой крепости на Печерске и укрепленной линии от Печерска до Старого
города, по-видимому, были произведены какие-то работы по усилению
Старо-киевской крепости, которая, по донесению Шереметева, “во многих местах
обвалилась, палисаду, пушек и других к отпору вещей нет и ни в чем не надежна” [там же]. Однако постройка крепости на Печерске
предопределила судьбу Старокиевской крепости, которая вскоре была совсем
заброшена. Последнее крупное возобновление киевских укреплений было произведено
с 1732 по
С начала XIX в., а особенно в 30-х годах XIX в., земляные валы Старокиевской rрепости в связи с перепланировкой города начали постепенно сносить. [с. 240]
2. Письменные и графические источники для реконструкции оборонительных сооружений Киева
Чрезвычайно ценным источником для изучения древних ярославовых укреплений являются многочисленные планы Киева XVII – первой половины XIX вв. и несколько росписных списков XVII – XVIII вв., в которых подробно описано состояние киевских укреплений. К сожалению, почти все эти планы и описания фиксируют киевские укрепления уже после восстановления их в XVII в. московскими воеводами, а на планах XVIII – первой половины XIX в. изображены и новые оборонительные сооружения, возникшие в XVIII – XIX вв. в дополнение к старым. Тем не менее эти планы являются важнейшим источником для реконструкции древней системы оборонительных сооружений Киева.
Наиболее
древним перспективным изображением Киева является известная гравюра,
приложенная к книге Афанасия Кальнофойского “Тератургима”, напечатанной в
Киево-Печерской типографии в
Изображение Верхнего Киева на карте военного инженера Гильома де Боплана, исполненной в середине XVII в., т.е. до восстановления древних киевских укреплений московскими воеводами, представляло бы значительный интерес, если б не было слишком мелкомасштабным и схематичным. Оборонительные сооружения изображены в виде дуги, охватывающей весь Верхний Киев, включая не только Владимиров и Ярославов город, но и территорию Михайловского Златоверхого монастыря [Бопланова карта Киевского воеводства. – ЧИОНЛ, кн. XIII, Киев, 1899, отд. III, стр. 144].
В
План
В валах Владимирова города трое ворот: “Киевские”, ведущие на Подол, “Софийские” (иногда называемые “Батыевыми”), соединяющие Владимиров город с городом Ярослава (через ров), и “Михайловские”, соединяющие Владимиров город с Михайловской частью Ярославова города. Из этой части города другие ворота, также названные “Михайловскими”, ведут в Печерскую часть Ярославова города. В Большом Ярославове городе отмечены ворота “Ивановские” (обычно называвшиеся “Львовскими”, а в древности “Жидовскими”), “Золотые” и “Печерские”, расположенные в Крещатицкой долине. Для сообщения между Софийской и Печерской частями Ярославова города в поперечном валу сделано несколько “калиток”.
Сохранившиеся
в различных архивах многочисленные планы XVIII в. в отличие от планов XVII в.
выполнены в масштабе и довольно точно передают как самые оборонительные
сооружения, так и рельеф местности, тесно связанный с системой обороны.
Наиболее ранним образцом этого нового типа планов является “план города Киева с
укреплениями и ретраншементами по про[с. 242]екту генерала Галларта”,
выполненный в
Планы Киева 1715 [Ф.Ласковский, ук. соч., Атлас, II, табл. XXV], 1727 [подлинник в ЦГВИА (д. 2288); ранее находился в архиве Инженерного департамента], 1728 [подлинник в ЦГВИА (д. 2289); ранее находился в Архиве Главного военно-инженерного управления (см.: П.Г.Лебединцев. О планах г.Киева XVIII ст., стр. 268)], 1731 [подлинник в ЦГВИА (д. 2290); ранее находился в Архиве Главного военно-инженерного управления (см.: П.Лебединцев. О планах г. Киева XVIII ст., стр. 268)] и 1740 [подлинник в ЦГВИА (д. 2303); ранее находился в Архиве Главного военно-инженерного управления (см.: П.Г.Лебединцев. О планах г. Киева XVIII ст., стр. 268)] гг. не имеют особого значения для изучения оборонительных сооружений.
Большой интерес представляет “Генеральный план Печерской крепости, также Верхнего Киева, Подола, с лежащею ситуацией и при оных ретраншементов и протчего строения, сочиненный в 1745 году” [подлинник хранился в Музее Киевской духовной академии (см.: Н.Петров. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. 2-е изд., Киев, 1897, стр. 19; ср. также: Обозрение Киева в отношении к древностям. Киев, 1847, табл. после стр. 24; Инженерные записки, 1853, XXIX, кн. I, Прилож.)]. План этот (табл. XXXI), выполненный Киевской инженерной командой, точно передает не только расположение оборонительных сооружений Верхнего Киева и, в частности, крепостных ворот, но и границы городских кварталов, направление основных улиц города, наиболее крупные городские постройки. Внешняя линия оборонительных укреплений Верхнего города в объяснительных надписях повсюду названа “Старокиевской крепостью”.
“План
положения местам вокруг Киева с показанием ближней ситуации, сочиненный в
“План
Старо-киевской или Верхнего города Киева крепости со означением ея главного
укрепления внутреней крутости и с показанием во оной казеннаго и разночинненского
строения”, сочиненный в
“План
Киево-Печерской, Старо-киевской крепостям и Нижнего города Подола с показанием
казенного и обывательского строения, с лежащею ситуа[с. 243]циею, сочиненный
1780 года, декабря 24 дня” [местонахождение подлинника
неизвестно. Негатив в собрании Софийского архитектурно-исторического
заповедника], так же как и план
Рис. 47. План
Киева
Уменьшенная копия с этого плана хранится в Ленинградском филиале ЦВИА (ф. III, оп. 29, № 382). На ней надписи: “План Печерской и Старокиевской крепостям, с показанием в них и вблизи оных строения и ситуации, так же и прожекта городу и в крепостях, каким образом строение бысть полагается”. Ниже: “На подлинном тако: Бысть по сему в Киеве апреля 17 1787 года”. Внизу: “На подлинном тако: Иван Меллер Андрей Шувалов. Копировал киевского городоваго архитектора ученик канцелярист Иван Палей”] (рис. 47), свидетельствует о том, что в конце XVIII в. основные оборонительные сооружения Киева сохранялись в том же виде, в котором они зафиксированы на планах середины XVIII в.
На
многочисленных планах Киева, исполненных в первой половине XIX в., в
расположении оборонительных сооружений также нет каких-либо существенных
изменений, хотя, начиная уже с плана, исполненного в
[“План городу Киеву, четырем оного частям, с показанием Печерской и Старо-киевской крепостей и соединяющего их ретраншемента, также с означениемпубличных общественных и партикулярных строений, равно и ситуации и сверх того розданных начальством пустопорожних мест под постройку публичных и партикулярных строений 1806 года”. Местонахождение подлинника неизвестно. Негатив в собрании Софийского архитектурно-исторического заповедника АА УССР.
“Чертеж и вид Киева 1810 года. Альбом рисунков к путешествию Бороздина”. Гос. публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина.
“План городу Киеву, четырем оного частям, с показанием Печерской и Старокиевской крепостей и соединяющего их ретранжамента, с означением публичных общественных и партикулярных строений, с ситуацией по городскую черту”, исполненный арх.А.Меленским. Подлинник в ЦГИАЛ (ф. 1293, on. 355, № 4).
“План местоположению трех частей города Киева, начиная от
первой части Печерской, с частию предместий Плоского, с показанием в
Киево-Подольской части сгоревших домов, монастырей, церьквей и публичных зданий
прошедшего июля 9 дня и оставшихся в целости прикосновенных к оному пожарному
месту в кварталах строений с ситуациею…”, исполненный арх.А.Меленским в
План Киева, исполненный арх.А.Меленским. Подлинник в в ЦГИАЛ (ф. 1293, оп. 353, № 2).
План Киева, исполненный арх.А.Меленским. Подлинник в ЦГИАЛ (ф. 1293, он. 355, № 102).
План Киева, исполненный арх.А.Меленским. Подлинник в ЦГВИА.
План Киева
План Киева, составленный при Киевской инженерной команде в
План Киева
План Киева 1816. Подлинник в ЦГИАЛ (ф. 1293, on. 353, № 4).
План Киева, составленный поручиком Нуромали в
План Киева
План Киева (после
План Киева
План Киева
План Киева
План Киева
План Киева
Среди
многочисленных планов Киева первой трети XIX в. особого внимания заслуживает
план, составленный в
Значение
плана
Реконструкция
системы оборонительных сооружений древнего Киева на плане современного города в
значительной мере облегчена благодаря плану
Несколько
планов Киева 40-60-х годов XIX в., хранящихся в различных архивах, фиксируют
быстрое исчезновение в середине XIX в. последних остатков древних
оборонительных сооружений [План Киева
Большое значение для реконструкции системы древних оборонительных сооружений Ярославова города имеют многочисленные “росписи” Киева, составлявшиеся московскими воеводами в течение XVII-начала XVIII в., а также различные донесения о состоянии киевских укреплений и о ходе работ по их ремонту и усовершенствованию.
Среди этих
документов наибольший интерес представляют упомянутые выше донесения московских
воевод в
Роспись наряду и казны [с. 246] 1658г. [АЮЗР, XV, СПб., 1892, стр. 218-222; о крепостных работах того же года см.: там же, стр. 284-285];
Роспись Киева
Донесение
воеводы Львова о строительных работах
а также:
Роспись Киеву
Сметная книга
Сметная книга
и росписной список
Росписной
список
Несмотря на то, что в большей части этих документов. описываются уже возобновленные в XVII в. укрепления, они являются весьма важным источником для решения ряда вопросов, связанных с изучением древней системы оборонительных сооружений Ярославова Киева.
3. Реконструкция первоначального плана сооружений Ярославова города
Перечисленные выше официальные “росписи” оборонительных сооружений Киева, составленные в XVII-XVIII вв., и старые планы, на которых с большей или меньшей точностью нанесены древние земляные валы и ворота Верхнего города, позволяют восстановить в основных чертах оборонительную систему Ярославова города.
От Золотых ворот линия Ярославова вала шла по направлению на северо-запад, параллельно современной улице Ворошилова (бывш.Б.Подвальная, или Ярославов вал), по краю нагорья, круто обрывающегося к долине среднего течения р.Лыбеди. Дойдя до района Сенного базара (Львовская площадь), она поворачивала на восток и тянулась параллельно нынешней Б.Житомирской ул. по обрывистому краю нагорья над Кожемяцким ущельем и Гончарами. У пересечения Б.Житомирской и Владимирской улиц вал Ярославова города примыкал к более древним укреплениям Владимирова города, вблизи от Софийских (Батыевых) ворот.
Расположение описанной западной половины Ярославова вала, несмотря на то, что в настоящее время от него не сохранилось почти никаких остатков, никогда не вызывало сомнений у исследователей исторической топографии Киева.
Реконструкция восточной половины Ярославова города, наоборот, уже с давних пор вызывала противоречивые толкования и споры. Часть древних киевских укреплений, оборонявших город со стороны Крещатицкой до[с. 247]лины, по-видимому, еще в ту пору, когда было начато их восстановление, считалась ненадежной. В упомянутом выше докладе Ф.Куракина на рассмотрение царя был предложен проект постройки новой дополнительной линии укреплений внутри древних валов:
“И будет государь укажет от Златых ворот сделать вал земляной от Архангелского монастыря, для помоги острогу, и как будут государевы прибавочные ратные люди, и теми людми земляной вал сделать будет мошно” [АЮЗР, X, стр. 413].
По-видимому,
именно этот проект и был осуществлен в
По вопросу о
том, какие работы были произведены кн.Черкаским в
“Старокиевская
крепость еще и прежде сего (до XVIII в., – М.К.) была исправляема несколько
раз, между прочим около
Почти
одновременно М.Максимович в своем “Обозрении Старого Киева”, напечатанном в альманахе
“Киевлянин на
“Посредством
вала сего, – утверждал М.Максимович, – пригородилось тогда к Старому Киеву
новое Печерское отделение. Именем Печерских названы были и каменные ворота в
сем нижнем валу, которые существовали до
Рис. 48. План-реконструкция Старого Киева М.Максимовича. [с. 249]
При статье
был опубликован “Чертеж Старого Киева в древнем виде”, представляющий попытку реконструкции
плана древнего города (рис. 48). И этот план и приведенное выше описание не
оставляют сомнений в том, что М.Максимович считал древней границей Ярославова
города вал, проходивший от Золотых ворот до Михайловского Златоверхого
монастыря, по верхней части горы. Древние Лядские ворота на плане Максимовича
показаны неподалеку от Софийского собора, т.е. в верхней части нынешней
Софийской ул. Нижний [с. 248] вал и Печерские ворота, расположенные внизу, на
современной площади им. Калинина, Максимович связывал с новыми оборонительными
сооружениями, созданными кн. Черкаским в
[По-видимому, на этой же точке зрения стоял несколько раньше М.Ф.Берлинский. Судя по тому, что на опубликованном в его книге плане Киева местоположение Лядских ворот показано в верхней части нынешней ул. Калинина (неподалеку от Софии), можно заключить, что он, как и Максимович, считал древней восточной границей Ярославова города поперечный вал, существовавший еще в ту пору в верхней части киевского нагорья, между Золотыми воротами и Михайловским монастырем. (М.Ф.Берлинский. Краткое описание Киева. – СПб., 1820)]
Эту же точку зрения М.Максимович развивал во вводном историческом очерке к изданию И.Фундуклея “Обозрение Киева в отношении к древностям”. Он писал:
“В 1679 году, когда турецкая осада Чигирина грозила опасностью и Киеву, воевода князь Черкаский окружил новым валом восточно-южную низменную сторону Старого Киева, начиная от Михайловского монастыря до Золотых ворот; и таким образом прибавлено было к Старому Киеву новое, третье отделение, называвшееся Печерским. Этот вал был насыпан московским войском” [Обозрение Киева в отношении к древностям, изд. И.Фундуклеем. Киев, 1847, стр. 23].
Почти в тех
же выражениях характеризует постройку
“Кн.
Черкаский прибавил тогда к Старому городу еще больше пространства, оградив его
новым земляным валом по южной, или Крещатицкой, стороне, начиная от
Михайловского монастыря до Золотых ворот. Посредством сего вала пригородилось
тогда к Старому городу новое Печерское отделение. Именем Печерских названы были
и каменные ворота в этом нижнем валу, которые существовали до
На опубликованной Н.Закревским реконструкции плана древнего города восточная граница его проходит по верхней части горы от Золотых ворот до Михайловского монастыря [там же, Атлас, л. 5].
Реконструкции плана древнего Киева, опубликованные М.Максимовичем и Н.Закревским, надолго закрепили представление о том, что Ярославов город располагался лишь на плато киевского нагорья, не спускаясь по склону Крещатицкой долины.
Это представление лежало в основе почти всех работ по исторической топографии города вплоть до недавнего времени [Л.Добровольский. Київські укріплення i Золоті Ворота. – Науковий збірник за р.1926, К., 1926, стр. 17; О.Сімзен-Сичевський. Історія забудови i планування Києва в дореволюційний період. – АРУ, К., 1938, № 4-5, стр. 16].
Закреплению этого ошибочного представления в последнее десятилетие немало способствовал опубликованный в нашей статье “К вопросу о Киеве в VIII-IX вв.” схематический план города [М.К.Каргер. К вопросу о Киеве в VIII-IX вв. – КСИИМК, VI, 1940, стр. 64, рис. 10], в качестве топографической основы [с. 250] которого по недосмотру был использован план-реконструкция Н.Закревского. Опубликованный в статье для весьма узкой цели показа направления трассы рва древнейшего городища на Андреевской горе, обнаруженного раскопками, план этот был, к сожалению, многократно переиздан в качестве общей схемы исторического развития Киева [Я.Пастернак. Старий Галич. – Краків-Львів, 1944, стр. 205, рис. 86; Н.Н.Воронин. Поселение. – В кн.: История культуры древней Руси, т. I. M.-Л., 1948, стр. 199, рис. 122; Н.И.Брунов. Киевская София – древнейший памятник русской :аиенной архитектуры. – Византийский временник, III, 1950, стр. 169, рис. 8; Н.Н.Воронин. Зодчество Киевской Руси. – В кн.: История русского искусства, т. I. Изд. АН СССР, M., 1953, рис. за стр. 128]. [с. 251]
В противовес
изложенной выше общераспространенной точке зрения П.Лебединцев, в послесловии к
опубликованному им в
“В дополнение
к валам, окружавшим Старый Киев, проведен в это время (в конце XVII в.) вал
“поперечный” от Золотых до Михайловских ворот, по левой стороне Софийской
ограды, на соединение с валом, окружавшим церковь Трехсвятительскую и
выходившим на черту Михайловской площади у нынешнего Реального училища” [Росписной список г. Киева
В предисловии
к изданному Киевской комиссией для разбора древних актов “Плану Киева,
составленному в
“… укрепление
это состояло только в возобновлении древних валов ярославова времени, с добавлением
к ним поперечного вала от Золотых ворот к Трехсвятительской церкви” [План Киева, составленный в
Рис. 49. План-реконструкция Ярославова города А.Тихонович и Н.Ткаченко. [с. 251]
Таким
образом, и П.Лебединцев и автор предисловия к изданию “План Киева, составленный
в
Опираясь на подробные описания оборонительных сооружений в “росписях” XVII-начала XVIII в., а также на планы Киева XVIII-начала XIX в., восточную часть древних валов Ярославова города можно восстановить с такой же уверенностью, с какой восстанавливается западная его половина. От Золотых ворот, пересекая современную Владимирскую ул., земляной вал тянулся до пересечения Мало-Подвальной ул. и Михайловского переулка и спускался постепенно в Крещатицкую долину, в район современной площади Калинина, где находились в древности Лядские ворота, позже называвшиеся Печерскими. Оттуда вал поднимался вдоль современной Костельной ул. к Михайловскому Златоверхому монастырю, по-видимому, охватывая его вдоль обрыва Владимирской горки.
Основная конфигурация Ярославова вала была обусловлена природным рельефом Верхнего Киева. Строители, умело используя исключительно сложную, пересеченную местность, создали грандиозные по масштабу неприступные сооружения. [с. 252]
4. Археологические исследования оборонительных сооружений Ярославова города
До недавнего времени было широко распространено мнение о том, что в результате огромных работ по перепланировке Киева, произведенных в середине XIX в., древние оборонительные сооружения Ярославова города полностью исчезли.
“Место, где были киевские укрепления домонгольской поры, и их внешний облик можно представить только умозрительно, – писал о киевских оборонительных сооружениях Ярославова времени Л.Добровольский, – ибо они целиком исчезли” [Л.Добровольский, ук. соч., стр. 16].
В качестве единственного источника для характеристики конструкций земляных валов Ярославова города обычно привлекались отпечатки деревянных срубов на наружных стенах Золотых ворот, что свидетельствовало о наличии внутри валов сложной системы деревянных клетей [Впервые нa эту особенность обратил внимание В.А.Толстой в статье “О Золотых воротах в Киеве”. – Тр. III АС в Киеве (1874), т. II, Киев, 1878, Прилож., стр. 323-325].
О том, как были устроены эти клети, чем они были заполнены, высказывались разнообразные догадки, опиравшиеся главным образом на аналогии с достаточно хорошо изученными укреплениями Белгорода. Так, материалом для постройки киевских валов по аналогии с белгородскими считали сырцовый кирпич и глину [Л.Добровольский, ук. соч., стр. 17]. На основании тех же аналогий пытались реконструировать и систему деревянных клетей – тарас [там же, стр. 17-18]. Л.Добровольский считал, что срубы (в валах) заполнялись камнями и землей, а промежуток между ними и стенами (ворот) был забучен камнями и кирпичом на растворе извести [там же, стр. 23].
Однако уже с давних пор при различных земляных работах, проводившихся на территории Верхнего города, то там, то здесь обнаруживались остатки оборонительных сооружений Ярославова города, позволявшие проследить отдельные элементы деревянных конструкций, сохранившихся внутри земляных валов и особенно у их основания.
Так, в І872 г. в связи с работами по перепланировке, проводившимися городским самоуправлением, была срыта часть земляного вала, идущего от Золотых ворот вдоль Б.Подвальной ул. Вал, по сообщению корреспондента газеты “Киевлянин”, имел высоту около 8 саж. Форму вала тот же корреспондент определял как “треугольную лежащую призму, боковое ребро которой служит вершиной, а противоположная сторона основанием”. Вал состоял из деревянных срубов, внутренность которых была забита светлым лёссом [Киевлянин, 24.VI.1872 (№ 75)].
Остатки вала
Ярославова города были обнаружены в
Весьма
примечательные остатки оборонительных сооружений Ярославова города были
обнаружены в нескольких пунктах Верхнего Киева при прокладке траншей
газопровода в 1947-1948 гг. Так, во дворах домов 7 и 9 по ул.Ворошилова (бывш.
Б.Подвальная) в траншее газопровода можно было наблюдать остатки деревянных
конструкций, сохранившихся в самой нижней части вала. Полусгнившие дубовые
бревна лежали горизонтально поперек вала, на различной глубине от уровня
современной поверхности, представляя, очевидно, нижние части сруба, забитого
внутри землей. У наружной линии вала можно было проследить начало глубокого
рва, окружавшего Ярославов город [I.М.Самойловський
Розвідки і розкопки в Києві та його околицях в 1947- 1948 pp. – Археологічні
пам'ятки УРСР, III, Київ, 1952, стр. 76]. Ширину рва удалось проследить
на другом участке, расположенном неподалеку от только что упомянутого, у дома 4
по ул.Франка, где траншея газопровода перерезала засыпанный землей ров шириной
около
Ров,
окружавший некогда Ярославов город, был обнаружен также у дома 20 по ул.
Чкалова, где в траншее газопровода, проложенной вдоль улицы, отчетливо
прослеживались его контуры. Ширина рва достигала здесь
Таким
образом, в упомянутых трех пунктах, расположенных на протяжении около
Исключительный
интерес представляют результаты археологических раскопок вала Ярославова города,
проведенных Институтом археологии АН УССР летом
Участок вала, подвергшийся исследованию, несомненно представлял собой некогда непосредственное продолжение мощных земляных укреплений, тянущихся вдоль современной М.Подвальной ул., от Золотых ворот к площади Калинина. Исследованный участок был отрезан от основной линии сохранившегося вала проездом, вырытым в начале XX в.
Несмотря на незначительные размеры исследованного участка вала, не позволившие выяснить его конструкцию с достаточной полнотой, расположение его на основной трассе укреплений Ярославова города не оставляло сомнений в том, что обнаруженные деревянные конструкции представляют остатки оборонительных сооружений, окружавших некогда город Ярослава.
В целях более тщательного изучения деревянных конструкций было признано необходимым провести раскопки на соседнем участке вала, где представлялась возможность вскрыть достаточно значительную площадь. Раскопки, проведенные летом того же года на территории Киевского телевизионного центра (М.Подвальная ул., д.13), дали исключительно ценные результаты.
Общая площадь
раскопа на этом участке достигала 350 кв.м, причем на площади около 40 кв.м
раскопки были доведены до материка [П.А.Раппопорт.
Отчет…, стр. 2]. Раскопки показали, что на этом участке вал сохранился
на всю его ширину и на значительную высоту, до
На всех
участках, подвергшихся раскопкам до материка, под валом обнаружен культурный
слой толщиной от 0.35 до
На этом
горизонте были сооружены деревянные срубы, плотно забитые лёссом, составлявшие
конструктивную основу вала. Срубы были расположены вдоль трассы вала почти
вплотную один к другому, но не были соединены между собой. Между торцами бревен
соседних срубов имеются промежутки от 15 до
|
Рис. 50. План внутривальных клетей
Ярославова города. Раскопки |
Рис. 51. Деталь рубки клетей
Ярославова города. Раскопки |
Срубы представляют
собой в плане удлиненные прямоугольники разменом 19.2:6.7 м. Длинная сторона их
образует поперечное сечение деревянной конструкции вала. Осталось невыясненным,
были ли бревна длинных стенок срубов, расположенные поперек вала, сплошными или
составными. Никаких следов надставки во время раскопок не было обнаружено.
Употребление сплошных дубовых бревен длиной более
Каждый сруб
состоит из двенадцати клетей (по длине сруба расположены – шесть, по ширине –
две клети). В плане клети близки к квадрату со сторонами от 2.6 до
Лицевая
стенка срубов, как выяснено раскопками, в настоящее время имеет высоту до
Не может быть
сомнений в том, что первоначальная высота срубов была значительно большей. Так,
на восточном конце исследованного участка вала сохранился не срезанный при
планировке бугор, в котором было обнаружено продолжение вверх лицевой стенки
срубов еще на
Рис. 52.
Торцы бревен клетей Ярославова города (деталь). Раскопки
Сохранность деревянных конструкций, открытых раскопками, оказалась весьма различной. На отдельных участках дерево сохранилось настолько хорошо, что его удавалось извлекать из земли в виде довольно значительных отрезков бревен (рис. 52). В других местах остатки деревянных конструкций сохранились лишь в виде коричневой трухи или в виде едва заметных белесоватых полосок, похожих на слой плесени. Во всех случаях, где сохранность дерева позволяла определить его породу, специальной экспертизой было установлено, что в деревянных конструкциях применялся исключительно дуб.
В нижней
части лицевой стенки срубов, где остатки бревен сохранились плохо, удалось
проследить отпечатки этих бревен в плотной лёссовой забивке. При этом было
выяснено, что срубы были рублены из бревен толщиной от 0.20 до
Срубы в большинстве случаев имели почти строго вертикальные стенки и более или менее правильную прямоугольную в плане форму, хотя встречались стенки искривленные как в плане, так и в разрезе. Исследователи справедливо объясняли эти неправильности не только деформацией, вызванной давлением грунта и гниением дерева, но и недостаточно точной рубкой конструк[с. 257]ций в процессе ее изготовления [П.А.Раппопорт. Отчет…, стр. 5]. Справедливо отмечалось, кроме того что бревна укладывались одно на другое нередко без тщательной их притески.
Срубы были плотно забиты чистым материковым лёссом, в котором иногда встречались гумусированные прослойки. Эти прослойки, порой имевшие значительную толщину и почти черный цвет, в забивке соседних клетей срубов, хотя и не совпадали, как правило, между собой по высоте, но в то же время обычно разнились незна-чительно. Исследователи делали из этого наблюдения справедливый вывод о том, что все клети забивались грунтом одновременно [там же, стр. 6].
Перед лицевой стенкой срубов была сделана мощная земляная подсыпка, образовывавшая крутой передний склон вала. Эта подсыпка имеет в основании не горизонтальную, а слегка покатую наружу поверхность. Для предотвращения оползания переднего склона вала по откосу холма перед лицевой стенкой срубов, внизу была устроена дополнительная деревянная конструкция, обнаруженная раскопками лишь на незначительном участке, почему уяснить ее полностью не удалось.
Эта конструкция состоит также из дубовых клетей, расположенных в три ряда вдоль лшиш вала, имевших очень незначительную высоту – всего 4-5 венцов (рис. 53). В отличие от основных срубов, являвшихся костяком самого вала, как установлено раскопками, клети нижней конструкции представляли как бы решетчатый каркас. Бревна этих срубов находились на некотором расстоянии одно от другого, причем бревна, расположенные поперек вала, были уложены так, что нижнее бревно лежало соответственно уклону холма, а верхнее горизонтально. Кроме бревен, входивших в конструкцию нижних клетей, было найдено несколько бревен, лежавших в случайном положении посреди клетей иди рядом с их основными стенками. По-видимому, нижняя конструкция претерпела значительные деформации [с. 258] в результате оползания по склону холма. Этим же несомненно объясняется отсутствие передней стенки нижней конструкции [там же, стр. 7-8].
|
Рис. 53. План и разрез деревянной
конструкции перед лицевой стенкой срубов Ярославова города. Раскопки |
Рис. 54. Поперечный разрез вала
Ярославова города. Раскопки |
Исследование профиля современного холма, представляющего собой остатки вала, привело к выводу, что при позднейшей планировке местности верхняя часть вала была срыта и сброшена вниз, по-видимому, в основном в сторону Крещатицкого оврага. Под поздним насыпным слоем, образовавшимся в результате этих планировочных работ, удалось обнаружить более древний профиль переднего склона вала, однако также не первоначальный (рис. 54). Высказывалось правдоподобное предположение, что эта линия переднего склона вада в известной степени повторяет первоначальный профиль переднего склона вала, который в XIX в. был лишь несколько подрезан [там же, стр. 9].
Какова была
первоначальная высота вала? Ответить на этот вопрос при отсутствии точно
зафиксированного профиля можно лишь приблизительно. Если продолжить вверх ту
линию переднего склона вала, о которой была речь выше, до пересечения ее с
лицевой стенкой срубов, получается высота вала, равная почти
Для
реконструкции первоначального облика оборонительных сооружений Ярославова
города необходимо ответить на важнейший вопрос: являются ли обнаруженные
раскопками
“Нет никаких сомнений, – пишет П.А.Раппопорт, – что все обнаруженные в земле части деревянных срубов представляли собой внутреннюю конструкцию вала и не выходили на его поверхность. Лицевая стенка срубов также изначала была плотно засыпана лёссом и никогда не служила наружной оборонительной стеной” [П.А.Раппопорт. Отчет…. стр. 9].
Об этом прямо свидетельствует, по мнению исследователя,
“как хорошая сохранность дерева в верхних частях лицевой стенки, так и горизонтальность слоев засыпки, сделанной перед этой стенкой. Деревянные части, выходившие на поверхность вала, находились значительно выше и давно уже полностью исчезли” [там же].
Эту трактовку сохранившихся частей деревянной конструкции, обоснованную тщательными наблюдениями, сделанными в процессе археологического исследования памятника, мы считаем совершенно правильной. Тем большее удивление вызывает то, что в статье другого руководителя раскопок – В.А.Богусевича (написанной совместно с П.П.Ефименко), опубликованной вскоре после завершения раскопок, тот же вопрос нашел совершенно иное освещение.
“Следы пожара, заметные местами до сих пор в верхних частях срубов, – утверждают В.А.Богусевич и П.П.Ефименко, – могут служить некоторым доказательством того, что верхние части срубов не были засыпаны землей и служили камерами для размещения гарнизона и боеприпасов” [П.П.Єфіменко и В.А.Богусевич. Кріпость Ярослава Мудрого в Києві. – Вісник АН УРСР, 1952, № 12, стр. 41].
Едва ли можно сомневаться в том, что на земляных валах Ярославова города, как и на валах других древнерусских городов, возвышались в древности деревянные стены различных конструкций. К сожалению, от этих наземных деревянных конструкций до наших дней не сохранилось никаких остатков, что и затрудняет задачу их реконструкции. Попытку трактовать открытые в валу Ярославова города срубные конструкции как часть наземных деревянных сооружений, возведенных на валах, нельзя признать серьезной. Для такой интерпретации открытых раскопками внутривальных конструкций нет никаких оснований.
Важнейшим
результатом раскопок
Вследствие
разрушения верхних частей вала раскопками
Очень плохая сохранность дерева в задних клетях вала приводила исследователей к правдоподобному заключению о том, что здесь бревна были более, чем в лицевой части вала, доступны проникновению воздуха и влиянию атмосферных условий; это обстоятельство в свою очередь свидетельствовало о том, что, по-видимому, не все клети (внутри вала) имели одинаковую высоту и доходили до вершины вала; задние клети, по-видимому, были расположены уже под задним склоном вала и поэтому были значительно ниже но сравнению с передними [там же].
Несмотря на
то, что ряд важнейших вопросов реконструкции первоначального облика
оборонительных сооружений Ярославова города остается пока без ответа,
результаты раскопок
Важнейшей
частью оборонительной системы древнерусского города были надвратные башни.
Только одна из них, известная под именем Золотых ворот, сохранилась в
развалинах до наших дней. Никаких следов двух других башен Ярославова города
пока обнаружить не удалось [Фундаменты какого-то
круглого в плане сооружения, обнаруженные в
Княжеские и боярские дворы в Киеве
…Ты же жи в дому, повалуше исписав, а убогый нe имать къде главы подъклонити…
Слово о богатом и убогом.
1.
Древнейшие летописные известия
о дворах киевских князей
Киевские летописи и некоторые другие письменные источники сообщают немало сведений о многочисленных дворах князей и именитых бояр, расположенных в различных концах города и за его пределами. Из летописного повествования нередко удается достаточно отчетливо уяснить крупную роль, которую играли княжеские и боярские дворы в жизни древнего Киева.
Княж двор являлся одним из важнейших центров политической и административной жизни древнерусского города. Как известно, многие древнерусские города выросли вокруг более древних княжеских замков, другие были построены князьями, третьи, представлявшие некогда общинные поселения, были захвачены князьями в процессе феодализации. В любом из этих случаев княж двор был весьма существенным компонентом в сложении города, одним из важнейших центров его дальнейшего развития.
Особенно значительную политическую и административную роль княж двор играл в жизни тех городов, которые уже в IX-Х вв. выдвинулись в качестве крупных центров формирующегося Киевского государства. Среди них первое место принадлежало стольному городу древней Руси – Киеву.
Уже в
наиболее древних известиях об этом городе летописцы упоминают о существовании
там княжа двора. Наиболее целостная картина древнейшего Киева нарисована в
летописном рассказе, помещенном в Повести временных лет под
“И приста под Боричевом в лодъи. Бе бо тогда вода текущи въздоле горы Киевьскыя и на Подольи не сядяху людъе, но на горе; град же бе Киев, идеже есть ныне двор Гордятин и Никифоров, а двор княжь бяше в городе, идеже ныне двор Воротиславль и Чюдин, а перевесище бе вне града и бе вне града двор другый, идеже есть двор Демьстиков за святою Богородицею, над горою двор теремиый, бе бо ту терем камен” [Лавр. лет. 6453 (945) г.].
Текст этот читается в различных списках Повести временных лет не вполне тождественно. Так, в Ипатьевской летописи вместо слов “и бе вне града двор другый, идеже есть двор Демьстиков за святою Богородицею; над горою двор теремный, бе бо ту терем камен” читаем: “ [и бе вне города] двор теремный и другый, идеже есть двор демесников за святою Борогодицею над горой, бе бо ту терем камен” [Ипат. лет. 6453 (945) г. Слова в скобках читаются только в Хлебниковском и Погодинской списках].
Комментаторы этого летописного текста обычно делали предпочтение Лаврентьевскому списку Повести временных лет [Л.И.Лейбович. Сводная летопись, составленная по всем изданным спискам летописи, выл. I. Повесть временных лет. СПб., 1876, стр. 48; А.А.Шахматов. Повесть временных лет, т. I. Вводная часть. Текст. Примечания. Пгр., 1916, стр. 62-63; Повесть временных лет, ч. I. Текст и перевод. М.-Л., 1950, стр. 237]. По этому чтению получается, что в Киеве в середине Х в. были три княжеских двора – один в городе, второй – вне города, за церковью Богородицы, и третий (теремной) над горой.
Мы полагаем, что текст Ипатьевской летописи точнее передает первоначальный текст Повести временных лет, хотя он также не вполне исправен. На наш взгляд, наиболее точно первоначальный текст сохранился в Хлебниковском и Погодинском списках Ипатьевской летописи, где читаем: “…и бе вне города двор теремный другый, идеже есть двор демесников за святою Богородицею над горою, бе бо ту терем камен” [Ипат. лет. 6453 (945) г.]. При этом чтении второй княжеский двор, находившийся за церковью Богородицы, оказывается в действительности теремным двором над горою.
Из летописного повествования под тем же годом мы узнаем, что на “дворе теремьстемь, вне града” по приказанию Ольги была “ископана яма велика и глубока”, предназначенная для кичливых древлянских послов [там же].
Этот же теремный двор вновь упомянут в рассказе о вокняжении в Киеве Владимира Святославича, о котором сказано: “…въшед в двор теремный отень, о нем же преже сказахом” [Лавр. лет. 6488 (980) г.].
Из
летописного рассказа о кумирах, поставленных Владимиром в
Своеобразный облик Киева середины Х в. был воссоздан киевским летописцем конца XI в. по рассказам старожилов, народным преданиям и некоторым историческим памятникам прошлого, сохранившимся еще в ту пору на площадях и улицах города. Благодаря многочисленным топографическим ссылкам на существующие постройки и участки города (церкви, дворы знати) описание древнего города несомненно было понятно во всех деталях для современников летописца.
Однако историки XVIII-XIX вв., обратившиеся к летописному тексту как к единственному в ту пору источнику для реконструкции облика древнейшего Киева, оказались в весьма затруднительном положении. Где находились известные всем киевлянам конца XI в. дворы Гордятин и Никифоров, Воротиславль и Чюдин, ссылкой на которые летописец определял местоположение города, княжа двора, теремного двора времен Игоря, Ольги и Владимира? Где находился Перунов холм “вне двора теремного”, на котором взамен повергнутых идолов позже была поставлена деревянная церковь Василия?
По всем этим вопросам было высказано немало различных предположений и догадок, порой совершенно фантастических. Еще М.Ф.Берлинский пытался разместить на плане современного города упомянутые в летописи княжеские дворы.
“Ежели самую середину древнего города Киева, – писал он, – можно принять за место княжеского дворца, то оный отделялся рынком от Десятинной церкви в правую ее сторону, где перед дворцом возвышался Перунов кумир, а после церковь св. Василия. На сем пространстве в земле множество везде кирпичного щебня, а церкви никакой по летописи не определяется. И по самой пристойности следовало быть княжеским палатам в смежности с образцовой или государственною Десятинною церковью” [М.Ф.Берлинский. Краткое описание Киева. СПб., 1820, стр. 141].
Комментируя летописные известия о теремном дворе, М.Ф.Берлинский полагал, что
“ежели передняя сторона Десятинной церкви со входу разумеется юго-западная, то за святою Богородицею (Десятинною) должно быть место терема вышесказанное к северо-востоку, а двор теремной простирается по краю утеса до церкви Трехсвятительской” [там же, стр. 139-140].
М.А.Максимович также размещал теремной двор с каменным теремом на “обращенной к Днепру стороне первоначального города”, между Трехсвятительской и Андреевской церквами [М.А.Максимович. Обозрение старого Киева. Собр. соч., II, Киев, 1877, стр. 97; ср.: Обозрение Киева в отношении к древностям, изд. Фундуклеем. Киев, 1847, стр. 2 и прим. 2].
В.Б.Антонович полагал, что княжеский терем был расположен вблизи Десятинной церкви, от которой отделялся небольшой площадью, так называемым Бабиным торжком. Местоположение княжеского терема Антонович уточнял в пределах территории между Владимирской ул. и Трехсвятительской [с. 265] церковью, где в XIX в. находились усадьбы Трубецкого (бывш. Климовича), Агеева и Кривцова.
По словам
Антоновича, в этих усадьбах сохранились остатки фундаментов громадного здания
характерной древней кладки, хоти значительная часть их была разрушена в разное
время при постройке новых зданий в усадьбах Климовича (
Н.И.Петров, считая, что приведенный выше летописный рассказ свидетельствует о существовании двух теремов вне города, полагал, что один из них находился за Десятинной церковью, над горой, а второй был рядом с Перуновым холмом, возле нынешней Андреевской церкви, с южной ее стороны. Рядом с ним и к югу от него, по мнению Петрова, был расположен княж двор [Н.И.Петров. Историко-топографические очерки древнего Киева. – Киев, 1897, стр. 107-108].
Уточненное определение территории древнейших княжеских дворов в Киеве на основе интерпретации кратких летописных известий о них мы считаем задачей невыполнимой. Но необходимо подчеркнуть, что и археологические поиски княжих дворов сталкиваются с весьма существенными трудностями. Необходимо учитывать прежде всего, что территория княжеских дворов в Киеве не была в IX-XIII вв. постоянной, что явствует даже из сопоставления разновременных письменных источников, случайно сообщающих о тех или иных событиях, связанных с этими дворами. Необходимо помнить также, что княж двор представлял собой чрезвычайно сложный комплекс, состоявший отнюдь не только из дворцовых построек. Жилые и хозяйственные постройки княжого двора едва ли существенно отличались от других жилых и хозяйственных построек в городе.
Наиболее бесспорными вехами в археологических поисках остатков княжих дворов являются несомненно собственно дворцовые деревянные и каменные постройки. Необходимо, однако, заметить, что открытые археологическими раскопками руины нескольких дворцовых построек не подтвердили изложен[с. 266]ных выше историко-топографических гипотез, опиравшихся преимущественно ва письменные свидетельства и на неверно истолкованные археологические находки.
Чрезмерная лаконичность приведенных летописных известий о княжеских дворах древнейшего Киева лишает возможности ответить на основной вопрос, вызванный этими же известиями, – чем было обусловлено наличие в эту пору в Киеве двух княжеских дворов, один из которых к тому же находился “вне града”, т.е. за пределами городских укреплений. При этом нельзя не обратить внимания на малопонятное обстоятельство, что все события, связанные с жизнью княжого двора в середине и второй половине Х в., развертываются именно на теремном дворе “вне града”, а не на княжом дворе в городе. Там происходят такие государственной важности события, как торжественный, хотя и плохо кончившийся прием древлянских послов, как вокняжение князя Владимира Святославича, прием последним князя Ярополка. Именно этот двор летописец в рассказе о вокняжении Владимира назвал “отним” (“въшед в двор теремный отень, о нем же преже сказахом”).
В самом конце Х в. на княжом дворе впервые упомянуто нового типа дворцовое здание – гридница, предназначенное для больших собраний – пиров, в которых разрешалось участие “боляром и гридем, и съцьокым, и десяцьокым, и нарочитым мужем при князи и без князя” [Лавр. лет. 6506 (996) г.].
Из летописного рассказа неясно, на каком из княжих дворов была выстроена гридница. Возможно, что к концу Х в. в новом Владимировом городе оба старых княжеских двора уже слились в один, заняв весьма значительную территорию в городе.
Самый характер гридницы, постройки, предназначенной для многолюдных собраний – пиров княжеской дружины и “нарочитых мужей”, несомненно отражал дух уходящей уже в эту пору патриархальной старины и военной демократии [История культуры древней Руси, I. М.-Л., 1948, стр. 221-222].
2. Киевские княжеские дворы XI – XII вв.
Совсем иные события разворачиваются на княжих дворах в Киеве во второй половине XI-XII вв. Иной облик приобретают в эту пору и самые дворы.
В XI в. княж
двор упоминается в летописи всего два раза, в связи с крупными событиями
политической жизни Киева. Из летописного повествования о киевском восстании
Весьма интересно описание дворца на княжом дворе, к которому рвались разъяренные киевляне.
“Изяславу же седящу на сепех с дружиною своею, [с. 267] начаша претися со князем, стояще доле, киязю же из оконпя зрящу и дружине стоящю у князя” [Лавр. лет. 6576 (1068) г.].
После бегства Изяслава княж двор был разграблен. Восставшие киевляне нашли там “бещисленое множьство злата и сребра и кунами и белью” [там же]. “Среде двора княжа” был поставлен на киевское княжение освобожденный из поруба князь Всеслав Полоцкий [там же].
Княж двор
упоминается еще раз в самом конце XI в. В
Сени как одна
из главных частей дворцового ансамбля часто упоминаются в летописном
повествовании о различных событиях политической жизни на княжом дворе в Киеве.
Так, в
В середине XII в. появляется новое наименование княжа двора – “Ярославль двор”, иногда с эпитетом “великий”.
Впервые это
название встречается в летописном повествовании о бурных событиях
В
Вячеслав, успевший занять Ярославль двор еще до прибытия Изяслава, находился в это время во дворце. Вот как описывает его летописец:
“В то же время Вячеслав седяше на сеньници и мнози начаша молвити князю Изяславу: княже ими и дружину его изъемли (на Ярославле дворе находилась и Вячеславова дружина, -М.К.); друзие же молвяхуть ать посечем под ним сени” [там же].
Этот рассказ
близко напоминает приведенное выше летописное повествование под
Несколько
далее, под тем же
В том же
“от святое Софии поеха и с братьею Еа Ярославль двор и угры (своих союзников венгров, – М.К.) позва со собою на обед и кияны и ту обедав с ними на велицем дворе на Ярославли и пребыша у велице весельи” [там же].
О размерах Великого Ярославова двора свидетельствуют дальнейшие празднества, которые развернулись на нем после торжественного обеда.
“Тогда же угре на фарех и скоках играхуть на Ярославлю дворе многое множество. Кияне же дивяхуся угром множеству и кметьства их и комонем их” [Ипат. лет. 6659 (1151) г.].
Чтобы превратиться в ипподром, княж двор, конечно, должен был располагать значительной незастроенной дворцовыми и хозяйственными постройками площадью.
В летописном
рассказе об установлении в Киеве в
В
В последний
раз Великий (Ярославов) двор упоминается в Киевской летописи в
Сохранившуюся
почти до наших дней церковь Василия (более известную под поздним названием
Трехсвятительской) можно считать важнейшей опорной вехой в топографической
локализации Великого Ярославого двора, решительно отбросив имевшие место
попытки рассматривать сохранившуюся церковь как храм Василия, выстроенный в
Итак, с 1146
по
Так,
М.А.Максимович, говоря о постройке нового Ярославова города утверждал, что “с
той поры здесь уже был и главный княжий двор, называвшийся в XII в. двором
Ярославлим и находившийся где-нибудь возле Софийской церкви” [М.А.Максимович, ук. соч., стр. 107-108]. Что
княжеский терем, иди великий Ярославов двор, был размещен Ярославом вблизи
Софии, убежден был также Максютин, автор одного из наиболее ранних обзоров
истории древнерусского зодчества [П.С.Максютин.
Очерк истории зодчества в России (в книге: Мартынов. Русская старина. М.,
1846-1860, тетр. 13, стр. XVI)]. А.В.Прахов утверждал, что усадьба
М.Есикорского, где в
Нередко местоположение дворца Ярослава предполагали в непосредственной близости к Софийскому собору. Так, мысль о том, что башни Киевской Софии составляли некогда часть княжеских дворцовых переходов, высказывалась [с. 270] В.Прохоровым [В.П[рохоров]. Киев. Археологический обзор а) киевских древностей и в) древностей, бывших нa Археологическом съезде в Киеве. – Христианские древности, СПб., 1875, стр. 6-7], И.Е.Забелиным [И.Е.Забелин. Домашний быт русских царей в XVI-XVII ст., I. – М., 1895 (3-е изд.), стр. 148], К.Шероцким [К.Шероцкий. Очерки по истории декоративного искусства Украины, I. Художественное убранство в прошлом и настоящем. – Киев, 1914, стр. 2, прим. 6] и др. Вслед за ними Н.П.Кондаков в одной из своих последних работ утверждал, что
“лестницы, ведущие на хоры собора, на которых обычно слушали службу князья, должны были сообщаться непосредственными ходами с княжеским дворцом, который, будучи из дерева, совершенно исчез” [Н.П.Кондаков. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. – Прага, 1929, стр. 214].
Нашими раскопками на территории Софийского заповедника в 1946, 1948, 1950 и 1952 гг. было бесспорно установлено отсутствие каких-либо признаков крупных дворцового типа построек вблизи собора.
Большинство
старых исследователей исторической топографии Киева правильно размещали Большой
Ярославов двор в пределах Владимирова города, нередко пытаясь даже уточнить его
локализацию. Так, М.Ф.Берлинский полагал, что Ярославль двор находился к
юго-востоку от Десятинной церкви [М.Ф.Берлинский.
Краткое описание Киева, стр. 66]. Н.Закревский, размещая Ярославов двор
в Андреевском отделении Старого города, вблизи церкви Василия, выстроенной
Святославом в
Н.И.Петров
считал, что Ярослав построил свой княжеский двор, называемый то “Ярославовым”,
то “Великим”, на месте двора первых киевских князей. Местоположение его Петров
определял, опираясь на летописное известие
Заслуживает особого внимания вопрос, почему же старый княжеский двор, существовавший в Киеве с древнейшей норы, в середине XII в. получил иовое наименование, да к тому же связанное с именем князя, который сидел [с. 271] в нем почти за сто лет до этого. Необходимо подчеркнуть, что в летописных известиях второй половины XI в., относящихся ко времени, когда на княжом столе сидели сыновья и внуки Ярослава, княж двор в Киеве ни разу не назван “Ярославовым”.
Надо полагать, что в ту пору, когда значение киевских князей в политической жизни Киева сильно упало, когда князья, занимая киевский стол, были обязаны не только считаться с млением киевского веча, но и порой именно от него получать княжение, когда киевский стол стал переходить из рук в руки в результате междоусобной борьбы различных обособившихся княжеских династий, – прививающееся наименование княжеского двора в Киеве “Ярославовым” имело несомненно политическую роль, способствуя некоторому поднятию упавшего авторитета киевских князей как в их собственных глазах, так и в глазах киевского городского населения, упорно боровшегося в эту пору за расширение своих политических прав и привилегий. Только этим, по-видимому, можно объяснить тот загадочный, на первый взгляд, факт, что княжеский двор в Киеве, не называвшийся Яросдавовым ни при сыновьях, ни при внуках Ярослава, приобрел это наименование в 40-х годах XII в.
В 90-х годах XII в. Киевская летопись дважды упоминает о существовании еще одного княжеского двора в Киеве, который в отличие от Ярославова Великого двора называется “Новым”.
В
В
Непонятен и общий характер этого двора. Считать его фамильным двором Ольговичей, как это делал Д.Иловайский [Д.И.Иловайский, ук. соч., стр. 239], мешает то обстоятельство, что церковь Василия на этом дворе строит Рюрик Ростиславич, отнюдь не связанный с Ольговичами.
Н.Закревский
полагал, что Новый двор, упоминаемый в летописи под 1194 и 1198 гг., возник
“вместо древнего Ярославова дворца около сего времени, на [с. 272] прежнем
месте, возле церкви Василия на Старом городе” [Н.Закревский,
ук. соч., стр. 840]. Недалек от этой мысли был и Н.И.Петров,
утверждавший, что Святослав Всеволодович, заняв великий Ярославов двор
созданной им церковью Василия, “поставил где-либо по соседству с нею новый
двор, названный так в отличие от соседнего старого” [Н.И.Петров.
Историко-топографические очерки…, стр. 127]. Исходя из этого положения,
Н.И.Петров считал, что как новый двор, так и Васильевскую церковь на нем нужно
искать к западу от существующей церкви Василия (Трехсвятительской), где, по его
мнению, “находимы были соответствующие им развалины и остатки древних зданий и
церквей” [там же]. Н.И.Петров полагал, что
остатком храма Василия на Новом дворе являются либо развалины древней
постройки, открытые раскопками
Наряду с основным княжеским двором в городе, являвшимся официальной резиденцией князей, сидевших на киевском столе, с начала XI в. и вплоть до середины XII в. в летописных повествованиях о различных событиях киевской политической жизни и в некоторых других письменных источниках той поры встречаются упоминания о существовании еще одного княжеского двора, служащего также в качестве официальной резиденции киевских князей. Этот княж двор находился недалеко от Киева, в княжеском селе Берестове.
Впервые
Берестово в качестве княжеской резиденции упоминается в Повести временных лет
под
Нельзя не подчеркнуть, что Владимир умер в период подготовки похода на Новгород, после того, как сын его Ярослав, сидевший на новгородском стопе, отказался выплачивать установленные 2000 гривен. Пребывание князя в это напряженное время в Берестове свидетельствует о том, что Берестовский двор в эту пору отнюдь не был местом для “загородного отдыха” князя, как изображали этот двор некоторые исследователи, вспоминая летописное известие о двухстах наложницах, которых князь имел в Берестове [Лавр. лет. 6488 (980) г.].
Ярослав, по словам летописца, “любящю Берестовое и церковь ту сущюю святых Апостол” [Лавр. лет. 6559 (1051) г.]. В этой дворцовой церкви, выстроенной либо самим Ярославом, [с. 273] либо еще Владимиром, начал свою церковно-политичсскую деятельность в качестве пресвитера знаменитый Иларион, ставший впоследствии по инициатива Ярослава киевским митрополитом [Лавр. лет. 6559 (1051) г.]. По-видимому, именно здесь, на Берестове. в любимой княжеской резиденции, и сложилась та близкая связь Ярослава и Илариона, которая проявилась позже в их политической деятельности, направленной на укрепление Киевского государства.
Особое
значение приобретает Берестовский княж двор при Ярославичах. 22 марта
В
Выше, говоря
о Великом Ярославовом дворе, мы уже приводили текст Киевской летописи под
Попытка уточнить местоположение княжа двора под Угорским, в районе существовавшего до недавнего времени Пустынно-Никольского монастыря [Н.И.Петров. Киев, его святыни и памятники. – СПб., 1896, стр. 55], лишена каких-либо оснований. [с. 274]
Что
представлял собой княж двор под Угорским, сказать трудно, известия о нем
слишком эпизодичны. Необходимо, однако, напомнить о существовании каких-то
Угорских ворот, которые в летописном тексте под
3. Княжеские дворы – вотчины отдельных княжеских фамилий
Наряду с официальной княжеской резиденцией, в качестве каковой служил с древнейшей поры и вплоть до монгольского разгрома княж двор в старом Владимировом городе, с середины XII в. обычно называвшийся Ярославовым двором, и княжеским двором на Берестове, каковой выступает, как показано выше, с несколько своеобразными функциями “резервного дворца”, в Киеве уже с XI в. известен целый ряд других дворов, либо принадлежавших различным князьям, не занимавшим в данное время киевский стол, либо являвшимися как бы частными вотчинами тех или иных княжеских фамилий.
К югу от
Киева, на Выдубицком холме, находился Красный двор Всеволода Ярославича. В
М.Ф.Берлинский пытался точно локализовать местоположение Красного двора Всеволода, утверждая, что “по всем следам и положению холма видно, что сей дворец существовал над Днепром по левую, или северную, сторону самого монастыря” [М.Ф.Берлинский, ук. соч., стр. 172-173]. “Должно думать, – писал тот же автор, – что дворец был деревянный, ибо, кроме следов жилых мест, никаких там каменных следов неприметно” [там же]. А.Писарев, писавший, по-видимому, со слов Берлинского, утверждал, однако, что “жилые следы” Красного двора остались “на возвышенном холме по правую [I ] сторону Выдубицкого монастыря” [А.Писарев. Историческая выписка о дворцах княжеских в Киеве бывших, о которых в летописях упоминается. – ЗТОИДР, ч. II, М., 1824, стр. 159]. [с. 275]
К числу
княжеских дворов иногда причисляют и упомянутый в летописном рассказе о
событиях
О таком же дворе
упоминается в летописи в связи с событиями
В Ипатьевской
летописи подробности этих грозных событий
Путь, по которому влачили полуживого Игоря с Мстиславля двора, через Бабин торжок на княж (Ярославль) двор, столь обстоятельно описанный киевским летописцем, вызывал у многих исследователей исторической топографии Киева желание точно разместить на плане древнего Киева все эти три урочища, учитывая к тому же и близкое соседство Федоровского Вотча монастыря, выстроенного Мстиславом. Не может быть сомнений в том, что описанные летописцами события развертывались внутри Владимирова города, но вес попытки уточнить местоположение упомянутых урочищ не шли далее весьма условных гипотетических построений, ибо даже местоположение Федоровского монастыря, руины которого стояли еще в XYII в., установить точно пока не удается.
Какой-то
княжеский двор существовал на Острове, напротив Выдубицкого монастыря. Здесь в
Повествуя о
событиях борьбы кн. Изяслава с Володимирком Галицким
Князь Юрий Долгорукий, многие годы боровшийся за киевский стол и трижды сидевший на нем, также имел в Киеве свой “Красный двор”. Впервые мы узнаем о нем из летописного рассказа о бегстве сына Юрия – Бориса – из Вышгорода, занятого Изяславом, к своему отцу, который в то время “бяше на Красном дворе” [Ипат. лет. 6658 (1150) г.].
После смерти
Юрия в
Разновременные находки древних строительных материалов на горе Киселевке давали повод предполагать здесь также наличие в древности “загородных дворов” [там же, стр. 190-191].
На княжих
дворах, кроме парадных приемных помещений и жилых хором, размещалось немало
служебных и хозяйственных построек. Письменные источники упоминают “погреба”,
“медуши”, “бретьяницы”, “скотницы”, “бани” [В.Ф.Ржига.
Очерки из истории быта домонгольской Руси. – Труды ГИАИ, вып.
В древнейших
летописных известиях погреба упоминаются преимущественно в качестве
темницы-тюрьмы. Так, в “порубе” на Брячиславле дворе (по-видимому, двор
полоцкого князя Брячислава) сидел захваченный обманом в
В Ипатьевской летописи под 6654 (1146) г. сохранились замечательные описания двух княжих дворов Ольговичей, разгромленных киевским князем Изяславом Мстиславичем. О первом из них – Игоревом сельце, представлявшем собой усадьбу Игоря Ольговича, летописец рассказывал:
“Идоста на Игорево сельце, идеже бяше устроил двор добре; бе же ту готовизны много, в бретьяницах и в погребех вина и медове, и что тяжкого товара всякого, до железа и до меди, не тягли бяхуть от множества всего того вывозити. Давидовича же повелеста имати на возы собе и воем, и потом повелеста зажечи двор и церковь святаго Георгия, и гумно его, в нем же бе стогов 9 сот” [Ипат. лет. 6654 (1146) г.].
В том же году вслед за взятием Путивля подвергся разгрому богатый двор князя Святослава Ольговича. По словам летописца,
“и ту двор Святославль раздели (Изяслав Мстиславич) на 4 части, и скотьнице, бретьянице, и товар, иже бе не мочно двигнути, и в погребех было 500 берковьсков меду, а вина 80 корчаг и церковь святого Възнесения всю облупиша” [там же].
“Медуша” –
погреб для хранения вареного меда в Игореве сельце – заставляет вспомнить более
ранний летописный рассказ о белгородском киселе: “…и поведе искати меду, они же
шедше взяша меду лукно, бе бо погребено в княжи медуши” [Лавр. лет. 6505 (
“Медуша” упомянута и в летописном повествовании об убийстве Андрея Боголюбского (“шедше в медушю и пиша вино”) [Ипат. лет. 6682 (1174) г.].
Слово “бретьяница” И.Е.Забелин считал названием погреба с бортевым медом [И.Е.Забелин, ук. соч., стр. 23]. И.И.Срезневский полагал, что оно означает вообще амбар или кладовую [И.И.Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, I, стр. 178].
На дворе Святослава Ольговича упомянута, кроме погребов и “бретьяницы”, еще “скотьница”. По объяснению И.И.Срезневского так называлось казнохранилище, а но мнению И.Е.Забелина – кладовая со всякой казной [В.Ф.Ржига, ук. соч., стр. 17]. О существовании “скотницы” уже в древнейшее время на дворе киевских князей известно из летописного рассказа о широком гостеприимстве князя Владимира Святосдавича: “Повеле вьсяку ншцю и убогу приходити на двор къняжь и възимати вьсяку потребу, питие и ядение, и от скотъниц кунами” [Лавр. лет. 6504 (996) г.].
Нельзя не обратить внимания на изобилие разнообразных запасов, в том числе и “тяжкого товара всякого, до железа и меди”, хранившихся на княжом дворе, который по своему значению, конечно, не идет ни в какое сравнение с великим двором киевских князей. [с. 278]
Из ряда
приведенных выше летописных рассказов можно заключить, что княжеский двор в
Киеве был весьма обширен. Несмотря на то, что на дворе находились
многочисленные разнообразные постройки, вплоть до каменной церкви, выстроенной
в
4. Боярские дворы в Киеве
Наряду с княжескими дворами, игравшими огромную роль в политической жизни Киева, в XI-XIII вв. в городе приобретают большое значение многочисленные дворы бояр, дружинников и других представителей феодальной анати.
Развитие городской жизни, по наблюдению М.Н.Тихомирова, к которому иельзя не присоединиться, “привело к созданию боярства, связанного не только с вотчинами в деревнях, но и с городом” [М.Н.Тихомиров. Древнерусские города. 2-е изд., М., 1956, стр. 161]. Действительно, если присмотреться к политической жизни крупнейших древнерусских городов в XI-XII вв., достаточно ярко отразившейся в летописях и некоторых других литературных памятниках этой эпохи, то нельзя не заметить значительной роли, которую приобретают в эту пору представители различных боярских фамилий, прочно связавших свою жизнь и деятельность с тем или иным городом. Изучение истории отдельных боярских родов привело М.Н.Тихомирова к неоспоримому выводу об “оседании боярских фамилий в ряде городов, иными словами, о появлении городского патрициата” [там же].
В полной мере это относится и к Киеву. В положении старой княжеской дружины произошли коренные изменения. Значительная часть княжеской дружины, связанная когда-то больше с князем, с княжим двором, чем с тем или иным городом, переходящая вместе с князем из города в город, теперь прочно оседает на землю, превращаясь в класс бояр феодалов.
Рост местной феодальной знати в Киеве наглядно отражается в увеличении боярских дворов в самом городе, не говоря уже о сельских боярских вотчинах. Летописец не раз в различных контекстах упоминает о многочисленных дворах киевской знати, то пытаясь с помощью этих, по-видимому, всем киевлянам хорошо известных участков города, определять местоположение других более древних урочищ Киева, то рассказывая о гневе народных масс, обрушивающемся на эти дворы.
Уже на первых
страницах летописи упоминается Олмин двор – на горе в Угорьском, существовавший
во времена летописца на том месте, где в
К числу
наиболее древних упоминаний о боярских владениях в Киеве можно отнести,
по-видимому, и наименование “Боричев взвоз”, приводимое летописцем в
повествовании о древнейшем городе. Не раз высказывалась мысль, что наименование
это происходит от имени Борича, упомянутого летописцем в числе послов князя
Игоря, участвовавших в заключении договора с греками в
В летописном
рассказе под
Под
Никифор, двор
которого находился рядом с Гордятиным двором, также принимал участие в вышгородском
совещании
В летописном
рассказе о киевском восставая
Летописный рассказ о ходе восстания позволяет установить, что двор Коснячка находился в новом Ярославовом городе. Поднявшись с Подола да Гору и -не найдя Коснячка на его дворе, возбужденные горожане остановились у двора Брячиславля, решив освободить свою дружину из погреба. “И разделишася надвое, – читаем далее, – половина их иде к погребу, а половина их иде по мосту; си же придоша на княжь двор” [Лавр. лет. 6578 (1068) г.]. Выше установлено, что княж двор в XI-XII вв., как и ранее, находился в старом Владимировом городе. Мост, упомянутый в летописном рассказе, вел через овраг, отделявший город Владимира от Яросдавова города.
В XII в. упоминания о боярских дворах в Киеве в связи с различными событиями в политической жизни города значительно более часты.
Во время
киевского восстания
Перечисленные
факты из биографии Путяты Вышатича свидетельствуют о его службе у Святополка по
крайней мере в течение пятнадцати лет. Недаром [с. 281] восстание, направленное
против Святополка, обрушилось в первую очередь на двор Путяты, запимавшого в
это время должность тысяпкого. При Владимире Мономахе, сменившем Святополка на
киевском столе после восстания в
Вс.Миллер отождествлял летописного Путяту с былинным Путятиным Путятовичем в былине о Даниле Ловчанине, а былинную Забаву Путятишну считал его дочерью [Вс.Миллер. Очерки русской народной словесности, т. II. М., 1910, стр. 28 сл.]. М.Н.Тихомиров полагал, что память о Путятином дворе, быть может, сохранилась в известной былине о Соловье Будимировиче и Забаве Путятишне [М.Н.Тихомиров. Древнерусские города, стр. 226].
Под
В рассказе о
том, как киевляне с веча, происходившего в
Из
летописного рассказа о расстановке войск, оборонявших Киев в
Дворы знатных
людей известны не только на Горе – в летописном рассказе о нападении половцев в
Случайный, отрывочный характер всех приведенных выше упоминаний о боярских дворах в Киеве не позволяет, конечно, восстановить даже в самых общих чертах архитектурно-планировочный облик этих дворов. Едва ли, однако, могут быть сомнения в том, что в большинстве случаев речь идет о больших, огороженных высокими заборами и потому достаточно сильно укрепленных внутригородских территориях, по отношению к которым невольно возникает несвойственный русской древности термин “замок”.
Б.Д.Греков обратил внимание на текст одной из статей древнейшей Правды, который начинается словами: “Или холоп ударить свободна мужа, а бежить в хором”. Этот же термин употреблен и в двух списках Пространной Правды (начало XII в.), где есть статья, трактующая о том случае, если хозяин разыщет своего холопа в чьем-либо городе или “в хороме”. Что это за “хоромы”, где может найти себе убежище холоп, хоромы, которые сопоставляются с городом, т.е. с укрепленным пунктом, причем Правда допускает случай, когда хозяин этих “хором” не захочет выдать холопа? Б.Д.Греков считает, что “хоромы” – тоже укрепленное место, только, очевидно, поменьше города, принадлежащее определенному владельцу [Б.Д.Греков. Борьба Руси аа создание своего государства. – М.-Л., 1945, стр. 41- 42].
“Может быть, – пишет on, – некоторые “хоромы”, т.е. укрепленные места – дворы, находились и в черте городских укреплений. Делается понятным и сопоставление “хором” огородом и возможность в “хоромах” защищаться” [там же].
“Мужи” древнейшей Правды, по мнению Б.Д.Грекова, это – “владельцы укрепленных “хором”, где живут они сами, окруженные своей челядью, обязанной их кормить, обувать, одевать, а в случае необходимости и защищать”. “Что это, – заключает он, – как не двор средневекового рыцаря, сидящего в своем фамильном вооруженном гнезде-замке?” [там же].
О
расточительной роскоши боярских теремов, о богатых запасах, хранившихся на боярских
дворах, в письменных источниках проскальзывают лишь случайные реплики. Галицкий
князь Даниил, заняв в
В “Слове о богатом и убогом”, сохранившемся в одном сборнике поучений XII в., проповедник образно рисует нам жизнь богатого горожанина, проводящего свои дни в роскоши и излишествах, противопоставляя ей тяжелую долю бедняка:
“Ты же яси тетеря, гуси, ряби, куры, голуби и прочее брашьно раз-личьно, а убогый хлеба не имать, чим чрево насытити; ты же облачишися и хо[с. 283]диши в паволоце и в кунах, а убогый руба не имать на телеси; ты же жи в дому, повалуше испьсав, а убогый не имать, къде главы подъклонити. Нъ и ты богаты умреши и остаеть дом твой, присно обличая твоя деяния. Къждо от мимоходящих глаголеть: сь домового есть хыщьника… сь сироты облупи… осе двор его тъщь; не рьци ми, яко болярин есмь ли посадник, аз волости не веде ли, аз волости не хулю нъ хулю строящих доброе зъде” [И.И.Срезневский. Древние памятники русского письма и языка. – СПб. 1863, стр. 203]. [с. 284]
Жилища горожан XI – ХІІІ вв.
Сидяшту ти в зиму в тепле храмиие и без боязии изнажившуся: въздъхни помыслив о убогых, како клянять над малым огньцемь съкърчивъшеся больну же беду очима от дыма имоуште, руце же тъкмо съгревеюще, плешти же и всьсе тело морозъмь измьръже.
Стословец
Геннадия.
1.
Раскопки массовых городских жилищ
в Киеве
Археологическими раскопками, широко развернувшимися в Киеве уже с 20-х годов XIX в., вплоть до начала нашего века не было обнаружено ни одного рядового жилища горожан. Не следует удивляться этому. Раскопки жилищ, требующие особенно совершенной, разработанной методики археологического исследования, были недоступны археологам-дилетантам, в руках которых в основном находилось тогда дело археологического изучения древнего Киева. Не может быть сомнения в том, что под лопатой землекопов, за работой которых не было организовано сколько-нибудь серьезного научного наблюдения, в раскопках Лохвицкого, Турчаниновой, Анненкова, Ставровского, Хойновского и других погибло немало древних жилищ, оставшихся незамеченными.
Раскопки В. В. Хвойки
Первые очень яркие, хотя и далеко не удовлетворяющие современного исследователя данные о характере массовых городских жилищ древних киевлян были получены в результате раскопок 1907-1908 гг., проведенных В.В.Хвойкой на знаменитой впоследствии усадьбе доктора М.М.Петровского, расположенной в самом центре древнейшего города. К сожалению, отчетная документация этих раскопок не была опубликована самим исследователем, ограничившимся лишь краткой информацией общего характера о результатах раскопок, [с. 285] не сопровождавшейся к тому же какими-либо иллюстрациями [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена (по раскопкам). – Киев, 1913]. Опубликованные несколько позже Л.Нидерле [L.Niederle. 1) Slovanské starožitnosti. Oddil kulturni, život starých slovanů, Dilu I, svazek 2. – Praha, 1913, табл. XLIII и LIV, рис. 133 и 134; 2) Manuel d’antiquite slave, II. La civilisation. – Paris, 1926, рис. 35, 42-44] графические материалы В.В.Хвойки представляют дилетантские рисунки, в которых к тому же небрежная фиксация памятников в процессе раскрытия нередко причудливо переплетается с довольно рискованными реконструкциями автора (рис. 55). Рисунки эти вызывают у исследователя неразрешимые вопросы и сомнения.
Рис. 55. Рисунки киевских жилищ, раскопанных В.Хвойкой. [с. 287]
Несколько лет тому назад в различных частных собраниях в Киеве удалось обнаружить выписки из дневников В.В.Хвойки, касающиеся раскопок в усадьбе Петровского, и фотографии с его рисунков, часть которых была опубликована Л.Нидерле. К сожалению, и эти материалы весьма незначительно дополняют документацию процесса раскопок, оставляя без объяснения многие важнейшие вопросы.
Не внесли
ясности и выписки А.А.Спицына из дневника раскопок В.В.Хвойки, опубликованные
недавно с комментариями Г.Ф.Корзухиной [Г.Ф.Корзухина.
Новые данные о раскопках В.В.Хвойки на усадьбе Петровского в Киеве, с
приложением “Выписки А.А.Спипына из дневника раскопок В.В.Хвойко на усадьбе
Петровского в
Раскопками 1907-1908 гг. в усадьбе Петровского наряду с открытием развалин каменных зданий дворцового характера было обнаружено, по-видимому, довольно значительное количество рядовых жилищ XI-XIII вв. Большая часть их была раскопана не полностью, а лишь в той мере, в какой они попадали в небольшие по площади раскопы. Исследователь оставил лишь общую, суммарную характеристику их, не дав развернутого описания отдельных построек. Характеризуя славянские жилища Среднего Поднепровья вообще, В.В.Хвойка писал о них:
“Остатки жилищ и сооружений другого рода свидетельствуют о том, что постройки языческого периода славянской эпохи соору[с. 286]жались из дерева, причем большая часть стен этих построек, а также и самые помещения находились в глубоко выкопанном в материковой земле четырехугольном углублении; остальная же часть стен с покоившейся на них крышей возвышалась над поверхностью земли” [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья…, стр. 51].
Этот тип полуземляночных жилищ, открытых в значительном количестве на различных городищах Среднего Приднепровья, В.В.Хвойка считал характерным и для Киева. Подводя итоги раскопок жилищ-мастерских в усадьбе Петровского, исследователь писал о цих:
“Постройки эти возводились в четырехугольном углублении, доведенном до желтой материковой глины, служившей полом жилых помещений и помещений иного назначения. Судя по остаткам, жилища эти сооружались из соснового материала, стены их, несколько возвышавшиеся над поверхностью земли, были сложены из толстых бревен, но особой прочностью отличались подвалипы, представлявшие собою основу стен и всегда заложенные в намеренно вырытой для этой цели канавке. Внутренние стенки, служившие перегородками, были сложены или из ряда стоймя поставленных брусьев, или из бревен, горизонтально положенных одно на другом, иногда обтесанных с обеих сторон, иди же из досок разной толщины. Постройки эти имели форму правильного продолговатого четырехугольника, но иногда в одном конце их находились пристройки в виде бокового выступа, представляющие собою род сенец” [там же, стр. 73].
О внутреннем устройстве славянских жилищ Среднего Приднепровья исследователь писал:
“Внутри, как это показали раскопки, многие постройки были разделены на две половины стеной-перегородкой, не доходившей до потолка, сложенной из стоймя поставленных полубрусьев; такая стенка отделяла жилое помещение с печью от другого, служившего, по-видимому, родом каморы; в некоторых случаях там помещалась мастерская. Печи имели различную форму, чаще всего ящикообразную и обыкновенно были без дымоотводов, иногда они заменялись очагом” [там же, стр. 51].
О внутреннем устройстве киевских жилищ, открытых в усадьбе Петровского, тот же исследователь сообщал:
“В одном из
внутренних помещений этих жилищ находилась печь, устроенная или при посредстве деревянных
столбов, или же состоявшая из деревянных стенок, обмазанных с обеих сторон
толстым слоем глины; снаружи такая печь была тщательно сглажена и часто
расписана двухтрехцветным узором. На некотором расстоянии от нечи, в стороне от
нее, обыкновенно находится круглая котлообразная яма, выкопанная в полу, т. е.
в желтой материковой глине; иногда стенки такой ямы бывают обмазаны беловатой,
весьма компактной глиной и тщательно сглажены. Ямы эти, глубина которых доходит
до 1-
Выписки из рукописного дневника В.В.Хвойки позволяют несколько расчленить приведенные обобщенные описания и попытаться охарактеризовать отдельные жилища, открытые в 1907-1908 гг. в усадьбе Петровского.
Наиболее хорошо сохранившиеся остатки жилищ были открыты в раскопах IV, V, VI. Кроме того, в раскопах I, II, VII, VIII были обнаружены остатки глинобитных печей, несомненно также находившихся в жилищах [Выписки из рукописного дневника В.В.Хвойки, стр. 6, 9, 15-17, 22, 26-27, 29-30].
Хорошо
сохранившееся жилище было открыто на участке раскопа IV. Здесь на глубине
“Во время
выемки земли в означенном месте обнаружены были две деревянные стены, вплотную
примыкавшие к боковым стенам, произведенным в древности при сооружении на этом
месте деревянной постройки. На дне ямы (на глубине
На дне были найдены также три железных ножа, наконечник небольшого копья, изготовленного из рога оленя, украшенный чешуйчатым орнаментом, два железных замка, ключ, обломок железной пени, обломки стеклянных браслетов, шиферные пряслица, фрагменты керамики, сделанной на круге. Исследователь трактовал описанный комплекс как “деревянную постройку с подвальным этажом и жилым помещением” [там же, стр. 17].
Еще более
интересный комплекс жилых сооружений был открыт на участке раскопа V. На
глубине
Ниже
описанного слоя лежал сдой чернозема. На глубине
Еще ниже, на
уровне
В.В.Хвойка комментировал описанный комплекс так:
“На месте
раскопа еще в великокняжескую эпоху сооружена была деревянная постройка с жилым
помещением. Сооружена она из соснового дерева (доказательство – подвалины).
Помещение полуподвальное, половина в земле, половина с крышей – снаружи. Затем
постройка сгорела, и место сравнено с землей. На месте ее был зарыт клад. Еще
позже – погребение ребенка; при его впуске был разбит сосуд с вещами.
Погребение совершено не позже великокняжеской эпохи. Находящийся на глубине
Хорошо
сохранившееся жилище было открыто на участке раскопа VI. Уже на глубине около
У печки найдены фрагменты керамики, два железных ножа, железный треножник. У северной стенки полуземлянки обнаружены обгорелые зерна пшеницы, находившиеся на дне сгоревшей деревянной кадки. В северо-восточном углу найдена кучка обгорелых зерен проса, высыпавшихся также из деревянной кадушки, но значительно меньших размеров. На ноду жилища лежали в слое пожарища три железных замка, разбитый медный котелок, железные гвозди, три шиферных пряслица, два точильных бруска, бронзовые пряжка и кольцо, [с. 290] обработанный кабаний клык, фрагменты стеклянных браслетов, обломки плиток, покрытых поливой, глиняный светильник и многочисленные обломки керамики, среди которых заслуживают особого внимания разбитая кружка, покрытая разноцветной поливой и украшенная по поверхности тисненым орнаментом, а также фрагменты двух амфор.
Обуглившиеся деревянные
подвалины лежали вдоль стен в особых углублениях (шириной
На участке
раскопа VII была открыта часть жилища, испорченного предшествующими раскопками
(Анненкова?). На глубине
Плохо
сохранившиеся остатки жилища были открыты на участке раскопа. YIII. На глубине
Остатки печей были обнаружены и на других участках усадьбы Петровского.
В раскопе I
обнаружена глинобитная сводчатая печь, имевшая
В раскопе II,
в слое, отнесенном исследователем к “древнеславявской эпохе”, обнаружена
“основа выложенной булыжником завалившейся печи шириной
Судя по приведенным выше отчетным данным, раскопками 1907-1908 гг. в усадьбе Петровского были открыты остатки по крайней мере восьми жилищ, сохранившихся в весьма различной степени. Так как большая часть жилищ была раскопана, по-видимому, неполностью, план их и основные конструктивные особенности построек не были выяснены исследователем до конца. В своих [с. 291] зарисовках В.В.Хвойка, как и в записях в дневнике, явно гипертрофирует роль деревянного каркаса глинобитних построек, вследствие чего искажается основной характер построек.
Несмотря на неясности в характеристике отдельных особенностей этих построек, не может быть сомнений, что все жилища, открытые в 1907-1908 гг. в усадьбе Петровского, принадлежали к типу полуземляночных построек, уже давно известных по материалам раскопок на других городищах Х – XIII вв. Среднего Поднепровья, что справедливо отмечал сам исследователь. Раскопки 1907-1908 гг. впервые в истории археологического изучения Киева позволили поставить вопрос об архитектурном облике рядового массового жилища домонгольского Киева на реальную почву археологически документированных фактов. В этом была огромная заслуга В.Хвойки при всем несовершенстве археологической методики его раскопок.
Раскопки Д. В. Милеева
Раскопки Археологической комиссии под руководством Д.В.Милеева, проводившиеся в 1908-1914 гг. в усадьбе Десятинной церкви и на участках, окружающих эту усадьбу, не дали новых материалов для характеристики массовых жилищ древнего Киева. Основной задачей раскопок 1908-1914 гг. было изучение развалин Десятинной церкви и участков, вплотную примыкающих к стенам храма; отсутствие на этой площади остатков жилищ вполне понятно.
Раскопки Д.В.Мидеева в усадьбе митрополичьего дома (ныне Софийский заповедник) в основном тоже имели задачей раскрытие развалин каменного храма XI в. Однако в окружении храма были, по-видимому, обнаружены отдельные жилые и хозяйственные постройки. Из сообщения одной из киевских газет известно, что недалеко от древнего кладбища, открытого к северу и северо-востоку от развалин храма, были обнаружены
“остатки
древнего деревянного небольшого сооружения, в котором хорошо сохранилась
овальной формы печь из кусков красного камня, похожего на шифер. Камни с
внутренней и наружноиґ стороны были обмазаны глиной, и затем печь эта была
обожжена, получив достаточную крепость” [Раскопки в
Киеве в
Рис. 56. План
жилища в усадьбе митрополичьего дома. Раскопки
В докладе об итогах раскопок сам Д.В.Милеев не упоминал об этом сооружении, однако на сводном чертеже раскопок у восточного края упомянутого дыше кладбища показано квадратное в плане сооружение с овальной печью в углу (рис. 56) [Д.В.Милеев. Вновь открытая церковь XI века в Киеве и положение исследовании в свизи с новыми застройками города. – Труды IV Съезда русских зодчих в С.-Петербурге, СПб., 1911, стр. 117]. Во всех четырех углах этой постройки находились круглые ямки от вертикально врытых столбов. Такая же ямка, несколько меньшего диаметра, расположена в середине северной стенки постройки; две ямки, еще меньшего диаметра, находятся у печи. Не может быть сомнений в том, что эта постройка представляет характерное для Среднего Поддепровья и, в частности, для Киева жилище полуземляночного типа. Единственной отличительной особенностью этого жилища является своеобразная конструкция печи, сложен[с. 292]ной, если доверять приведенной выше информации, из кусков красного камня, похожего на шифер, и обмазанной глиной. До недавнего времени считалось, что печи этого типа были всегда глинобитными, на деревянном каркасе. Однако нашими раскопками последних лет открыто несколько жилищ полуземляночного типа, в которых печь была сложена из брускового кирпича. Печи, сложенные из камня, в киевских жилищах неизвестны, но они широко распространены в городских жилищах Галицкой земли, в частности в жилищах Плеснеска и Галича (см. далее).
Выемка земли,
сделанная для хозяйственных построек в той же усадьбе, дала возможность
обнаружить три больших, квадратных в плаве погреба, залегающих на глубине
Раскопками В.В.Хвойки в деле изучения рядовых массовых жилищ древнего Киева были сделаны лишь первые шаги. Более широкое и более углубленное изучение их является заслугой советской археологии.
Раскопки 1930, 1933 гг.
В
По всей площади жилища были разбросаны многочисленные обломки глиняной посуды, костей животных, отдельные железные предметы, в результате коррозии утратившие почти полностью свою первоначальную форму. По утверждению исследователя, керамика, найденная в жилище, относится к XII в. [с. 293] Кроме куховной посуды, в жилище были найдены также обломки большой красноглиняной корчаги-амфоры и ушко от так называемой “амфорки киевского типа”. На донцах некоторых сосудов имелись клейма, среди которых заслуживает внимания клеймо в виде “тризубца”, без особых к тому оснований сопоставленное со знаком на монетах Святополка (начало XII в.). Многие из фрагментов керамики, найденных в жилище, были покрыты сажей и золой.
Юго-западной стороной жилище выходило к склону горы над Кожемяками, в втой стене, по-видимому, был устроен вход, не прослеженный ввиду плохой сохранности этой части полуземлянки.
В северном углу жилища обнаружен завал угля и золы, в котором были расчищены остатки печи в виде кусков обожженной глины с отпечатками дерева. Тут же было найдено наибольшее количество костей животных, рыбья чешуя, обломки глиняной посуды. В развале печи обнаружена нижняя часть горшка, ваполновиого рыбьей чешуей.
В противоположном (по диагонали) углу жилища открыты остатки огнища, продешевлявшие сдой черной земли с мелкими угольками. Раввал огнища не был насыщен обломками костей и глиняной посуды, как развал печи, описанный выше. Здесь были найдены в небольшом количестве лишь мелкие обломки керамики и несколько кусков железного шлака. Назначение огнища в полуземлянке, где существовала, кроме того, печь, неясно. Так как возле огнища были найдены куски железного шлака, не лишено вероятия высказанное исследователем предположение о том, что это мог быть очаг для кузнечных работ.
В развалинах жилища не было следов пожара, столь характерных для большинства раскопанных в Киеве жилищ. Поскольку и состав находок не отличается обилием, закономерно предположение, что жилище, раскопанное на Детинке, не погибло в резулътате пожара, а было покинуто своими хозяевами, забравшими с собой все свое имущество.
С западной и северо-западной сторон жилища у его отен были обнаружены три погребения почти без вещей, отнесенные ко второй половине XII в. По-видимому, именно эта находка и давала основание для уточнения даты жилища в пределах первой половины XII в.
В
Особого
внимания заслуживают две полуземлянки с остатками ремесленного производства
медных изделий. Они представляли собой вырытые в материковом лёссе
прямоугольные выемки глубиной около
На полу была обнаружена целая система ямок разного размера от деревянных столбов, которые поддерживали перекрытия, а также от заостренных колков и досок. Во многих ямках сохранились остатки перегнившего дерева. В меньшей полуземлянке вдоль двух стенок находились, кроме того, две большие прямоугольные ямы с закругленными углами.
В обеих полуземлянках отлично сохранились глинобитные печи, расположенные в углу около задней стенки жилища. Печи имели полусферическую форму. Верхняя часть свода печей не сохранилась. Под обеих печей был сильно обожжен. В печи большей полуземлянки в результате высоких температур гди-ияная обмазка пода была местами остеклована.
Исследование
пода печи большей полуземлянки позволило установить, что ой состоит из двух
слоев глиняной обмазки; верхний слой нанесен после того, как нижний был
поврежден. При исследовании печей было установлено, что под глиняной обмазкой
пода лежали обломки керамики, кирпичей и куски шлака, а в печи большей
полуземлянки под верхним слоем обмазки, кроме того, лежали куски жернова и
очень большой кусок меди. Перед печью в обеих полуземлянках были вырыты ямы
диаметром 0.40-
Меньшая полуземлянка, как сказано выше, соединялась с третьей, смежной с ней полуземлянкой, в которой печи не было. В ней, судя по обилию отходов костяного производства, была мастерская изделий из кости.
Раскопками были обнаружены, кроме
того, остатки еще одной полуземлянки с печью, к сожалению, полностью не
доследованные, и большая печь, около которой были расположены ямы правильной
формы размером 1.22:1.02 м, глубиной
Раскопки 1936 – 1937 гг.
Раскопками Института археологии АН УССР в 1936-1937 гг. на территории усадьбы Художественной школы (бывш. усадьба Петровского) [в настоящее время указанная территории входит в усадьбу Киевского государственного исторического музея], т. е. в древнейшей части Киева, неподалеку от развалин Десятинной церкви и княжеских дворцов было обнаружено несколько жилищ-мастерских подуземляночного типа [Отчет о работах Киевской археологической экспедиции в 1936-1937 гг., стр. 22-27 Архив ИА АН УССР]. К сожалению, графическая документация этих раскопок, хотя и была шагом вперед по сравнению с документацией раскопок В.Хвойки, все же весьма далека от требований современной методики археологического исследования.
Хорошей
сохранности жилище было открыто на участке III
Рис. 57.
Жилище в усадьбе Художественной школы. Забивка пода печи. Раскопки
В северной
части полуземлянки находилась глинобитная печь (диаметр пода
Остатки нескольких полуземлянок были обнаружены и в северной части усадьбы Художественной школы. Большая часть их сопровождалась хозяйственными ямами, составлявшими вместе с жилищами любопытный жилищно-хозяйственный комплекс.
Так, на
участке Ш/8 раскопаны остатки прямоугольной в плане полуземлянки (3.10:2.76 м),
вырытой в материковом лёссе. Пол находился на глубина
Возле жилища
найдено девять хозяйственных ям, вырытых в лёссе, диаметром от 0.5 до
Возле печи, на полу жилища найдены различные предметы XII-XIII вв. – фрагменты керамики, одна целая и одна разбитая на куски “амфорка киевского типа”, шиферные пряслица, два целых и много обломков стеклянных браслетов, костяной гребень, обломки древнего плиточного кирпича, железный кованый “чеснок”, литейная формочка, тигелек, стеклянные бусы, обломки тонкостенных стеклянных сосудов, крестики, проколки, перстень, глиняные светильники и т.п.
Полуземлянка представляла собой не только жилище, но и мастерскую ремесленника-ювелира, возле которой были найдены остатки литейного горна и многочисленные отбросы ювелирного производства: обломки тиглей, формочки, зола, шлаки и т.д. [там же, стр. 24]
Сильно
разрушенная полуземлянка с остатками большой печи была раскопана на участке II
Возле печи в
полу землянки находилась яма, заполненная золой. Прямоугольная яма (1.5:2 м) обнаружена
также к востоку от печи (на глубине
Опираясь на характер находок в раскопе и, в частности, находок в самой полуземлянке, исследователь склонялся к датировке ее XIII-XIV вв., полагая, что она служила жилищем ремесленника, изготовлявшего резные костяные [с. 297] изделия – пуговицы, стрелы, проколки и пр. Действительно, возле жилища было найдено несколько сот обломков костей животных, частично обработанных, и готовые изделия из кости [Отчет о работах Киевской археологической экспедиции в 1936-1937 гг., стр. 25-26].
Остатки небольшой полуземлянки ХІІ-XIII вв. (7.5:3 м) были обнаружены также в раскопе А (угол Владимирской уд. и Андреевского спуска). К сожалению, эта постройка описана в дневнике раскопок и в отчете слишком кратко [там же, стр. 26].
Раскопки
1938 г .
Жилища 1 – 2
В работах
Киевской археологической экспедиции АН СССР и АН УССР, широко развернувшихся с
Наиболее
целостный комплекс жилых и хозяйственных построек XII-XIII вв. был раскрыт в
Еще в первой половине XIX в. на монастырской территории были обнаружены развалины двух древвих храмов, вопрос об атрибуции которых остается до настоящего времени в известной мере дискуссионным.
В связи с
постройкой на бывшей монастырской территории зданий Правителъственного центра
здесь еще в
Раскопки были
развернуты на участке к северо-востоку от трапезной церкви монастыря, где
размещался лесосклад строительства. Площадь этого участка по краям была занята
штабелями бревен, между которыми оставалась свободная полоса шириной 10-
Рис. 58. План
жилищ и хозяйственных сооружений. Усадьба Михайловского Златоверхого монастыря.
Раскопки
Здесь на
глубине от 1 до
Уже на
глубине 0.25-
Необходимо отметить, что на раскопанной территории почти отсутствовали находки, относящиеся к XIV – XVI вв. В верхних слоях изобиловали находки XVIII – начала XIX в. и в сравнительно незначительном количестве попадались различные изделия XVII в. Обстоятельство это позволило установить, что после татарского разгрома этот район, по-видимому, оставался долгое время почти незаселенным, что, конечно, и способствовало лучшей сохранности древних культурных слоев и, в частности, сооружений, находившихся уже [с. 299] под мощным пластом земли, когда в XVII-XIX вв. здесь вновь развернулась хозяйственная деятельность михайловских монахов.
Рис. 59. План
жилищ I и II и лестницы в подземиое помещение. Раскопки
В северной части
раскопа была раскрыта вырубленная в лёссе лестница, которая вела в какое-то
помещение, находившееся глубоко под землей (рис. 59). Лестница состояла из
девяти ступенек, начинавшихся на глубине
К югу от
этого помещения было раскопано древнее жилище полуземляночиого типа.
Полуземлянка I сохранилась довольно плохо. Границы ее были с трудом прослежены
по слабым остаткам обожженных стенок и по утрамбованному глиняному полу (рис.
59). Обожженные стенки этой полуземлянки сохранились далеко не везде и только
на очень незначительную высоту. Лучше остальных сохранилась северная стенка,
особенно в части, примыкающей к печке. Полуземлянка перерезана по диагонали
поздней траншеей для прокладки водопроводной трубы. В северо-восточном углу
хорошо сохранилась нижняя часть печи. Печь была устроена непосредственно на
грунте. Под печи возвышался над уровнем пола всего на
Сохранившиеся in situ нижние части глинобитного свода печи, а также найденные в значительном количестве обломки обвалившейся части свода позволяют полностью восстановить не только форму нечи, но и ее конструкцию. Внутри свод печи имел не ровную, а волнообразную желобчатую поверхность, покрытую как бы вертикальными каннелюрами (рис. 59). Эти же каннелюры попадались в большом количестве и на обломках свода, найденных подле печи. Тщательное изучение поверхности этих каннелюр позволило установить отпечатавшиеся на глине волокна дерева, а самая форма каннелюр явно указывала на то, что они получились от выгоревшего деревянного каркаса, с помощью [с. 300] которого была вылеплена печь. Каркас этот делался из прутьев, выгнутых в форме полусферы. По-видимому, внутренняя поверхность деревянного каркаса либо оставалась открытой, либо была обмазана тонким слоем глины, который вскоре обваливался, и деревянный каркас выгорал, отчего внутренность печи получала желобчатую каннелированную поверхность. На полу жилища и вокруг него найдены куски обгорелого дерева и много фрагментов керамики XII-XIII вв. [там же, стр. 9-11]
Соседняя с только что описанным жилищем полуземлянка II сохранилась еще хуже. Очертания ее, однако, можно было проследить, так как темное пятно гумуса, заполнявшего углубление полуземлянки, явно выделялось среди мате[с. 301]рикового светло-желтого лёсса. Местами, по границам этого пятна, можно было проследить и куски обожженных стенок, редко in situ, чаще в обвале. У юго-восточного угла полуземлянки были обнаружены следы вертикально врытого деревянного столба (рис. 59).
В
северо-западном углу была глиняная печь. От нее сохранились только беспорядочно
лежавшие обломки обожженной глины. Утрамбованный и обожженный пол, хорошо
сохранившийся в средней части жилища (перед печью), был очень твердым,
напоминая под печи. Глубина полуземлянки II очень невелика, пол ее всего лишь
на 0.10-
К югу от
полуземлянки II была раскопана большая, неправильной формы яма естественного
происхождения, глубина которой достигала
Раскопки 1938 р. Жилища 3 – 5
Рис. 60. План
жилищ III—V и хозяйственных ям. Раскопки
Немного южнее
ямы поперек всей раскопанной площади проходит канава, вырытая в материке,
глубиной около
К западу от
древней мусорной ямы уже разведкой
Вдоль
северной стенки жилища были обнаружены три ямки небольшого диаметра. Две ямки
находились по углам, третья в середине стены. В этих ямках сохранились
незначительные остатки от трех вертикальных столбов, на которые опиралась
кровля. Вход, очевидно, был с южной стороны. Никаких следов от него не
сохранилось ввиду разрушенности этой части жилища. В заполнении углубленной части
полуземлянки и особенно па полу ее было обнаружено большое количество
фрагментов керамики, среди которых, помимо обычной кухонной посуды, много
обломков красноглиняных амфор. Кроме керамики, в жилище и около него обнаружены
обломки стеклянных браслетов, железные замки, ножи и в большом количестве кости
различных домашних животных, рыбья чешуя и кости, зола и угли. Подле жилища
была найдена византийская медная монета Алексея Комнина (1081-1117). У
юго-западного угла жилища была [с. 303] обнаружена круглая яма полусферической
формы с необожженными стенками. Диаметр ямы
К
юго-восточному углу полуземлянки III почти вплотную примыкает большая
прямоугольная яма, наполненная исключительно древним материалом. Яма эта
перерезает канаву, о которой была речь выше. С юго-востока в свою очередь к ней
примыкает глубокая яма естественного происхождения. Нижние слои заполнения ямы
дали огромное количество обломков древнего кирпича, керамики и костей.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на то, что и прямоугольная яма и канава
прорезают, т.е., другими словами, разрушают полуземлянку III, и яма и канава
(особенно последняя) безусловно относятся к древней поре. Как разведкой
Восточная
часть ямы не была раскопана, так как на этом участке находилось дерево, рубка которого
не была разрешена. К востоку от него раскрыт чрезвычайно любопытный комплекс
хозяйственных ям, состоявший из двенадцати хранилищ различного размера и формы.
В
Глубина ям от
18 до
В заполнении и особенно на дне ям обнаружены фрагменты керамики с линейным орнаментом и куски амфор, кости животных, обгорелое зерно, яичная скорлупа, уголь, береста.
Вблизи от
двух ям найдено свыше 50 обломков стеклянных браслетов, 6 целых браслетов и
обломки стеклянных перстней, а также тигелек с остатками стеклянной массы на
внутренней поверхности стенок [Дневник Киевской
археологической экспедиции
Раскопки
1938 г .
Жилища 4 – 7
Рис. 61. План
жилищ IV—VII и хозяйственных ям. Раскопки
К югу от комплекса ям были обнаружены незначительные остатки полуземлянки IV. От нее остались лишь части обожженной стенки и отличной сохран[с. 304]ности ступени, вырезанные в лёссе, обмазанные глиной и обожженные докрасна (рис. 61). Остальная площадь полуземлянки разрушена поздними ямами. К северо-западу от полуземлянки IV обнаружена прекрасно сохранившаяся круглая яма с хорошо обожженными глиняными стенками; на дне остатки муки [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 14].
К западу от полуземлянки IV находится огромная поздняя яма, прорезавшая не только культурные сдои, но и глубоко врезавшаяся в материк. Яма эта полностью уничтожила большую площадь в центре исследованного участка. [с. 305]
К северу от северной стенки этой ямы были обнаружены очень плохо сохранившиеся остатки еще одного жилища. От этой полуземлянки V, как и от полуземлянки IV, сохранились вырубленные в лёссе ступени, обмазанные глиной и обожженные, и незначительная часть северной стенки (рис. 61). На линии стенки полуземлянки обнаружены два вертикальных столба, один из которых был вкопан у самой лестницы. Возле полуземлянки V находились две небольшие ямы, одна из которых имела круглую, другая овальную форму [М.К.Каргер. Археологические исследовадия древнего Киева, стр. 14].
К юго-западу
от полуземлянки V, к западу от поздней ямы, была раскопана полуземлянка VI. Это
самая большая постройка из числа раскопанных в
Северная
стенка полуземлянки VI, обмазанная обожженной глиной, сохранилась лучше всех
остальных. Высота ее до
Пол был
утоптан и обожжен. В углубленной части полуземлянки найдено большое количество
обломков обожженного дерева, угля и кусков обожженной глины. Слой в 0.10-
У южной
стенки полуземлянки была обнаружена ступенька вырубленной в лёссе лестницы.
Найденные к югу от южной стенки два деревянных подусгнивших столбика (диаметр
одного
|
Рис. 62. Жилище VII. Аксонометрия.
Раскопки |
Рис. 63. Жилище VII. Лестница, у
нижней ступеиъки — два обломка жернова. Раскопки |
Полуземлянка VII,
раскопанная в непосредственном соседстве с полуземлянкой VI, является одной из
лучшие по сохранности, несмотря на то, что северо-[с. 307]восточный угол ее
уничтожен поздней ямой (рис. 61). Сохранившиеся части стенок обнаружены на
глубине
Среди обломков обожженной глины, найденных в заполнении углубленной части полуземлянки, большой интерес представляют куски глины с отпечатками деревянных жердей внутри куска, свидетельствующие о применении деревянных частей в качестве конструктивной основы глинобитных стенок постройки. Кроме того, были найдены куски глины с желобками – каннелюрами, подобные тем, которые отмечены выше, при описании глинобитной печи в полуземлянке І. В описываемой полуземлянке нет печи, но не исключено, что она находилась в разрушенном северо-восточном углу постройки и обнаруженные обломки глиняной обмазки с желобками происходят из этой печи. Инвентарь, найденный в заполнении углубленной части полуземлянки, состоит из обломков керамики, среди которых есть несколько фрагментов поливной посуды и амфор, бесформенных кусков окислившихся и подвергшихся действию сильного огня железных предметов, нескольких ручных каменных жерновов, костей животных и фрагментов костяных пластинок с круглыми отверстиями.
Особый интерес представляют обнаруженные на поду многочисленные обрезки и заготовки каких-то маленьких медных изделий и небольшое количество готовых изделий, по-видимому, украшений конской сбруи и отчасти поясных бляшек. Число этих заготовок и обрезков настолько значительно, что заставляет предположить наличие в полуземлянке VII какого-то ремесленного производства, связанного с обработкой меди.
В юго-западном углу полуземлянки была обнаружена куча обгорелой пшеницы, в другом месте найдена перегорелая мука.
В полу вырыты
три ямы. Первая яма, близ южной стенки, в
Вторая яма находится в юго-восточном углу. В ней и около нее также были найдены обломки большого толстостенного сосуда. Тут же лежали обломки [с. 308] железных предметов, куски тонких медных пластинок и несколько фрагментов амфорной керамики.
Третья яма находится около восточной стенки полуземлянки. В яме обнаружены медный энколпион, большое количество медных обрезков, деформированные железные предметы, гвозди, фрагменты керамики, обгорелое зерно и мука. Во всех трех ямах много горелого дерева:
Возле полуземлянки были обнаружены обломки жернова, железная стрела, фрагменты стеклянных браслетов и сосудов, стеклянные бусы и значительное количество обломков керамики, в частности древней поливной.
Большое количество медных обрезков, заготовок и готовых изделий, найден-иых в полуземлянке VII, позволяют видеть в ней, как уже сказано выше, мастерскую но обработке меди. Однако обильные находки керамики, зерна, муки, жерновов, стеклянной посуды и прочих хозяйственных предметов дают основание считать полуземлянку VII не только мастерской, но и жилищем. Единственным возражением против этого является отсутствие печи. Однако, как отмечалось выше, находки обломков обожженной глины с желобками позволяют предположить, что печь располагалась в уничтоженном поздней ямой северо-восточном углу постройки [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 15-19]. [с. 309]
Раскопки 1938. Жилище художника (8)
В южном конце
раскопа было обнаружено последнее жилище, представляющее памятник совершенно
исключительного научного значения (табл. XXXV) [М.К.Каргер.
1) Землянка-мастерская киевского художника XIII в. – КСИИМК, XI, М.-Л., 1945,
стр. 5-15; 2) Археологические исследования древнего Киева, стр. 19-35].
Можно без преувеличения сказать, что по степени сохранности самой постройки, а
особенно по количеству и сохранности инвентаря, найденного в ней, полуземлянка
VIII представляет памятник, превосходящий все, что было известно до сих пор в
области археологии древнерусского жилища. Как и все описанные выше жилища,
полуземлянка VIII вырыта в лёссе, стенки ее обмазаны глиной и докрасна
обожжены. Материковый лёсс, в котором вырыта углубленная часть полуземлянки,
был перекрыт мощным культурным слоем. Первые признаки постройки были обнаружены
на глубине 1.30-
Рис. 64.
“Жилище художника”. Аксонометрия. Раскопки
Высота сохранившихся
стенок колеблется от
В
северо-восточном углу жилища прекрасно сохранилась глиняная печь, сделанная на
небольшом возвышении, поднятом над уровнем пола на
Площадка, на
которой доставлена печь, немного больше самой печи, края ее выступают на
несколько сантиметров. Свод печи, имеющий полусферическую форму, сделан из
глины на деревянном каркасе, следы которого сохранились внутри печи в виде
вертикальных желобков-каннелюр (см. выше описание печи в полуземлянке I).
Верхняя часть свода обвалилась, ввиду чего невозможно установить конструкцию
дымохода. Нельзя установить даже, представлял ли этот дымоход просто отверстие
в своде, через которое дым выходил в жилище (топка по черному), или же над
отверстием печи устраивалась деревянная, [с. 311] обмазавшая глиной труба,
выводившая дым наружу. Необходимо отметить, что печь чрезвычайно велика,
особенно если принять во внимание небольшие размеры самого жилища. Размеры печи
(по поду): длина
К западу от печи на поду жилища были обнаружены четыре неглубоких ямки небольшого диаметра, внутри которых при зачистке найдены истлевшие остатки деревянных столбиков. По-видимому, это остатки от ножек стола. Нижняя часть еще одного столбика, несколько большего диаметра, была обнаружена в углу между печью и столом; назначение его, по-видимому, связано с печью.
Внутри жилища найдено огромное количество разнообразных предметов, наиболее существенные из которых показаны на плане (рис. 64).
Предметы, обнаруженные в жилище, можно разделить на две группы, в первую из которых входит разнообразный бытовой инвентарь, принадлежавший владельцам жилища, во вторую – орудия производства, сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, характеризующие полуземлянку VIII не только как жилище, но и как ремесленную мастерскую.
В первой группе предметов интерес вызывает прежде всего керамика. Если фрагменты глиняной посуды в раскопках древнерусских городов представляют наиболее обильный материал и число их измеряется в более или менее крупных раскопках не только тысячами, но часто десятками тысяч экземпляров, то целые экземпляры глиняной посуды являются единичными памятниками. Тем более ценен тот исключительный набор глиняной посуды, который был обнаружен в полуземлянке VIII.
Между
четырьмя ножками стола был обнаружен раздавленный толстостенный широкогорлый
сосуд, который удалось полностью восстановить. Сосуд этот, высотой в
Остальная глиняная посуда, найденная в полуземлянке, представленавоонов-ном кухонными горшками с невысоким, слабо отогнутым венчиком, с одним иди двумя ушками. Орнамент сосудов чрезвычайно стабильных типов: линейный, в виде запятых, реже волнистый. Все сосуды сделаны на круге, хорошо обожжены, черепок в изломе обычно серый, реже черный.
Среди столовой глиняной посуды, найденной в полуземлянке VIII, заслуживает внимания узкогорлый кувшин с одной ручкой, покрытый светло-желтой поливой, и небольшой белоглиняный ковш с сильно оттянутой ручкой, украшенный орнаментом в виде запятых. Ковш принадлежит к распространенному в киевской керамике XI-XIII вв. типу посуды. Сосуды подобной формы встре[с. 312]чены в раскопках Киева, Вышгорода, Княжой горы и в ряде других городских центров Киевской земли.
Помимо описанных выше целых сосудов, в жилище найдено значительное количество фрагментов разнообразной керамики, среди которых необходимо отметить обломки амфорной посуды из хорошо обожженной красной глины.
Вся глиняная посуда, описанная выше, служила для варки или хранение пищи. В одном из горшков сохранились запекшиеся от сильного жара комки разварившегося пшена, по-видимому, в горшке варилась каша.
Наряду с глиняной посудой в полуземлянке VIII найдено довольно значительное количество фрагментов разнообразной деревянной посуды. Среди них наиболее хорошо сохранились обломок деревянного ведра, обитого железными обручами, фрагменты нескольких неглубоких деревянных мисок, какой-то посуды, сделанной из лубка, и двух ложек. У одной из стенок землянки были найдены остатки обгорелой деревянной кадушки с перегоревшей рыхлой массой внутри, оказавшейся мукой. Из других деревянных предметов, найденных тут же, нужно упомянуть гребень, обломки деревянного предмета с одним заостренным концом и с отверстием на другом конце (назначение непонятно), плохо сохранившийся предмет, плетенный из прутьев, и нр.
Среди хозяйственно-бытового инвентаря необходимо, помимо посуды, отметить целый ряд железных предметов, а именно: три трубчатых замка, один из которых заперт на петле с накладкой, два ключа, один в форме лопаточки у другой в форме продолговатого стержня, значительное количество кованных гвоздей, скоба и петля, кресало, обломок ножа, железный вогнутый диск, напоминающий сковородку, и целый ряд других деформированных коррозией железных предметов.
Помимо керамики, железных и деревянных предметов, в жилище найдено несколько фрагментов и один совершенно целый глиняный светильник, обгорелые куски кожи со следами швов (по-видимому, остатки обуви), горелые нитки, перевитые между прутьями, обгорелая грубая ткань и горелое волокно, четыре шиферных пряслица, грузило, медная блесна и пр.
Среди предметов художественного ремесла необходимо отметить несколько фрагментов стеклянных браслетов, медную фигурную пряжку со стержнем, два медных креста-энколпиона и один маленький медный крестик с утолщением на концах.
К этой же группе предметов необходимо отнести еще две находки, представляющие большой интерес для истории киевского художественного ремесла. Подле обломков раздавленной корчаги была обнаружена медная литая лампада с рельефным изображением четырех нимбированных фигур и серебряная подвеска в форме дуннипы с геральдическим изображением парных птиц с пышными хвостами, переходящими в ленточное плетение, служившая, по-видимому, частью богатого конского убора.
Каким образом лампада и серебряная подвеска очутились в полуземлянке VIII, были ли оба эти предмета “бытовыми вещами” владельца жилища, или же [с. 313] они являлись продукцией его ремесла – к этому вопросу мы возвратимся несколько ниже, в связи с изучением целого комплекса разнообразных предметов, найденных в этой же полуземлянке, характеризующих ее уже не в качестве жилища, а в качестве ремесленной мастерской.
Среди железных предметов, найденных в полуземлянке VIII, помимо бытового инвентаря, охарактеризованного выше, был обнаружен целый набор деревообделочных инструментов, состоящий из пяти предметов, а именно: топора, сверла с втулкой для горизонтальной деревянной ручки, скобеля со следами деревянных ручек, резца (ложкаря) и обоюдоострой кирки с круглой втулкой посредине, служившей, по-видимому, для раскалывания дерева. Любопытно, что наряду с набором деревообделочных инструментов в той же полуземлянке были найдены три сильно стертых бруска для точки.
Если находка топора, являвшегося в древней Руси универсальным орудием городского и сельского населения, отнюдь не может служить основанием для определения характера ремесленной деятельности владельца полуземлянки, то сочетание пяти деревообделочных инструментов, из которых отдельные инструменты вообще представляют собой сравнительно редкие находки, позволяет предположить, что обработка дерева в полуземлянке VIII была как-то связана с ремеслом, которым занимался ее владелец.
Находки других орудий производства, однако, показывают, что считать владельца полуземлянки VIII простым плотником, было бы безусловно ошибочно. В углу жилища, почти на самом полу, было найдено четырнадцать маленьких глиняных горшочков, внутри которых сохранились остатки различных красок. Вместе с горшочками лежала одна раковина unio, на стенках которой были также следы краски. Горшочки имеют различную форму, одни передают н миниатюре большие глиняные горшки, другие представляют неглубокие плошки, два из них имеют ручки различной формы. В непосредственной близости от полуземлянки VIII был найдеи также сильно стертый со всех сторон камень со следами краски, служивший, по-видимому, для растирания красок.
Судя по
находке еще одного замечательного комплекса, в полуземлянке-мастерской
занимались не только живописью. В самом центре ее, недалеко от угла печи, на
полу был обнаружен покрытый желтой поливой кувшин, упомянутый выше, при
описании бытовой глиняной посуды, найденной в жилище. Подле него, а частично в
нем было обнаружено
Состав орудий производства, найденных в полуземлянке VIII, позволяет установить, что владелец ее занимался художественным ремеслом в нескольких разновидностях. При описании находок в полуземлянке VIII возник вопрос: каким образом в бедном жилище оказались серебряная подвеска от конской сбруи и медная лампада церковного типа? Не может быть сомнений в том, что эти предметы связаны не с удовлетворением личных потребностей владельца землянки, а с его производством. Находились ли эти два предмета в починке у мастера, иди же они должны были пройти здесь какую-то дополнительную обработку, решить, конечно, не представляется возможным. Может быть, к этой же категории предметов нужно отнести и медную булаву, найденную в той же полуземлянке. Булава была в Киевской земле оружием довольно распространенным, как показывают находки ее на различных городищах XI-XIII вв., но едва ли можно все же предположить, что булавой располагал в качестве яичного оружия средний городской ремесленник.
Комплекс
жилищ-мастерских, открытых в
Раскопки
1940 г .
Рис. 65. План
жилищ І и ІІ. Усадьба Михайловского Златоверхого монастыря. Раскопки
Открытые раскопками постройки представляют собой два смежных, вплотную один к другому прилегающих помещения, ориентированные по странам света (рис. 65).
Жилище I (табл. XXXVI) представляет полуземлянку,
квадратную в плане (3.50:3.50 м). Высота сохранившихся стенок
Почти в самом центре жилища находилась большая овальная в плане яма (1.60:1.20:0.70 м) более позднего происхождения. Она перерезает каменную с кирпичами вымостку с обожженным лёссом вокруг, представляющую, по-видимому, остаток печи.
В яме, перерезавшей вымостку, найдено большое количество обломков глиняных горшков, свинцовые пластины и половина каменного ручного жернова. Второй кусок жернова вместе с обломком железного сверла лежал у края ямы. Из других находок в жилище I нужно упомянуть разбитый горшок, стоявший в специально вырытой для него ямке (около вымостки), обломки глиняного кувшина и кусочки хрупкого стекла.
По сторонам
поздней ямы, врезавшейся в жилище I, расположены две круглые ямы (диаметр 0.80,
глубина
Северо-западный угол жилища был, по-видимому, выгорожен легкой перегородкой (кладовка?), о чем свидетельствуют ямки от кольев.
Вход в
жилище, судя по расположению столбов, был с севера, в середине стены, рядом с
кладовкой. Дверные столбы по диаметру меньше, чем угловые; два из них стояли
рядом, третий на расстоянии
Значительно
сложнее вопрос о втором жилище, вплотную примыкающем к описанной выше
полуземлянке. Исследователь трактовал жилище II как большое, полуземляночного
типа помещение в виде вытянутого по оси В-3 прямоугольника (7.50:3.5 м). Стенки
углубленной части этого жилища местами сохранились на высоту до
В отчете о
раскопках
“Вдоль стен, – читаем мы, – прослежены круглые ямки от столбов, составлявших деревянный костяк постройки и поддерживавших ее кровлю. Столбы расположены по углам и по два вдоль стен. Один угловой столб был общим с жилищем І, в котором он являлся одним из средних столбов” [там же, стр. 2].
На полевом чертеже, фиксирующем план раскопанного комплекса (рис. 65), вдоль северной и западной стен постройки изображены бревна, в северо-западном углу соединенные между собой рубкой “в обло”.
Из отчета
явствует, что не только в северо-западном и в северо-восточном углах
полуземлянки сохранились следы венцов от сруба в виде отпечатков бревен в лёссе
[там же, стр. 3]. В полевом дневнике раскопок
записало даже, что в северозападном углу было обнаружено в лёссе “пересечение
стенок сруба из трех вен[с. 317]цов; угол сруба сохранился в развале” [Дневник Киевской археологической экспедиции
Никаких
столбов вдоль северной, западной и восточной стен жилища мы не усматриваем.
Столбов вдоль западной стены нет даже и на чертеже; столбы у северной стены
расположены случайно. Что касается столбов у восточной стены, то это несомненно
столбы соседнего жилища I. При наличии достаточно хорошо сохранившихся вдоль
северной и западной стен бревен, являющихся частями срубной конструкции,
отсутствие здесь остатков столбовой конструкции вполне закономерно. Ошибочная,
на наш взгляд, интерпретация конструкции жилища II как столбовой основана на
толковании четырех ямок от круглых столбов, расположенных на прямой линии,
параллельно северной стене жилища, на расстоянии
Рис. 66.
Жилище II. Печь. Раскопки
Полом жилища
служит плотный материковый лёсс без глиняной обмазки. В восточной части жилища (но
далеко от восточной стенки) расположена глинобитная нечь полусферической формы
(свод не сохранился), обращенная устьем на запад. В плане печь снаружи круглая,
внутри овальная (длина
В западной
части жилища на полу обнаружено сильно обожженное пятно (0.90:1.15 м), а у края
его тоже сильно обожженная прямоугольная в плане ямка (0.34:0.26-
Пол жилищ I и II находился почти па одном уровне. Судя по составу находок, оба жилища одновременны.
Исследователь
относил их к XI-началу XII в., полагая, что уже в XII в. над жилищем I и
частично II возникло непонятное сооружение в виде овальной ямы (глубина до
Над жилищем
I, выше его на
В южной части раскопанного участка, рядом с жилищем I, обнаружено несколько ямок от столбов различного диаметра, относящихся, по-видимому, к надворным постройкам при жилищах I и II.
Раскопки
1949 г .
Раскопки на
территории Михайловского Златоверхого монастыря, прерванные войной и временной
оккупацией Киева немецко-фашистскими захватчиками, были возобновлены в
В 1941-1945 гг.
значительная часть территории Михайловского монастыря была испорчена
разнообразными хозяйственными и санитарными постройками, вследствие чего
доступная для археологических исследований площадь значительно сократилась.
Разведочного характера раскопки, проведенные на различных участках бывшей
монастырской территории Киевской археологической экспедицией АН СССР и АН УССР
в
На участке,
вплотную примыкающем к площади, раскопанной в
Раскопками на
двух других участках монастырской территории (в юго-восточном углу) удалось
обнаружить кое-где лишь очень плохо сохранившиеся остатки глинобитных печей [М.К.Каргер. Отчет о работе Киевской археологической
экспедиции
Раскопки
Разведочные
раскопы общей площадью 60 кв.м дали возможность установить характер
стратиграфии участка. Поздние разновременные ямы, прорезающие одна другую,
глубокие фундаменты построек XVIII – XIX вв. и несколько водопроводных и
канализационных магистралей почти полностью уничтожили древнюю стратиграфию
участка. Вплоть до материка, на глубину до 3-
Только в трех
квадратах, расположенных у северо-западной границы участка, под напластованием
верхних поздних слоев, ниже уровня двух, почти [с. 320] параллельно
расположенных водопроводных магистралей, на глубине в среднем около
Рис. 67.
Общий вид жилища. Усадьба Михайловского Златоверхого монастыря. Раскопки
Вскоре были обнаружены спускающиеся вниз ступени вырубленной в плотном материковом лессе лестницы, не оставлявшей сомнений в том, что разведочный раскоп подвел нас прямо к входу в полуземляночного типа постройку домонгольского периода. Для раскрытия постройки площадь раскопа была утроена, После того как верхние, поздние напластования на всей этой площади были удалены, определились контуры прямоугольного в плане сооружения, от которого сохранилась углубленная в материк нижняя часть его (рис. 67), заполненная обвалами верхних наземных частейпостройкии гумусными отложениями, образовавшимися в период длительного запустения участка. По мере углубления раскопа находки разнообразных древних предметов становились все многочисленнее, а состав и характер их убеждал в том, что обнаружено еще одно прекрасно сохранившееся жилище полуземляночного типа конца XII-XIII вв дополняющее замечательный комплекс жилых и производственных сооружу вии, раскопанных на изучаемой территории в 1937, 1938, 1940 и 1948 гг. [М.К.Каргер. К истории древнерусского жилища. – КСИИМК, 1951, т. 38, стр. 3-11] [с. 321]
Полуземлянка
Не вполне
обычно для киевских жилищ XI-XIII вв. и соединение в постройке двух помещений с
различными уровнями пола. Среди многочисленных киевских жилищ XI-XIII вв.,
раскопанных за последние два десятилетия, подобное сочетание двух помещений,
вплотную примыкающих одно к другому, встречено лишь один раз в раскопках
Необычность
плана раскопанного в
Ответ на этот вопрос был подучен в результате изучения инвентаря, найденного в обеих частях постройки, и характера их заполнения. Заполнение южной части полуземлянки несколько отличалось от заполнения северной части, В первой было значительно больше остатков горелого дерева, во второй заполнение состояло в основном из плотно слежавшейся глины. По-видимому, конструкция кровли различных частей жилища была не вполне тождественна.
Инвентарь, лежавший под завалом обрушившихся наземных частей постройки, распределялся весьма неравномерно: большая часть описываемых ниже иаходок обнаружена в южной части жилища, однако по своему характеру они иичем не отличались от немногочисленных находок в северной части, в частности, на полу северного помещения было найдено и несколько хрустальных бус, основная масса которых была рассыпана на лестнице и по полу у нижней ступени в южной части жилища. [с. 323]
Сказанное позволяет утверждать, что южное и северное помещения, возникшие, по-видимому, не вполне одновременно, к моменту катастрофы существовали как части единой постройки и в одно и то же время были разрушены пожаром.
Прежде чем обратиться к изучению многочисленного и разнообразного инвентаря, найденного в заполнении углубленной части обоих помещений и особенно на полу первого из них, необходимо остановиться еще на некоторых конструктивных особенностях сооружения.
Северное помещение представляет в плане удлиненный прямоугольник (3.5:2.4 м) о несколько округленными углами; возможно, эта округленность непервоначальна и является результатом оплыва лессовых стенок полуземлянки. Во всех четырех углах северного помещения сохранились круглые ямы от вертикально стоявших столбов. Ямы в северо-восточном и юго-восточном углах имеют весьма значительный диаметр и глубину; наоборот, ямки в северо-западном и юго-западном углах значительно меньшего диаметра и неглубоки.
В северном
помещении большая глубокая яма (глубина
В средней части обоих помещений ниже уровня пола были расположены еще по две округлых в плане ямы различного диаметра и глубины, с разнообразным заполнением. В одной из ям южного помещения, расположенной почти у южной стенки, был зарыт по горловину большой толстостенный красноглиняный сосуд.
Печь
находилась, по-видимому, у западной стенки южного помещения, напротив входа.
Здесь на лёссовой стенке сохранились куски обожженной докрасна глиняной
обмазки. Внизу к обмазке прилипли угли. Здесь же и особенно в северо-западном
углу был обнаружен завал брусковых кирпичей с продольными бороздками; вероятно,
печь была не глинобитной, как обычно, а, подобно описанной ниже печи в большом
жилище XIII в., раскопанном в
Возможно, что две небольшие круглые ямки от вертикально врытых столбиков, сохранившиеся в западной части южного помещения, были связаны также с печью. Никаких следов печи в северном помещении не обнаружено.
Вход в полуземлянку представляет собой несколько расширяющуюся книзу лестницу с вырубленными в плотном лёссе, хорошо сохранившимися четырьмя ступенями. Стенки жилища, пол его и ступени лестницы никаких следов глиняной обмазки не имеют. [с. 324]
Заполнение
южного помещения полуземлянки состояло в основном из обвала сгоревшие деревянных
наземных конструкций, в частности кровли, а также из завалов кусков глинобитных
стен постройки, порой докрасна обожженых, порой превратившихся в плотную
слежавшуюся глиняную массу. Особенно в большом количестве обуглившиеся обломки
досок, балок, столбов лежали в нижних горизонтах и, в частности, на полу. Среди
остатков сгоревших наземных частей постройки и особенно под ними на полу
обнаружен подвергшийся действию огня разнообразный инвентарь, находившийся в
жилище в момент катастрофы. По количеству и разнообразию находок полуземлянка
Как почти во
всех других жилищах, раскопанных в Киеве, инвентарь полуземлянки
К первой группе относятся прежде всего остатки разнообразной глиняной посуды, представленной как многочисленными обломками, так и несколькими целыми (или почти целыми) сосудами. Основную массу керамических изделий, находившихся в жилище, составляет кухонная посуда типичных для XII- XIII вв. форм. Это разного размера горшки с сильно отогнутыми венчиками, с одним или двумя ушками. По плечикам орнамент линейный, волнистый или в виде запятых. Почти целый горшок этого типа лежал на верхней ступеньке лестницы; второй, несколько большего размера, лежавший на поду, был разбит на мелкие куски, но при реставрации собран полностью.
Среди
найденных на полу фрагментов было несколько черепков, покрытых
зеленовато-желтой или зеленой поливой. Некоторые сосуды имели поливу лишь на
внешней поверхности, но встречались сосуды и с двухсторонней поливой. Как и во
многих других киевских жилищах XII-начала XIII в., в полуземлянке
К числу
обычных для киевских жилищ XII-XIII вв. глиняных изделий нужно отнести большой,
полностью сохранившийся толстостенный красноглиняный сосуд с широким низким
горлом и двумя ушками. Сосуд был зарыт в землю. Горловина его находилась ниже
уровня пола жилища и, по-видимому, прикрывалась доской иди плиткой. В
раскопанных ранее жилищах нам уже несколько раз приходилось отмечать, что
подобные сосуды, служившие для хранения зерновых запасов, стояли обычно в
специально вырытом в поду жилища углублении. В таком положении сосуд этого
типа, наполненный обгорелой пшеницей, был найден в “жилище художника” и в
полуземлянке VII, раскопанных в
Среди
керамических находок в полуземлянке
К числу керамических находок можно отнести также фрагмент половой майоликовой плитки, покрытой коричневой поливой; плитка несомненно происходит из какого-нибудь близ расположенного каменного здания и попала в жилище хотя и в древности, но случайно.
Наряду с глиняной посудой в жилище находились различные деревянные сосуды и ларпы, от которых сохранились лишь обуглившиеся кусочки дерева. Возле северного столба была найдена железная дужка от деревянного ведра. На полу лежали куски обуглившегося круглого плоского сосуда, наполненного зерном кодьзы. Сам сосуд сохранился очень плохо, но находившееся в нем зерно, превратившись под действием огня в обуглившуюся, плотно спекшуюся массу, позволило восстановить форму деревянного сосуда, в котором оно находилось.
Остатки обуглившихся зерен пшеницы встречались на полу порой весьма значительными скоплениями. По-видимому, хранившиеся в деревянных ларях запасы зерна, охваченные сначала пламенем пожара, потом под обвалом глинобитных стен жилища превратились в спекшиеся обуглившиеся массы.
Размол зерна производился тут же в жилище. Об этом свидетельствовала пара огромных каменных жерновов, лежавших в углу жилища, неподалеку от печи. Тут же были найдены обломки второй пары жерновов, значительно меньших по диаметру и по толщине.
Из других остатков пищи нужно отметить еще скопления рыбьих костей и чешуи.
Среди найденных предметов довольно значительное место принадлежит различным железным изделиям. В разных местах жилища найдено пять железных цилиндрических замков, ключ, нож, большое количество гвоздей, двузубая пешня (?) с поперечной круглой втулкой, кольцо и ряд бесформенных в результате коррозии предметов неизвестного назначения.
В жилище находилось немало изделий из бронзы, свинца и олова: две бронзовые круглые чашечки неизвестного назначения, бронзовая ручка от какого-то ларца (?), оловянная круглая ажурная подвеска, о крестом в середине. Кроме того, на полу найдено много расплавившихся от действия огня или испорченных коррозией бесформенных свинцовых, оловянных и бронзовых предметов.
К числу предметов личного имущества обитателей жилища нужно отнести, кроме перечисленных выше, фрагменты стеклянных витых и гладких браслетов и набор из 25 астрагалов для игры, о широком распространении которой в Киевской Руси с Х в. свидетельствуют находки наборов астрагалов, нередко украшенных разнообразными гравированными рисунками, в богатых погребениях, в жилищах и в культурных слоях древнерусских городов Х- XIII вв. [с. 326]
В верхних горизонтах заполнения полуземлянки были обнаружены золотая трехбусинная серьга и серебряная монетная гривна киевского типа. Трудно оказать, при каких обстоятельствах попали сюда эти драгоценные вещи.
Все перечисленные выше разнообразные предметы, найденные в заполнении углубленной части полуземлянки и непосредственно на полу ее, относятся к числу широко распространенных в Киеве и других городах Среднего Поднепровья изделий, вырабатывавшихся в XI-XIII вв. многочисленными городскими ремесленниками. Некоторые типы предметов (корчага, сосуд для хранения верна, белоглиняный ковш, сереоряная гривна) свидетельствуют о близости даты жилища скорее к концу этого периода (XII-начало XIII в.), чем к началу его. Найденная в завале постройки медная византийская монета VIII в. не связана со временем существования жилища.
Весь перечисленный выше инвентарь, находившийся в жилище к моменту его гибели, относится к числу предметов, связанных с бытовыми нуждами обитателей жилища.
Значение
полуземлянки
Как уже отмечалось выше, судя но обстоятельствам находки, бусы перед гибелью жилища, но-видимому, находились в корчаге. Выбегавший в спешке из горевшего жилища владелец в качестве самой драгоценной части своего имущества, вероятно, захватил с собой корчагу с бусами. Ои был уже на верхней ступени лестницы, когда корчага вывалилась у него из рук и разбилась на мелкие куски. Около полуторы тысячи бус рассыпались по лестнице. Может быть, лишь в овальном днище корчаги удалось вынести какую-то часть драгоценных изделий (напомним, что дна амфоры в жилище не оказалось).
Как попали полторы тысячи хрустальных бус в убогое жилище киевского горожанина XIII в.? Не может быть и речи, что полторы тысячи бус составляли какое-то ожерелье. Из такого количества, учитывая известные нам по погребениям этой поры наборы [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 211 и рис. 151], можно изготовить сотню, а то и две небогатых ожерелий.
Среди находок
в жилище нет заготовок, не найдено здесь и запасов сырья, как это было в
“жилище художника”, раскопанном в
В том же жилище были найдены четыре свинцовые гирьки с различными знаками и бронзовая чашечка от весов.
Раскопки
1946 г .
Жилище 1
Исключительный
интерес для изучения киевских городских жилищ имеют две полуземляночного типа
постройки, открытые раскопками Киевской археологической экспедиции в
Раскопки,
проведенные на двух почти смежных участках общей площадью в 104 кв.м, позволили
обнаружить отлично сохранившийся уголок древнего города (рис. 70 и табл. XXXVII) [М.К.Каргер.
1) Розкопки у Києві в 1946 р. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. I, Київ, 1948,
стр. 7-20; 2) Киевская экспедиция (
|
Рис. 70. План жилищ І и ІІ.
Б.Житомирская ул., д. 4. Раскопки |
Рис. 71. Разрезы жилища I. Раскопки
|
Ниже этого завала,
на глубине
Доски,
которыми были облицованы стены, лежали параллельно земляным стенкам выемки, на
расстоянии 0.10-
Параллельная
юго-восточной северо-западная стенка была обнаружена на глубине
Юго-западная
стенка жилища, перпендикулярная выше описанным юго-восточной и северо-западной
стенкам, также вырезана в материковом лёссе, но она имела одну особенность,
значение которой первоначально понять не удалось. Стенка эта в средней части
делает какой-то прямоугольный выступ, образующий пятый угол (рис. 70). В этом
углу была обнаружена круглая яма диаметром
Северо-восточная
стенка прослеживалась в материковом лёссе на протяжении
|
Рис. 72. Жилище I. План и разрез
печи. Раскопки |
Рис. 73. Жилище I. Печь. Раскопки |
В северном
углу жилища находится отлично сохранившаяся печь, почти круглая в плане, лишь
несколько усеченная со стороны устья (рис. 72). Под печи [с. 330] поднят над
уровнем пола жилища на 0.10-
Свод печи
имеет полусферическую форму. Стенки сохранились на высоту от уровня пода до
У
северо-западной стенки жилища, на расстоянии
Вся площадь жилища была завалена обгорелыми обломками деревянных частей постройки, обрушившихся при пожаре, и мощным пластом обгоревшей до красно-кирпичного цвета глины, из которой были, по-видимому, сделаны стены наземной части жилища. Особенно много обгорелого дерева и глины лежало вдоль стен (табл. XXXVIII).
Под этим завалом, на полу жилища или незначительно выше его, среди обгорелых деревянных обломков и обожженной глины, обнаружен разнообразный инвентарь, находившийся в жилище в момент катастрофы. Глиняная посуда, представленная в жилище как многочисленными фрагментами, так и целыми сосудами, принадлежит к широко распространенным в Киеве керамическим типам. Вся посуда сделана на гончарном круге. По форме большая часть фрагментов относится к типу горшков с отогнутым венчиком, покрытых в верхней [с. 332] части волнистым или линейным орнаментом; распространен также орнамент в виде запятых. Хорошо сохранившийся экземпляр этого типа посуды был найден у самого устья печи. Внутри горшка сохранились обгорелые зерна проса. Подле него, также у устья печи, был найден целый глиняный высокий кувшин, по форме близкий к типу сосудов, известных под названием “амфорок киевского типа”, широко распространенных среди находок на городищах Среднего Поднепровья XII-XIII вв.
Наряду с черной и серой кухонной посудой в жилище найдены также многочисленные фрагменты красногдиняной амфорной керамики отличного обжига.
К числу
характерных для этого же периода находок нужно отнести также фрагменты
стеклянных витых браслетов, шиферное пряслице, несколько железных трубчатых
замков и два экземпляра железных оковок заступов, совершенно аналогичных по
своей форме заступам, найденным на дне тайника, засыпанного в декабре
Среди вещей, характерных для домонгольского Киева, необходимо, кроме того, отметить находку отлично сохранившегося медного энколпиона с черновыми изображениями и несколько хрустальных шаровидных бус.
Большой
интерес представляют многочисленные находки обгорелых зерен различных злаков (пшеница,
просо, горох и др.), запасы которых хранились, по-видимому, в большом
деревянном ларе. Днище этого ларя (1.60:1.60 м), состоявшее из восьми обгорелых
плах разной ширины и одной поперечной балки (шириной
В том же углу жилища были обнаружены железные угловые оковки небольшого деревянного ларца и его обгорелые стенки, тут же лежали фрагменты обгорелых тканей нескольких видов. Обгорелые ткани и зерна были разбросаны также и по всей остальной площади жилища, в частности, грубая обгоревшая ткань была найдена возле печи.
К числу деревянных предметов, находившихся в жилище, нужно отнести фрагмент небольшого деревянного сосуда с остатками обгорелого зерна на дне, обломки ведра с железными обручами и дужкой и сундук, от которого сохранились лишь железные угольники и оковка с частями обгоревшего дерева.
Среди многочисленных остатков железных вещей следует упомянуть так называемый “чеснок”, дверную накладку (пробой), фрагменты цепи и кусок волоченой проволоки.
На полу
жилища были найдены обгорелые кости кота. Полный обгоревший скелет кота был
обнаружен под развалинами описанного выше “жилища художника”, раскопанного в
Пол жилища
ровный, обмазан глиной, степень его обжига различна; по-видимому, местами пол
подвергся действию сильного огня во время пожара. Следов разновременных
подмазок на полу не установлено. Толщина слоя глиняной обмазки в среднем
После окончательной зачистки пола и фиксации всех остатков деревянных конструкций, обгорелое дерево и глиняная обмазка пола были удалены. Как только после удаления глиняной обмазки пола открылся подстилавший его светлый материковый лёсс, стало ясно, что раскопанное жилище было выстроено не на пустом, нетронутом месте. В плотном светлом материковом лессе обнаружилось четко оконтуренное большое прямоугольное, почти квадратное в плане пятно. Заполнение в пределах этого пятна состояло из более рыхлого и более темного по сравнению с материковым лёссом культурного слоя.
Рис. 74.
Помещение со столбовой конструкцией под полом жилища I. Раскопки
По удалении
заполнения открылось почти квадратное углубление, стенки которого были
ориентированы точно по странам света (рис. 74). Южная, восточная и западная
стенки имели длину
Только теперь стало понятно, что прямоугольный выступ, который, как отмечено выше, прерывал прямую линию юго-западной земляной стенки верхнего жилища, представлял не что иное, как юго-западный угол вырытого значительно раньше прямоугольного сооружения, к моменту постройки нового жилища уже разрушенного. Остатки круглого столба в углу этого выступа, обнаруженные еще при зачистке пола верхнего жилища, принадлежали также не вновь сооруженному жилищу, а тому, развалины которого были в это время уже засыпаны.
В средней
части южной и северной стен нижнего сооружения были обнаружены несколько
меньшего диаметра (
Культурный слой, заполнявший прямоугольное углубление не был столь насыщен, как заполнение вышележащей полуземлянки, и существенно отличался от него по составу находок. Прежде всего в заполнении нижнего сооружения совершенно не встречались остатки обожженного дерева, составлявшего в верхнем жилище основную массу заполнения. Отличен и состав инвентаря, правда, сравнительно немногочисленного.
На полу сооружения было найдено большое количество крупных фрагментов от двух иди трех красноглиняных амфор, несколько фрагментов керамики, покрытой поливой – зеленой на внешней поверхности и зеленой с желтоватыми разводами на внутренних стенках сосуда. Большой интерес представляет находка на поду этого сооружения вислой свинцовой печати.
Общий характер сооружения, вырытого в материке, размеры его и особенно остатки конструкции в виде четырех угловых столбов и двух средних, по-видимому, поддерживавших двускатную крышу этой постройки, не оставляют сомнений в том, что перед нами тоже полуземляночного типа жилище, существовавшее, судя по его составу инвентаря, в несколько более раннюю пору исторической жизни Киева и разрушенное до постройки жилища, подробно описанного выше. В отличие от последнего более древнее жилище не имело (или не сохранило) печи. Если terminus ante quem разрушения этого нижнего жилища определяется датой иостройки верхнего жилища, то совершенно неожиданно заключительная фаза раскопок позволила установить и terminus post quem для его постройки.
После снятия
глиняной обмазки пода на всей площади верхнего жилища, в углу, образуемом
северо-западной стеной и печью, в светлом материковом лёссе, на глубине
Расчистка
этого пятна привела к обнаружению парного погребения в срубе. Характер
погребального сооружения и богатый инвентарь, найденный в нем, позволили отнести
это погребение к составу грандиозного языческого некрополя IX-Х вв.,
располагавшегося за рвом Киевского городища довладимировой поры [М.К.Каргер. 1) Дофеодальиый период истории Киева по
археологическим данным. – КСИИМК, 1,1939, стр. 9-10; 2) Погребение киевского
дружинника Х в. – КСИИМК, V, 1940, стр. 70-82; 3) К вопросу о Киеве в VIII-IX
вв. – КСИИМК, VI, 1940, стр. 61-
Выше уже
говорилось, что как валы и рвы городища, так и расположенный за ними языческий
некрополь, были уничтожены Владимиром Святославичем, значительно расширившим
границы города. Над древним некрополем IX-Х вв. в конце Х-начале XI в. вырос
новый город, в центре которого была в
Раскопки
1946 г .
Жилище 2
Рис. 75. Разрез
жилища II. Раскопки
На расстоянии
В южном углу жилища была обнаружена круглая яма с остатками вертикально стоявшего в ней столба. Остатки второго столба в круглой яме сохранились также в пентре жилища. Столб стоял вплотную у самой стенки печи. Затрудняемся решить, составлял ли этот столб часть конструкции перекрытия жилища, или же он связан с каким-либо подсобным устройством падатей и т.п. Судя по диаметру столба, не уступающему угловому столбу, и одинаковой глубине ям, более правдоподобным представляется первое решение.
Контур углубленной части жилища сохранился не полностью (табл. XXXIX). Хорошо сохранилась лишь юго-восточная стенка жилища и почти полностью перпендикулярная к ней северо-восточная. Юго-западная стенка сохранилась лишь в южной своей половине, северная половина ее, так же как и вся северозападная стенка, разрушены поздними глубокими ямами XIX в.
Воя северо-западная часть жилища прорезана глубоким погребом XIX в. с хорошо сохранившимися тремя большими вертикальными столбами (рис. 70). Глубокая поздняя яма прорезала и северную половину юго-западной стенки, разрушив заднюю (юго-западную) стенку печи. Несмотря на эти поздние разрушения, отличная сохранность всех других, не затронутых этими глубокими ямами частей жилища, позволяет реконструировать план жилища почти полностью. [с. 337]
Северная часть северо-восточной стенки обрезана поздней ямой почти у самого угла (северного) жилища, как это удалось проследить по хорошо сохранившемуся в этом месте глинобитному полу, границы которого позволили установить с полной несомненностью первоначальную длину северо-восточной стенки.
Хорошо сохранившаяся часть печи в западном углу жилища позволила подтвердить это наблюдение.
Жилище II имело почти квадратный план (3.00:3.15 м), было ориентировано совершенно аналогично жилищу I; северо-западная стенка жилища ІІ расположена на одной линии с северо-западной стенкой жилища I.
В западном углу жилища сохранилась большая глинобитная печь, круглая в плане, имевшая полусферическую форму. Печь была обращена устьем к северо-восточной стенке жилища. Задняя юго-западная стенка печи, как уже сказано выше, срезана поздней ямой. Глубокий погреб, разрушивший северо-западную стенку жилища, послужил впоследствии причиной оползня и северозападной половины печи, сильно накренившейся в сторону погреба, хотя и не обрушившейся туда целиком. Под печи не только получил сильный уклон в сторону ямы, но и глубокий разрыв почти по середине печи. Значительно сползла вниз и накренилась северо-западная половина свода.
Несмотря на эти разрушения, первоначальную форму и конструкцию печи удалось восстановить почти полностью (табл. XXXIX). Подобно многочисленным аналогичным печам, известным в ряде киевских построек XI – XIII вв., печь жилища II была сооружена на невысокой площадке невырубленного материкового лёсса и представляла глинобитную конструкцию с деревянным каркасом. Каркас этот, состоявший из тонких выгнутых прутьев, впоследствии выгорел, но прослеживался на внутренней поверхности свода печи в виде желобков-каннелюр, охватывавших всю внутреннюю поверхность печи. К сожалению, как и во всех подобных более ранних находках, обрушившаяся верхняя часть свода не позволила и в этом случае установить наличие или отсутствие дымохода.
Несмотря на оползень и разрывы, отлично сохранился сильно обожженный, совершенно гладкий под печи. Под глиняной обмазкой пода обнаружена выкладка из обломков керамики. Все сохранившиеся там фрагменты представляют образцы типичной киевской посуды, сделанной на гончарном круге с сильно отогнутыми венчиками, с характерным линейным и волнистым орнаментом. Многочисленные керамические находки на полу жилища почти ве отличались по своим типам от этих фрагментов. Погребом, разрушившим северо-западную часть жилища, было сильно повреждено устье печи, вследствие чего устройство его проследить полностью не удалось.
Очень хорошо
сохранился глиняный под жилища, неоднократно (до четырех-пяти раз) наново
подмазанный ровными слоями глины. Под полом у печи была обнаружена большая яма
(глубиной 0.50-
В отличие от жилища I, где не удалось обнаружить никаких признаков входа, в жилище II таковой хорошо прослеживался в северной части северовосточной стенки в виде спуска сверху до уровня пола. Никаких ступеней не сохранилось. Необходимо отметить, что вход этот оказался сплошь заваленным обломками плоского, квадратного по форме кирпича древнейшего типа (X в.) и большими кусками шифера; тут же было найдено несколько фрагментов фресок. Как и многочисленные другие находки древних строительных материалов на изучаемой территории, эти находки, не связанные с жизнью самого жилища, свидетельствуют о близости развалин древнего каменного сооружения домонгольского периода.
Пол жилища был усеян многочисленными предметами, несомненно составлявшими инвентарь владельца жилища накануне катастрофы, послужившей причиной гибели не только жилища, но и его владельца. Степень сохранности обнаруженного в жилище инвентаря различна. Общий характер находок не только не оставляет сомнений в отношении их хронологической атрибуции, но и благодаря своеобразности подбора всего комплекса позволяет высказать некоторые предположения о социальном облике владельца жилища. Основини датирующим материалом и здесь являются многочисленные керамические фрагменты и один целый глиняный горшок, украшенный орнаментом в виде запятых и имеющий клеймо на донце. Гончарные клейма на донцах встречены в жилище II и на ряде фрагментов. Наряду с типичной кухонной посудой найдены многочисленные обломки большого толстостенного сосуда для хранения верна и красноглиняных амфор. Общий характер керамических находок в жилище II совершенно тождествен составу находок жилища I.
Характерной особенностью инвентаря жилища II является обилие разнообразных железных изделий. Среди железных вещей, обнаруженных на полу жилища, многие предметы ввиду их крайней разрушенности в результате действия огня и коррозии, к сожалению, не поддаются определению. К числу их относятся изогнутая железная полоса, которая первоначально была принята за обломок меча, что при более тщательном рассмотрении не подтвердилось, и совершенно аморфные обломки железных изделий. Наряду с этим ряд железных вещей сохранился вполне удовлетворительно. К их числу относятся две косы, серп, безмен, замок, цепь от конских пут, долото, сверло, несколько ножей, стрелы. Обилия этих разнообразных по назначению железных предметов, может быть, было бы недостаточно для того, чтобы решить, что хозяин жилища-мастерской был кузнец, если бы наряду с этими вещами как в самом жилище, так и особенно за его северо-восточной стенкой (у входа) не было обнаружено большого количества криц и шлаков.
Кроме железных вещей, в жилище найдены разнообразные предметы, часть которых может быть связана не столько с производством, сколько с собственными нуждами хозяина: бронзовые чашки весов, свинцовые и глиняные гру[с. 339]зила, два каменных жернова, а также многочисленные кости животных и рыб.
Оба жилища по своему характеру относятся к широко распространенному в Киевской Руси типу полуземляночных построек с глинобитными стенами, возводившимися над вырезанным в материке прямоугольным углублением. Одно из жилищ было несколько больше по площади, чем второе, представляя сравнительно большую среди известных доныне киевских жилищ постройку.
В отличие от последних это жилище имело не глиняную, как обычно, а кирпичную печь, хотя и повторявшую по форме типичную для этого времени глинобитную печь с полусферическим сводом. Жилища, безусловно связанные между собой, расположены в нескольких метрах одно от другого на одной прямой линии и имеют одинаковую ориентировку.
Не вызывает никаких сомнений датировка всего комплекса инвентаря, найденного в обоих жилищах. Все находки в землянках относятся к широко распространенным в XII-XIII вв. в Киеве и в других городах Киевской земли типам вещей, что позволяет определить и дату обоих раскопанных жилищ в этих же пределах.
Состав
инвентаря обоих жилищ и особенно обстоятельства гибели их в стихийном пожаре,
сопровождавшемся ожесточенным сражением, результатом которого были груды
скелетов в развалинах жилища I и костяки двух людей, спрятавшихся в печи жилища
II, – все это позволило связать разрушение описанных жилищ с трагическими
событиями разгрома Киева татаро-монгольскими полчищами в декабре
Раскопки 1948 – 49 гг.
Рис. 76. План раскопок 1948 – 1949 гг. в усадьбе Киевского исторического музея. [с. 341]
Раскопки
Киевской археологической экспедиции 1948-1949 гг. дали новые ценные материалы
для характеристики киевского жилища домонгольской поры. Наряду с раскопками в
усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря, приведшими в
Раскоп был заложен на небольшом участке между двумя жилыми домами в южной части усадьбы Исторического музея (рис. 76).
Ничтожная площадь, доступная для раскопок, при весьма значительной глубине культурных напластований очень затрудняла работу. Однако, несмотря на это, раскопки (общая площадь их всего 32 кв.м) дали новые материалы [с. 340] для характеристики этого наиболее насыщенного древними памятниками района Верхнего Киева [М.К.Каргер. Розкопки на садибі Київського історичного музею. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. 3, Київ, 1952, стр. 5-10].
Раскопанный
участок по сравнению с другими участками заповедника, подвергавшимися в
различное время археологическим исследованиям, отличался исключительно четкой
неперебитой стратиграфией (рис. 77, 78), обещавшей хорошую сохранность глубоко
лежавших, не тронутых в позднее время древних пластов. Уже на весьма небольшой
глубине (0.50-
Рис. 79. План
жилища. Раскопки
Первоначально
казалось, что этот насыщенный древними строительными остатками сдой
сигнализирует о близости развалин какой-то каменной, богато украшенной
постройки. Однако на глубине 1.2-
Вдоль
северо-восточной стенки обнаружены три ямы от вертикально стоявших столбов с
остатками истлевшего дерева; две из них были расположены в углах, третья почти
посредине стены. Глубина ям от уровня пола жилища 0.12, 0.08,
По своему
типу и размерам открытая в
В заполнении
углубленной части полуземлянки, по преимуществу в нижних слоях этого заполнения
и особенно на полу, было найдено весьма значительное количество разнообразных
предметов, позволяющих понять, что полуземлянка
Инвентарь, найденный в полуземлянке, также распадается на две группы, К первой относятся предметы личного быта владельца постройки, служившей, как только что сказано, его жилищем, ко второй – предметы, связанные с ремесленным производством: орудия производства, различные отходы производства, отчасти готовая продукция.
К первой группе нужно отнести прежде всего многочисленные фрагменты керамики, в основном обломки кухонной и столовой посуды, типы и керамические особенности которой полностью повторяют широко распространенную в Киеве XII-XIII вв. глиняную посуду. Большая часть керамических находок представляет обломки горшков с сильно отогнутым венчиком, украшенных по плечикам линейным орнаментом, ниже которого расположены небольшие углубления в виде запятых. На донцах этих горшков нередки клейма. На внутренней поверхности стенок этого типа посуды следы запекшейся пищи; внешняя поверхность обычно сильно закопчена. [с. 344]
Как и во многие других киевских жилищах этой поры, на полу жилища были найдены обломки раздавленного большого толстостенного сосуда с довольно широким горлом и низкой шейкой, по-видимому, и здесь служившего в качестве хранилища запасов зерна. К распространенному в киевской керамике XII-XIII вв. типу посуды относится найденный в землянке белоглиняный плоский ковш с сильно выступающей ручкой. Обломки красноглиняных амфор были немногочисленны.
Вновь найдены образцы местной поливной посуды, покрытой с двух сторон светло-желтой, несколько зеленоватой поливой, а также сравнительно редко встречающиеся образцы глиняной посуды с росписью.
К числу предметов личного обихода владельца нужно отнести также обломки глиняных светильников, железную дужку от деревянного ведра, железные ножи и гвозди, обуглившиеся обломки какого-то деревянного сосуда с остатками перегоревшей муки, разбросанные в различных частях жилища остатки [с. 345] обуглившихся запасов зерна (пшеница, просо, горох), а также рыбьи кости и чешую.
По-видимому, к этой же категории бытовых вещей можно отнести два маленьких каменных крестика-тельника, янтарный крестик, хрустальную бусину и аморфные обломки каких-то костяных изделий.
Все перечисленные предметы и в особенности образны керамики, глиняные светильники, пять шиферных пряслиц, обломки стеклянных браслетов, железные замки, позволяют с уверенностью отнести раскопанное жилище к XII-XIII вв.
Особый интерес вызывают находки, которые можно с полной уверенностью считать остатками ремесленного производства владельца жилища. По всему полу жилища в весьма значительном количестве были разбросаны различной формы обрезки бронзовых пластинок и проволоки и разнообразные предметы, сделанные из бронзы.
Изучение
ближайшего окружения обнаруженного в
Рис. 80. План
жилища. Раскопки
В
противоположность участку, раскопанному в
Полуземлянка
представляла вырытую в материковом лёссе прямоугольную выемку размером
4.10:4.30 м. Все углы и стенки, вырезанные в плотном лёссе, имели очень
правильную геометрическую форму. По отношению к древнему горизонту пол землянки
углублен на
Посредине сохранилось пятно сильно обожженной глины; вокруг него – скопление золы и мелкого угля. Обожженная глина является, по-видимому, остатком пода глинобитной печи, перед которой расположена припечная яма, ааполиенная золой и углями. Необходимо отметить необычное для киевских жилищ положение печи в центре жилища. Между печью и южным угловым столбом находится еще одна неглубокая подпольная яма.
Никаких
следов пожара, столь характерных для большей части киевских жилищ, разрушенных
во время монгольского разгрома Киева в
Особый
интерес представляют найденные на полу жилища три фрагмента привозной поливной
посуды. Первый из них представляет довольно большой обломок красноглиняного
кувшина, декорированного орнаментальной росписью зеленой и желтой красками по
ангобу. Рисунок обведен черной вдавленной линией. Кувшин с аналогичной
орнаментацией был найден в Херсонесе в
По всем признакам жилище не было брошено своими обитателями в обстановке катастрофы, характерной для большей части ранее раскопанных киевских жилищ. Переместившиеся по тем или иным причинам на другое место обитатели жилища имели возможность забрать с собой все свое имущество, оставив на полу только ненужные черепки посуды и обломки костей. Может быть, это произошло при каких-либо работах по перепланировке княжого двора. Сказанное позволяет отнести жилище к несколько более раннему времени по сравнению с основной массой раскопанных в Киеве жилищ полуземляночного типа, но во всяком случае не ранее XI-начала XII в.
Среди древних предметов, найденных в окружении жилища, хотя с ним непосредственно не связанных, следует отметить ряд обычных массовых предметов, характерных для городских сдоев XI-XIII вв.: фрагменты керамики с линейным, волнистым и зигзагообразным орнаментом, стеклянные витые и гладкие браслеты, шиферные пряслица. Кроме того, найдены боевой топорик, наконечник железной стрелы, лицевая створка большого креста-энколпиона с гравированным изображением распятия, сохранившаяся целиком “амфорка киевского типа” и фрагмент толстостенного глиняного тигля с остатками плавленого серебра на внутренней поверхности стенок.
Раскопки В. А. Богусевича
В
В.А.Богусевич утверждал, что обе полуземлянки представляли собой “чисто срубные постройки”, изменяющие наши представления о характере жилищ домонгодьского Киева [там же, стр. 69]. Однако плохая сохранность сильно обгоревших деревянных частей построек не давала никаких оснований для реконструкции их в качестве “чисто срубных построек”. Сам исследователь сообщал о том, что раскопками обнаружено большое количество глиняной обмазки деревянных стен [там же, стр. 68], что также отнюдь не свидетельствует в пользу “чисто срубного характера” построек.
Внутри обеих построек не обнаружено никаких остатков печей. В первой постройке найдены обломки глиняной посуды, две обгоревших деревянных бочки, фрагменты стеклянных браслетов, обломок каменной литейной формочки, железные ножи и наконечники стрел. Наиболее интересной находкой является однолезвийный меч. Все предметы относятся к началу XIII в., что свидетельствует, по-видимому, о разрушении постройки во время татаро-монгольского разгрома Киева [там же, стр. 69]. Во второй постройке никакого инвентаря не обнаружено [там же]. [с. 348]
В
Весьма скудная документация, опубликованная исследователем, в частности полное отсутствие фотографий процесса раскопок, в то время как фиксация памятника состоит в основном из “реконструкций” автора, не убеждают в правильности интерпретации раскопанного им жилища как “большого трехкамерного наземного дома”.
Группа жилищ
полуземляночного типа была обнаружена раскопками Киевской археологической
экспедиции Института археологии АН УССР в
Бытовой материал, обнаруженный под обвалом верхних частей построек, состоит из многочисленных обломков керамики, шиферных пряслиц, фрагментов стеклянных браслетов и разнообразных железных изделий – трубчатых замков, аожей, обручей, гвоздей и пр. В одной из полуземлянок найдено большое количество отходов бронзодитейного производства, в том числе части бронзового юроса.
По составу
инвентаря большую часть жилищ исследователь отнес к первой половине XIII в. На
поду одного жилища была обнаружена свинцовая печать Ярослава Мудрого с
греческой надписью. Это жилище по составу керамических находок В.К.Гончаров
считал более древним, относя его к XI в. [там же, стр.
129-130] На том же участке были раскопаны плохо сохранившиеся остатки
какой-то наземной постройки, план которой, однако, реконструировать не удалось.
Под завалом был найден клад, состоявший из золотых и серебряных ювелирных
изделий, [с. 349] зарытый, по-видимому, в
Анализ работ
Недостаточно тщательные наблюдения в процессе раскопок жилищ и совершенно неудовлетворительная фиксация их, применявшаяся вплоть до недавнего времени, очень затрудняли задачу их реконструкции. Попытки реконструкции киевских и белгородских жилищ-мастерских, сделанные в начале XX в. В.В.Хвойкой, к сожалению, не сопровождались документальной графической фиксацией процесса раскопок, что делало малоубедительными все построения автора. Несмотря на довольно значительное количество жилищ, раскопанных в Киеве и в других городах южной Руси, наши представления о типе и конструкции массовых жилищ в южнорусских городах XI-XIII вв. до последнего времени были очень неточны и неполны.
Тщательно раскопанные за последние десятилетия остатки многочисленных жилищ-мастерских в различных городах южной Руси дали не только значительные новые материалы, но и позволили осмыслить и переоценить некоторые результаты предшествующих раскопок. Несколько десятков отлично сохранившихся жилых построек, раскопанных за это время в различных районах древнего Киева, позволяют достаточно детально изучить конструкции массовых городских жилищ, сделать попытку реконструкции их внешнего и внутреннего облика, исследовать вопрос о происхождении типа киевских жилищ и пр.
Многочисленные отлично сохранившиеся остатки жилищ, открытые в Киеве, неоспоримо свидетельствуют о том, что основным типом массового городского жилища, даже в самом крупном городском центре Киевской земли, вплоть до XII-XIII вв. продолжала оставаться полуземляночная постройка, нижняя часть которой представляла прямоугольное углубление, вырытое в грунте.
Над этим углублением возвышались глинобитные стены, деревянный каркас которых состоял из нескольких вертикальных столбов, врытых в землю, соединенных между собой немногочисленными деревянными перевязями, переплетенными тонкими прутьями.
Так как
углубленность нижней части жилища в землю была обычно довольно незначительна
(от 0.3 до
Пол и стенки вырытого в грунте углубления обычно бывают покрыты глиняной обмазкой. В плотном материковом грунте вырубались ступени входа, тоже обычно обмазанные глиной.
Глиняная обмазка нижней части стен, пола, ступеней нередко имеет явные признаки обжига. Однако до сих пор не удалось установить с уверенностью, подвергалась ли глиняная обмазка жилища обжигу при постройке, т.е. до возведения деревянного каркаса наземной части достройки, или же следы обжига в раскопанных жилищах являются результатом действия огня во время пожара, разрушившего эти жилища,
В отдельных
случаях вместо глиняной обмазки стенки углубленной части жилища были обложены
досками, которые укреплялись в пазах угловых столбов. Наиболее хорошо
сохранившийся пример подобной конструкции представлен жилищем I, раскопанным в
План описываемых полуземляночных сооружений всегда прямоугольный, чаще всего квадратный. Размеры постройки крайне незначительны, колебания в размерах невелики. Иногда попадались жилища, состоявшие из двух примыкающих вплотную одно к другому помещений.
Устройство кровли, как и вообще наземных частей жилища, пока не поддается точной реконструкции в деталях. Расстановка столбов в жилищах позволяет предположить обычно двускатную кровлю, хотя в отдельных случаях может быть применялась и односкатная. Над входом иногда устраивался навес – крыльцо на деревянных столбах, врытых в землю. В отдельных случаях исследователи отмечали наличие “сеней”, примыкавших к основной постройке.
Чрезвычайно
устойчивым является устройство глинобитной печи, которая по технике сооружения
как бы повторяет конструкцию самого жилища. Конструктивной основой ее является
деревянный каркас из прутьев, обмазанных глиной. В отдельных случаях основой
глинобитного свода печи были деревянные колья. Печь обычно устраивалась на
небольшом возвышении-постаменте, поднимавшемся над уровнем пола на 20-
Среди
киевских жилищ, раскопанных в последние годы, дважды встречены печи, сложенные
из брускового кирпича с бороздками на постельной части. Кирпич этого типа,
известный под названием “литовского”, обычно отно[с. 351]сили к XV-XVII вв.
Неоспоримые факты свидетельствуют, однако, что в хозяйственных постройках этот
тип кирпича в Киеве начали применять еще в XIII в., накануне монгольского
нашествия. Наиболее хорошо сохранившийся образец кирпичной печи обнаружен в
жилище I, раскопанном в
Лишь однажды в киевских жилищах была обнаружена печь, сложенная из камня (раскопки Д.В.Милеева в усадьбе Митрополичьего дома). По форме и она повторяла типичную сводчатую глинобитную печь. В полу земляночных жилищах Галича и Плеснеска, как показали раскопки этих городищ, каменные печи, сложенные на глине, представляли наиболее распространенный тип печей [I.Д.Старчук. Розкопки городища Пліснеська в 1947-1948 pp. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. III, Київ, 1952, стр. 383 и сл.].
Не только конструкция, но и самое наличие дымоходов пока не установлено.
Характерной особенностью киевских жилищ XI-XIII вв. является наличие во многих из них подпольных ям. Некоторые из этих ям служили, по-видимому, для хранения различных запасов, другие, размещавшиеся обычно возле печи, – для выгребания золы и угля из печи. Распространенным был обычай зарывать под пол большой глиняный сосуд для хранения в нем запасов зерна.
Подле жилищ, иногда примыкая к ним вплотную, также располагались разных размеров ямы, служившие хранилищем различных хозяйственных предметов и продуктов. Сверху они были, очевидно, прикрыты деревянными навесами. Распространенное наименование “зерновые” далеко не всегда правильно определяет их назначение [распространенное в археологической литературе наименование этих ям “зерновыми” восходит к Русской Правде, где сказано: “Аже крадеть гумно или жито в яме, то колико их будеть крало, то всем по 3 гривны и по 30 кун” (Правда Русская, II, стр. 393)]. Об этом свидетельствует большое количество костей животных и обломков различной посуды, найденных в этих ямах. Внутренняя поверхность ям часто бывает обмазана обожженной глиной.
Большая часть
жилищ, раскопанных в Киеве, несомненно относится к концу XII-XIII в. Многие из
них, как указывалось выше, были разорены и сожжены во время разгрома города
татаро-монгольскими полчищами в
Крайне
незначительные по площади участки, доступные для производства археологических
раскопок в Киеве, не позволяют до настоящего времени [с. 352] изучить вопрос о
характере планировки городские усадеб, улиц и площадей. Даже в редких случаях,
когда на более или менее значительной территории удавалось раскопать группу
жилищ, – решать вопрос о их взаимосвязи было очень трудно. Жилища, раскопанные
на территории Михайловского монастыря, расположены несомненно какими-то
группами. Полуземлянки I и II, VI и VII явно связаны между собой. Обращает
внимание устойчивая ориентация всех жилищ, раскопанных в
Перечисляя достаточно подробно разнообразный инвентарь, обнаруженный под развалинами жилищ, мы преследовали две цели. Находящиеся в жилищах разнообразные предметы, связанные с бытовыми нуждами их обитателей, позволяли точнее определить время разрушения жилищ, т.е. установить верхнюю дату их существования. Для решения одной этой задачи можно было бы, конечно, значительно сократить описание находок, сосредоточив внимание лишь на тех категориях предметов, которые поддаются наиболее точной датировке. Не делая этого, мы исходили из необходимости собрать материал и для решения другой не менее важной задачи. Бытовой инвентарь, находимый в жилищах, позволяет нагляднее, полнее и глубже понять социальный характер изучаемых жилищ.
Типичность, если не сказать стандартность, этого инвентаря и повторяющийся в различных городских жилищах Среднего Поднепровья его состав позволяет видеть в нем, по-видимому, характерный облик личного быта городского ремесленника XII-XIII вв., с его скудным достатком и крайне непритязательными условиями существования. Эти условия прекрасно отражены в литературном памятнике, почти современном изучаемым нами киевским жилищам. Рисуя приемом контрастного сопоставления с бытом господствующих классов быт “убогих”, автор писал:
“Сидяшту ти в зиму в тепле храмине и без боязни изнаживъшуся; въздъхни, помыслив о убогых, како клянять над малъмь огньцемь съкърчивъшеся большу же беду очима оть дыма имуште, руце же тъкмо съгревающе, плешти же и вьсе тело морозъмь измьръзже” [В.Шимановский. К истории древнерусских говоров. – Варшава, 1887, стр. 426].
Отрывок этот
взят из “Стословца Геннадия”, вошедшего в известный Изборник Святослава
2. Массовые жилища в городах южной Руси
Многочисленные жилища полуземляночного типа с глинобитными на деревянном каркасе стенами, открытые раскопками в Киеве, по их облику и конструктивной схеме ближайшим образом напоминают жилища Х-XIII вв., раскопанные в ряде других южнорусских городов.
Значительно
раньше, чем в Киеве, массовые жилища горожан были обнаружены на многочисленных
городищах Среднего Поднепровья. В числе наиболее ранних исследований этого
рода, давших весьма ценные материалы для характеристики городского жилища,
следует упомянуть раскопки, проведенные в 1891 – 1892 и в 1899 гг.
Н.Ф.Беляшевским на известном городище Княжа гора (к югу от г.Канева). Несмотря
на то, что большая часть городища оказалась полностью разрушенной
кладоискателями, Н.Беляшевскому все же удалось обнаружить десятки сохранившихся
в различной степени древних жилищ и хозяйственных построек [Н.Ф.Беляшевский. 1) Раскопки на Княжей горе в
К сожалению, графическая фиксация процесса раскопок либо вовсе отсутствовала, либо осталась в записных книжках Н.Ф.Беляшевского. План и многие конструктивные особенности жилищ были и для самого исследователя не вполне ясными, однако уже в первый год раскопок он совершенно правильно уловил основные черты жилищ Княжой горы.
“Остатков
дерева, – писал Н.Ф.Беляшевский, – сгнившего или обугленного, за небольшими
исключениями, совсем не найдено; некоторые указания могут дать найденные
сравнительно в небольшом числе куски обожженной глины, на которых с одной
стороны находятся отпечатки плетеных ветвей, – это остатки обмазки;
следовательно, – справедливо заключал автор, – на Княжой горе были постройки
плетеные, обмазанные глиной” [Н.Ф.Беляшевский.
Раскопки на Княжей горе в
Вывод Н.Ф.Беляшевского о том, что на Княжой горе существовали также и деревянные постройки, сделанный на основании находок гвоздей, костылей и различного рода пробоев [там же], едва ли может быть признан убедительным. Сам исследователь тут же подчеркивал, что на городище обугленного дерева было найдено очень мало – всего несколько незначительных кусков брусьев. Обнаруженный же в овраге под обрывом мощный завал мелкого угля Беляшевский [с. 354] справедливо считал остатками сгнившего деревянного частокола, которым было обнесено городище.
Все открытые на Княжой горе жилища, судя по описанию Н.Ф.Беляшевского, относились к типу полуземляночных построек. Следует отметить, что и сам исследователь назвал одно из раскопанных им жилищ “полуземлянкой” [Раскопки на городище “Княжа гора”, стр. 61].
Раскопками на
Княжой горе были обнаружены остатки глинобитных печей, число которых только в
первый год раскопок превысило два десятка. В
Многочисленные находки в жилищах не оставляют никаких сомнений в том, что основная масса их относится к XII – началу XIII в.
Несмотря на отсутствие чертежей и фотографий, описания жилищ, раскопанных на Княжой горе, позволяют достаточно наглядно представить их облик. Характеризуя одно из наиболее сохранившихся жилищ, исследователь отметил, что помещение это было тесным и неудобным, но с этим, по его мнению, “русским поселенцам половины XIII в., жившим на окраине Киевского княжества, в близком соседстве с дикими степняками, приходилось мириться” [там же].
Остатки
разрушенных полуземлянок, относимых, судя по находкам в них, также к XII-XIII
вв., были обнаружены в
Следы
полуземляночных жилдщ с сохранившимися остатками глинобитных печей были
обнаружены в
В
В том же году остатки жилищ-полуземлянок XI-XII вв. с разрушившимися печами были обнаружены раскопками В.В.Хвойки на городище у с.Конончи (у впадения р.Росавы в Рось) [АЛЮР, т. III, Киев, 1902, ноябрь, стр. 182].
Значительный
и весьма интересный материал для характеристики жилищ полуземдяночного типа был
получен в результате раскопок на обширном городище Шаргород (Васильковский
район Киевской области), производившихся в течение нескольких лет в начале
1900-х годов В.В.Хвойкой. К сожалению, результаты раскопок остались почти
неопубликованными, если не считать кратких информаций в различных периодических
изданиях того времени [Раскопки городища Шаргород. –
КС, т. XXII, Киев, 1901, март, стр. 201-202; Раскопки В.В.Хвойки летом
В восточной
части городища, около внутреннего вала, было обнаружено около десяти
разрушенных полуземлянок. Размеры их были различны, глубина не превышала
Жилища на городище Шаргород В.В.Хвойка сближал с жилищами, раскопанными им же на городищах у с.Витачева и у с.Конончи, упомянутыми выше. По составу находок В.В.Хвойка считал, что городище Шаргород, как и городище у с.Конончи, возникли еще в “языческое славянское время”, но продолжали существовать вплоть до монгольского нашествия [там же, стр. 102].
Комплекс разнообразных жилищ был обнаружен в 1909-1910 гг. раскопками В.В.Хвойки на городище древнего Белгорода [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья…, стр. 85-88; Н.Д.Полонская. Археологические раскопки В.В.Хвойко 1909-1910 гг. в местечке Белгородке. – Тр. Моск. предв. комитета по устройству XV арх. съезда, М., 1911, стр. 62-84]. Среди них особый интерес вызывают жилища знати, богато декорированные поливными майоликовыми плитками. К сожалению, облик этих жилищ не был выяснен раскопками с достаточной степенью полноты, что делает малоубедительными и попытки реконструкций их. Наряду с жилищами знати, которые, судя по описаниям В.В.Хвойки, представляли довольно крупные сооружения, в Белгороде были обнаружены и массовые жилища горожан. По словам исследователя,
“жилища [с. 356] эти представляли собой полуземлянки, незначительно возвышавшиеся над поверхностью земли. Пол и большая часть их деревянных стен находились в четырехугольном углублении, всегда вырытом в материковой глине. Эти полуземлянки были наибольших размеров; внутри они состояли из одного или двух помещений и в последнем случае разделялись деревянной стеной-перегородкой; в одном из помещений находилась печь или очаг. Нередко постройки эти имели крытые сенца, расположенные выше жилых помелений и соединявшиеся с ними земляными ступенями” [В.В.Хвойка. Древние обитателя Среднего Приднепровья…, стр. 88].
Возросший интерес к изучению поселений и, в частности, к изучению древнерусских городов, характерный для советской археологической науки, позволил значительно умножить за последние три десятилетия наши материалы для характеристики массовых жилищ горожан. Раскопанные и тщательно изученные городские жилища-мастерские исчисляются теперь уже не десятками, а сотнями.
Свыше десятка жилищ-полуземлянок было обнаружено в 1932-1934 гг. на известном Райковецком городище, детинец которого был раскопан полностью [Т.Молчанівський. 1) Райковецьке городище XI-XIII ст. – НЗІІМК, кн. 5-6, Київ, 1935, стр. 139-140; 2) Матеріали дослідної роботи Райковецької археологічної експедиції в 1934 р. – НЗІІМК, кд. 2, Київ, 1937, стр. 47-50; В.К.Гончаров. Райковецкое городище. – Киев, 1950, стр. 48-49]. Значительное количество жилищ этого же типа раскопано также в приселках расположенных за валами и рвами городища [Т.Молчанівський. Райковецьке городище XI-XIII ст., стр. 145-147; В.К.Гончаров. Райковецкое городище, стр. 49-57. О новых раскопках на посаде см.: В.К.Гончаров. Посад і сільскі поселення коло Райковецького городища. (За матеріалами експедиції 1946 р.). – Археологічні пам’ятки УРСР, т. І, Київ, 1949, стр. 35-47]. Жилища имели прямоугольный, несколько вытянутый по линии В-З план. Средние размеры жилищ 2.8:3.2 м. Пол в жилищах обычно земляной, сильно утрамбованный. В некоторых жилищах не только пол, но и стены углубленной части были обмазаны глиной и обожжены. В полуземлянках найден разнообразный инвентарь, характеризующий их не только в качестве жилищ, но почти во всех случаях и как ремесленные мастерские.
Значительный
комплекс построек полуземляночного типа был открыт раскопками 1934-1937 гг. в
Вышгороде [В.Й.Довженок. Огляд археологічного
вивчення древнього Вишгорода за 1934 – 1937 pp. – Археологія, т. III, Київ,
1950, стр. 68-72]. Здесь благодаря тому, что раскопки проводились на
достаточно широкой площади, удалось обнаружить целую систему жилищ и
хозяйственных построек, расположенных двумя параллельными рядами вдоль
восточного края городища. Между двумя рядами построек тянулась незастроенная
полоса шириной около
Несколько
новых жилищ и хозяйственных построек полуземдяиочного типа было открыто в
Вышгороде раскопками В.И.Довженка в
Большого
размера полуземлянка с очагом в центре была открыта в
Шесть жилищ
полуземляночного типа открыто в
Замечательный
комплекс, состоящий из шестнадцати жилищ полуземляночного типа, открыт
раскопками В.К.Гончарова в 1948-1950 гг. на городище у с.Колодяжное
(Житомирской области), представляющем остатки древнерусского города Колодяжин,
упомянутого в летописи под
Все жилища
четырехугольной формы, средней площадью 10-10.3 кв.м. По углам находятся
углубления от столбов. На полу отдельных жилищ обнаружено [с. 358] много угля,
золы, куски обгорелых брусьев и досок – очевидно, остатки перекрытий и
деревянной обшивки стен. В одном из жилищ вдоль стены была расположена лежанка,
вырезанная в плотном грунте; над уровнем пола она возвышалась не более чем на
15-
Как и на
Райковецком городище, в Колодяжине существовали, кроме того, жилые и
производственные постройки, размещавшиеся в деревянных клетях внутри земляного
вала, опоясывавшего городище. Как полуземлянки, так и жилища в валу были
сожжены и разорены во время разгрома городища татарами в
Рассмотренные выше городища довольно кучно расположены по правобережью среднего течения Днепра и его притоков. Все они в XI-XIII вв. входили в состав Киевской земли и составляли ближайшее окружение Киева. Не следует, однако, думать, что распространение интересующего нас типа жилилища в это время ограничивалось указанной территорией.
Жилища
полуземляночного типа хорошо известны в городах Днепровского Левобережья. Еще
на XII археологическом съезде в Харькове (
Несмотря на то. что раскопки велись узкими траншеями, удалось выявить два жилища, одно из которых было раскопано полностью. Жилища Донецкого городища представляли собой прямоугольные углубления. Стенки их были облицованы досками, укрепленными в угловых столбах, от которых сохранились обуглившиеся остатки. В жилище вела лестница, вырезанная в плотном лёссовом грунте.
На полу сохранились остатки печи, основание которой покоилось на особой земляной присыпке и состояло из ряда камней, обмазанных глиной. Стенки печи были сделаны также из глины на деревянном каркасе, по словам исследова[с. 359]теля, – на плетенке или решетке, отпечатки которой хорошо сохранились на многих кусках обожженной глины [В.А.Городцов. Результаты исследовании. .., стр. 113].
По основному составу находок В.А.Городцов относил жилища Донецкого городища к XI-XIII вв., рассматривая само городище как одно из южных поселений, выдвинутых Переяславским или Черниговским княжеством при сыновьях Ярослава. Сгоревшие стены жилищ, обильно рассыпанные повсюду уголь и золу исследователь склонен был считать доказательством насильственного разорения городища татарами [там же, стр. 120-121].
Раскопками
Ближайшую
аналогию жилищам Донецкого городища представляет прямоугольная в плане
полуземлянка, раскопанная в
В углубленной части жилища были обнаружены остатки обугленных бревен (досок?), которые, по выражению В.А.Городцова, служили “одеждой стен” землянки. В углах находились “остатки столбов, служивших для связи и упора деревянных стен землянки”. В одном из углов жилища беспорядочным слоем лежали камни и обожженная глина – остатки глинобитной печи [В.А.Городцов. Результаты исследований…, стр. 129].
Две
полуземлянки XI-XIII вв. открыты в
Хорошо
сохранившееся жилище полуземдяночного типа обнаружено разведочными раскопками
Остатки жилищ полуземляночного типа и различных хозяйственных построек при них обнаружены недавно в Чернигове. Среди них заслуживает внимания постройка, внутри которой были найдены поливные плитки пола, что, по-видимому, свидетельствует о том, что постройка принадлежала к числу жилищ знати. К сожалению, она была раскопана не полностью [В.А.Богусевич. 1) Про топографію древнього Чернігова. – Археологія, V, Київ, 1951, стр. 125; 2) Роботи Чернигівської експедиції. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. III, Київ, 1952, стр. 120-121].
Два жилища
полуземляночного типа были открыты нашими раскопками
Раскопками последних двух десятилетий жилища полуземляночного типа с глинобитными стенами на деревянном каркасе обнаружены и на городищах XI-XIII вв. Галицко-Волынской земли.
Несколько полуземлянок с печами были раскопаны в 1934-1936 гг. на большом городище у с.Коршив Луцкого района Волынской области, одна полуземлянка этого же типа была открыта за валами городища. Инвентарь, найденный в жилищах, относился к периоду Киевской Руси. К сожалению, конструктивные особенности жилищ не привлекли внимания исследователей [О.Ратич. Древньоруські археологічні пам'ятки на території західних областей УРСР. – К., 1957, стр. 10; см. также: Z.Leski. Wczesnohistoryczne grodzisko w Korszowie, pow.Łuckim, woj. Wołyńskim. – Poznań, 1937, стр. 1-4].
Три прямоугольных в плане полуземлянки с печами в одном из углов раскопаны в 1938-1939 гг. М.Ю.Смишко на городище Городница на Днестре (Городенковского района Станиславской области). На полу жилищ найдены человеческие костяки с остатками оружия и немногочисленный инвентарь. По мнению исследователя, городище и, в частности, раскопанные жилища были разрушены во время татаро-монгольского нашествия [О.Ратич, ук. соч.,стр.44-45; см. также: Wiadomosci archeologiczne, VI, стр. 184- 185].
Характер массовых жилищ древнего Галича долгое время был неясен. На различных участках городища и, в частности, на урочище “Золотой ток”, были [с. 361] обнаружены в значительном количестве остатки глинобитных печей на деревянном каркасе и печей-каменок [Я.Пастернак. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850-1943 pp. – Краків-Львів, 1944, стр. 141-179].
Возле печей
находились ямки от столбов, которые исследователь справедливо считал остатками
жилых сооружений. Только одно из них было изучено более тщательно. Жилище имело
почти квадратный план (7.5:7.5 м). Стены его состояли из вертикально врытых
толстых столбов и плетня, обмазанного глиной. Исследователь называл эту
постройку “ліп’янкой” (т.е. мазанкой) [там же, стр.
174]. Три полуземлянки Х-XI вв. отличной сохранности были открыты нашими
раскопками в
Замечательный комплекс жилищ полуземляночного типа открыт раскопками 1946-1948 гг. на городище Плеснеск, представляющем развалины древнерусского города, упомянутого в летописи и в “Слове о полку Игореве”. В западной части детинца городища было открыто двадцать отлично сохранившихся жияшц полуземляночного типа [I.Д.Старчук. 1) Розкопки на городищі Пліснесько. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. I, Київ, 1949, стр. 76-85; 2) Розкопки городища Пліснеська в 1947-1948 pp., стр. 379-394; О.Ратич, ук. соч., стр. 25-30]. В углах жилищ сохранились остатки вертикально врытых столбов. Нередко остатки столбов обнаруживались также и посредине стен, иногда по два, а то и по три рядом.
В некоторых жилищах к столбам была прикреплена деревянная, плетенная из прутьев или сделанная из колотых тесанных досок обшивка стен. В углах жилищ находились печи-каменки. Вдоль стен во многих полуземлянках были расположены лавки-лежанки, вырезанные в плотном материковом грунте и обшитые тесаными досками. Исследователь высказывал предположение, что к некоторым земляным лежанкам примыкали также деревянные нары. Под полом жилищ часто устраивались ямы с обожженными стенками. На дне одной из них сохранились остатки деревянной выстилки; в другой яме находились обломки большого глиняного сосуда. Много хозяйственных ям расположено и возле жилищ.
По мнению исследователя, жилища полуземдяночного типа существовали в Плеснеске с IX по XI в. В XI в. на месте полуземлянок возникли наземные жилища. И.Старчук пытался связать новый тип жилищ с новым этапом в развитии города.
“Раскопки, – писал он, – показывают, что в насыпи валов встречается материал, который датируется не раньше XI ст. Следовательно, укрепления могли возникнуть приблизительно в XI ст. Они, как и другие показатели дальнейшего закабаления населения, роста феодальной верхушки, свидетельствовали о новой ступени общественного развития, в результате которого полуземляяочные жилища исчезли и появились жилища наземные (!? – М.К.)” [I.Д.Старчук. Розкопки городища Пліснеська в 1947-1948 pp., стр. 385].
Ни план, ни общий характер этих “наземных” жилищ раскоп[с. 362]ками не был выяснен. В качестве единственного свидетельства их существования исследователь указывал на развалы глинобитных печей с деревянным каркасом, найденные в верхнем слое городища [там же, стр. 388].
Вплоть до недавнего
времени жилища полуземляночного типа, с глинобитными стенами, на деревянном
каркасе считались характерной особенностью домостроительства лишь в южнорусских
городах. Северной границей распространения этого типа жилища считалась граница
лесостепи и леса. Для жилищ десной полосы характерным признавалось срубное
наземное жилище [М.К.Каргер. Жилище Киевской
земли. Рефераты научно-исследовательских работ за
Полуземляночные
жилища южнорусского типа были обнаружены в 1946- 1948 гг. раскопками
А.Л.Монгайта в Старой Рязани. После раскопок на этом городище, проведенных в
Раскопками
последних лет установлено, что наряду со срубными наземными постройками в
Рязани был достаточно широко распространен и тип полуземляночных жилищ с
глинобитными стенами на деревянном каркасе [А.Л.Монгайт.
1) Древнерусские жилища XI-XIII вв. (по раскопкам в Старой Рязани). – СЭ, 1948,
№ 4, стр. 54-69; 2) Старая Рязань. – МИА СССР, №
В раскопках
Остатки
рязанских полуземлянок представляют прямоугольные в плане углубления размером
около 4:3 м с хозяйственными подпольными ямами. При выкапывании ямы для жилища
в углу оставлялась небольшая площадка высотой около
Многочисленные куски глиняной обмазки, разбросанные по всему жилищу, лежавшие иногда в значительном отдалении от печи, по мнению исследователя, представляли остатки обмазки деревянных (досчатых или из хвороста) стен [с. 363] жилища [А.Л.Монгайт. Древнерусские жилища XI-XIII вв., стр. 56-57]. Жилища полуземляночного типа, открытые в Рязани, относятся к тому же времени, что и срубные жилища, т.е. к XI-XIII вв.
Полуземляночные жилища, открытые в 1936-1940 гг. раскопками А.Ф.Дубынина в Суздале, отличаются от южнорусских весьма существенными конструктивными особенностями [А.Ф.Дубынин. Археологические исследования г. Суздаля (1936-1940 гг.) – КСИИМК, XI, 1945, стр. 91-97]. Мысль об их южнорусском происхождении мы считаем маловероятной.
3. Заключительные замечания
В последние
годы некоторые украинские археологи высказывали сомнения в правильности
изложенной выше характеристики массовых жилищ Киева и других городов Среднего Поднепровья.
Так, В.К.Гончаров писал в
“Я полагаю, что выводы некоторых исследователей о землянках как основном типе жилищ в Поднепровье ошибочны. Целый ряд городов Киевской Руси, которые исследовались большими площадями (Райковепкое городище, древний Городск на реке Тетерев, Искоростень и др.), ясно показывают, что древние русские города строились из рубленых наземных деревянных жилищ” [В.К.Гончаров. Райковецьке феодально городище XI-XIII ст. ст. – Вісник АН УРСР, Київ, 1948, №7, стр. 50; см. также: В.К.Гончаров. Посад і сільскі поселення коло Райковецького городища. – Археологічні пам’ятки УРСР, т. І, Київ, 1949, стр. 43].
О каких срубных, наземных, деревянных жилищах здесь идет речь? Где, когда и кем они были открыты? В качестве доказательства, отвергающего изложенные выше документально и бесспорно установленные многочисленные факты, В.К.Гончаров ссылается на открытые в названных им городищах деревянные клети в земляном валу, ограждавшем эти городища, часть которых, как известно, действительно использовалась в качестве жилья. Нет необходимости доказывать, что деревянные конструкции внутри земляных валов, даже в тех случаях, когда они в немногочисленных городищах определенного типа действительно использовались в качестве жилья, не имеют ни малейшего отношения к вопросу о массовых жилищах горожан, Кстати, эти “срубные жилища” ни в какой степени нельзя назвать “наземными”, ибо они находились целиком под высокой земляной насыпью валов.
Теорию о
срубпых жилищах как основном типе массовых жилищ в южнорусских городах, и в том
числе в домонгольском Киеве, дважды пытался подкрепить результатами своих
раскопок В.А.Богусевич. Еще в
“чисто срубными постройками, которые существенно дополняют и изменяют наши представления о характере жилищ Киева домонгольской поры” [там же, стр. 69].
“Существование срубных сооружений при постройке жилых и фортификационных комплексов, – по словам В.А.Богусевича, – было уже известно, однако срубные постройки считались, как и когда-то, характерными для севера и не характерными для Киева и других южнорусских городов. Теперь, на основе наблюдений над культурными слоями Киевского Подола, выявленными на улицах во время земляных работ, было установлено, что в период Киевской Руси там были многочисленные деревянные срубные постройки наземного типа” [там же].
Автор
полагал, что “срубные постройки, найденные на Киселевке в
Выше, при
характеристике результатов раскопок
Отрицая,
вслед за В.К.Гончаровым распространенность жилищ полуземляночного типа в Киеве,
В.А.Богусевич выдвинул теорию о том, что “полуземлянки были результатом лишь
временных тяжелых обстоятельств, как например великий разгром, пожары и другие
крупные бедствия” [В.А.Богусевич.
Археологические раскопни
Совершенно
невозможно признать убедительной попытку В.А.Богусевича интерпретировать
остатки обнаруженного им в
Теория о “срубных наземных домах” как основном типе жилищ в Киеве и в других городах Среднего Поднепровья в последние годы повторяется в изданиях Института археологии АН УРСР по различным поводам вопреки очевидным фактам. Так, несмотря на то, что раскопками, проведенными экспедициями того же Института в Вышгороде в 1934-1937 гг. были открыты многочисленные, хорошо сохранившиеся жилища полуземляночного типа, иногда представлявшие целые улицы [см.: Отчет о раскопках в Вышгороде в 1935-1937 гг. Архив ИА АН УССР], В.И.Довженок, давая сводную характеристику результатов археологических исследований Вышгорода, утверждал, что
“не отвечающая действительности мысль о том, что полуземляночный тип жилищ был доминирующим в Киевской Руси, обусловлена лишь тем, что наземные деревянные постройки в этих городах трудно выявить” [В.И.Довженок. Огляд археологічного вивчений древнього Вышгорода…, стр. 71-72].
Несмотря на
серьезно обоснованные сомнения, высказанные на пленуме ИИМК АН СССР по поводу
упомянутого выше доклада В.А.Богусевича, в отчете о научной деятельности
Института археологии за
“Открытие большого деревянного дома, принадлежавшего ремесленнику, подтверждает, что в древнем Киеве строили не только землянки. Более того, в свете раскопок на Подоле можно считать, что землянки, обнаруженные возле каменных княжеских и боярских дворцов и храмов Верхнего города, не были характерным типом жилищ для основной массы населения Киева” [I.Г.Шовкопляс. Наукова діяльність Інституту археології в 1950 р. – Археологія, VI, Київ, 1952, стр. 147].
Многочисленные остатки массовых жилищ, открытые раскопками в южнорусских городах Х-XIII вв., несмотря на некоторые отличительные особенности, характерные для отдельных групп жилищ, несомненно свидетельствуют о широком и повсеместном для южной Руси распространении типа полуземляночных жилищ с глинобитными стенами на деревянном каркасе. Именно этот тип жилищ, судя по материалам раскопок на территории многочисленных южнорусских городов и городищ, далеко не полно перечисленных выше, являлся основным для архитектурного облика этих городов в Х-XIII вв.
Разумеется,
сказанное ни в какой мере не исключает того, что наряду с массовым типом жилищ
в тех же городах существовали и деревянные срубные хоромы знати и богатых
людей, не говоря уже о том, что во многих крупных городах далеко не
исключительными были и каменные жилые постройки дворцового характера. Терема и
хоромы, нередко упоминаемые в письменных источниках, несомненно, представляли
собой сложные деревянные постройки, [с. 366] которые безусловно в дальнейшем
будут обнаружены и археологами. Открытая раскопками
Тип
полуземляночных построек с глинобитными стенами на деревянном каркасе,
характерный для южнорусских городов Х-XIII вв., в такой же мере был присущ и
сельским поселениям той же поры, к сожалению, очень мало изученным. Об этом
свидетельствуют результаты раскопок
Тип
полуземляночных построек с дерево-глинобитными стенами уходит своими корнями в
более ранний период истории восточного славянства. Нельзя не заметить, что
описанные выше жилища Х-XIII вв. в основных их особенностях не отличаются от
тех полуземляночных жилищ, которые характерны для славянских поселений VIII-Х
вв. в лесостепной полосе Восточной Европы. Жилища этого типа, обнаруженные
впервые около полувека тому назад раскопками Н.Е.Макаренко на городищах
Днепровского Левобережья [Н.Е.Макаренко. 1)
Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губ. в
Жилища,
раскопанные на городище Монастырище [М.Макаренко.
Городище Мовастырище, стр. 1-23], на городищах у с.Петровское [П.М.Третьяков. Стародавні слов’янські городища у
верхній течії Ворскла. – Археологія, І, Київ, 1947, стр. 129-134], у
с.Опошня [И.И.Ляпушкин. Материалы к изучению
юго-восточных границ восточных славян VIII-Х ст. – КСИММК, XII, 1946, стр.
118-127], у с.Курган [В.Й.Довженок.
Розкопки біля с.Волинцевого Сумської області. – Археологічні пам’ятки УРСР, т.
III, Київ, 1952, стр. 253-259], на озере Буромка [В.Козловская. Остатки славянского городища и дюнная
стоянка неолитической эпохи на озере Буромка Черниговской губ. Сосницкого
уезда. – ИТУАК, Симферополь, 1912, стр. 135-151], у с.Песочный Ров [М.В.Воеводский. Важнейшие итоги Деснинской
экспедиции
Вопросы датировки названных поселений, еще недавно возбуждавшие много противоречивых толкований [Б.А.Рыбаков. 1) Анты и Киевская Русь. – ВДИ, 1939, 1, стр. 322; 2) Ранняя культура восточных славян. – Исторический журнал, 1943, № 11-12, стр. 73-80], в настоящее время могут считаться решенными. Основная масса этих поселений, по крайней мере на Левобережье Днепра, относится к VIII-X вв. [И.И.Ляпушкин. О датировке городищ роменско-боршевской культуры. – СА, IX, 1947, стр. 121-135] Весьма вероятно, что поселения этого типа, обнаруженные в последнее время на Днепровском Правобережье, окажутся несколько более древними.
В настоящем исследовании, посвященном вопросам истории материальной культуры древнейшей столипы Русского государства, нет необходимости выяснять более глубокие корни процесса формирования восточнославянских жилищ. Углубленное изучение этого вопроса тесно связано с не решенными еще более общими вопросами формирования восточного славянства и восточнославянской культуры. В настоящем контексте для нас вполне достаточным является вывод о том, что массовые жилища древнего Киева, как и городские и сельские жилища Киевской, Черниговской, Переяславской и Галицко-Волынской земель в XI-XIII вв., представляют дальнейшее развитие восточнославянских дерево-глинобитных жилищ полуземляночного типа, повсеместно распространенных в VIII-Х вв. в лесостепной полосе Восточной Европы. [с. 368]
Городское ремесло
Ремесла – причина градом.
В.Татищев, История Российская. 1768.
1. Вводные замечания
Киевские летописи часто и подробно повествуют о деятельности князей и крупнейшего боярства, значительно реже упоминают о купцах и лишь в отдельных эпизодических репликах вспоминают о ремесленниках, составлявших основную массу городского населения. Несомненно, однако, что в составе нередко упоминаемой летописцем “простой чади” или под термином “люди” подразумевался прежде всего городской ремесленный люд, игравший порой не последнюю роль в политических событиях, разыгрывавшихся на улицах и площадях древнерусской столицы. Ремесленник и ремесленница упоминаются в статье Пространной Русской Правды, определяющей штрафы за убийство различных представителей княжеского двора. Пространная Правда оценивает “ремественика” в 12 гривен, приравнивая его к сельскому и ратайному тиунам, т.е. к представителям княжеской администрации. Простого смерда иди холопа та же Правда оценивает только в 5 гривен [Правда Русская, т. II. М.-Л., 1947, стр. 317-318].
Весьма любопытны, но очень случайны повествования о ремесленниках, сохранившиеся в Печерском патерике и в некоторых древних житиях.
До тех пор пока исследователи древнего Киева опирались почти исключительно на письменные источники, облик Киева как крупнейшего центра древнерусского ремесла оставался непонятым; значение ремесленников в сложении богатой культуры Киевской Руси явно недооценивалось. [с. 369]
Остатки массовых жилищ древнего Киева, подробно охарактеризованные в предыдущей главе, неоспоримо свидетельствуют о том, что почти каждый городской дом был не только жилищем, но одновременно служил и мастерской, Об этом говорят найденные внутри жилищ и возле них многочисленные орудия производства, заготовки, полуфабрикаты и отходы различных производств,
Нередки находки и специальных производственных сооружений (гончарные, стекловарные и литейные горны, кирпичеобжигательная печь и т.п.), не связанных непосредственно с жилищами.
Не только окраинные районы, сплошь заселенные “черным” городским ремесленным людом, но и центральные участки древнего Киева оказались в значительной мере занятыми ремесленными мастерскими. Число раскопанных жилищ-мастерских увеличивается с каждым годом. Тщательное изучение этих памятников позволяет уже теперь в основных чертах нарисовать правдивую картину жизни феодального города и основу этой жизни – городское ремесленное производство. Многие предметы ремесленного производства, ранее известные только по случайным находкам и потому обычно трактовавшиеся старыми археологами и историками как предметы импорта, ныне обнаружены в мастерских в различных стадиях производства наряду с орудиями производства этих предметов.
Чрезвычайно развитое и разнообразное ремесленное производство было обнаружено раскопками, начатыми еще В.В.Хвойкой в 1907-1908 гг. и продолжающимися с исключительными результатами доныне. Многолетние раскопки в районе Десятинной церкви позволили установить, что даже в этом центральном, наиболее аристократическом районе Киева Х-XIII вв. вблизи от роскошных княжеских дворцов и отличавшейся исключительной пышностью Десятинной церкви, ютились землянки – мастерские княжеских холопов. Тем большие надежды в отношении изучения городского ремесла должны вызывать еще почти не подвергавшиеся серьезным раскопкам окраинные районы города, некогда сплошь заселенные “черным” городским людом.
О развитом городском ремесле свидетельствуют также бесчисленные остатки разнообразнейшей продукции киевских ремесленников, не только удовлетворявшей нужды различных социальных слоев древнерусской столицы, но и широко распространявшейся за ее пределами.
Учитывая незначительность открытой раскопками части древней городской территории, не следует, разумеется, обольщаться надеждой, что археологические материалы уже сейчас позволяют охарактеризовать состояние городского ремесла IX-XIII вв. с достаточной степенью полноты. Значительные районы древнего города: территория Ярославова города, Копырев конец, Печерск, Борестово и, наконец, заселенные, по-видимому, преимущественно ремесленниками Подол, Гончары, Кожемяки и некоторые другие районы – до настоящего времени еще почти не затронуты археологическими исследованиями.
При решении вопросов, связанных с изучением городского ремесла, нужно также иметь в виду, что и территория Владимирова города и примыкающая [с. 370] к ней территория Михайловского Златоверхого монастыря, которые представляют наиболее исследованные районы древнего города, подверглись раскопкам весьма неполно и отрывочно. Даже на этой территории ввиду почти сплошной застройки ее в позднейшее время археологические исследования могли быть осуществлены лишь на отдельных, разобщенных между собой довольно незначительных участках.
Из сказанного отнюдь не следует, что материалы, накопленные в результате археологических исследований Киева, бесполезны для изучения вопросов городского ремесла. Наоборот, мы уже отмечали, что раскопки древнего Киева дали огромный и исключительно важный материал для характеристики этого города в качестве крупнейшего ремесленного центра древней Руси. При всей неполноте этого материала он уже давно заслуживает систематизации и более широкого, чем это делалось доныне, привлечения для решения важнейших общеисторических задач.
При пользовании археологическими материалами для изучения вопросов истории древнерусского городского ремесла необходимо преодолеть две традиции, глубоко укоренившиеся в нашей историографии. Первая из них присуща исследованиям различных древнерусских городов, вторая характерна для историографии Киева.
Отнюдь не
всякая единичная находка предмета, связанного с тем или иным ремесленным
производством, может быть истолкована как свидетельство наличия в данном жилище
или близ него ремесленной мастерской. Б.А.Рыбаков подверг справедливой критике
выводы А.А.Мансурова, взявшего на себя труд обработать материалы раскопок
В.А.Городцова в Старой Рязани [А.А.Мансуров.
Древнерусские жилища (по материалам археологических раскопок в Старой Рязани).
– Исторические записки, вып.
Неверная
методика, примененная А.А.Мансуровым для изучения ремесла Старой Рязани, в еще
более откровенной форме применяется В.А.Богусеви[с. 371]чем на материале
раскопок в Киеве. Так, на небольшом участке, раскопанном названным
исследователем в
Вторая традиция, преодоление которой стало возможным в результате исследований последних лет, имоот гораздо более давнее происхождение. С первых лет археологических исследований Киева и вплоть до наших дней датировка памятников киевского ремесла отличалась чрезвычайно большой обобщенностью. Наиболее распространенные типы продукции киевских ремесленников в области керамики, в области кузнечного дела, ювелирного ремесла и пр. было принято датировать Х-XIII вв. Обнаруженные раскопками В.В.Хвойки мастерские, под развалинами которых были найдены разнообразные орудия производства, запасы сырья, полуфабрикаты и остатки готовой продукции, сам исследователь, а вслед за ним и все, кто позже пользовался этими материалами, склонны были относить также к Х-XIII вв.
Наряду с чрезмерно обобщенной датировкой памятников киевского ремесла Х-XIII вв. порой выдвигались более уточненные даты, однако, как правило, ничем не подтвержденные. Так, остатки мастерских поливных плиток, обнаруженные В.В.Хвойкой в усадьбе Петровского, сам исследователь и М.Довнар-Запольский относили к эпохе Владимира и Ярослава [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья и иі культура в доисторические времена. – Киев, 1913, стр. 70-71; М.Довнар-Запольский. История русского народного хозяйства, I. – Киев, 1911, стр. 274-275].
Б.Д.Греков относил открытые В.В.Хвойкой ремесленные мастерские "безоговорочно к Х в., считая, что “город в это время несомненно был уже большим ремесленным центром” [Б.Д.Греков. Киевская Русь. – М., 1949, стр. 103].
В результате археологических
исследований последних двух десятилетий удалось значительно уточнить хронологию
основных фактов истории киевского ремесла. Тщательное изучение обстоятельств
гибели многочисленных мастерских, обнаруженных новыми раскопками, позволило
установить, что основная масса этих мастерских была разрушена и
прекратила свое существование в результате разгрома Верхнего Киева
татаро-монгольскими полчищами в декабре
2. Кузнечное дело
Среди городских ремесленников на первом месте следует упомянуть кузнецов. Кузнечное дело выделилось в самостоятельное ремесло еще задолго до сложения феодального общества.
“Русский
термин “кузнец”, – по справедливому замечанию Б.А.Колчина, – в древности,
очевидно еще в докиевский период, означал ремесленника вообще. “Кузнь”, т.е.
изделия кузнеца, в древнейших русских письменных памятниках означала изделия из
черного, цветного и благородного металла, из стекла и других материалов” [Б.А.Колчин. Черная металлургия и металлообработка в
древией Руси (домонгольский период). – МИА СССР, №
IX – XI вв., как установлено исследователями древнерусской черной металлургии и металлообработки, были временем великих изобретений в этой области. В эту пору были созданы новые виды орудий труда, новые инструменты и новая техника обработки железа и стали [там же]. Кузнецы, выделившиеся из сельской общины и превратившиеся в самостоятельных ремесленников еще в докиевский период, в Киевской Руси уже делились, по-видимому, на ряд специальностей, связанных с изготовлением на рынок или по заказу различных видов железных и стальных изделий.
“Важнейшим вопросом истории экономики древней Руси, – писал Б.А.Колчин, – является выяснение характера товарных отношений между городскими ремесленниками и сельскими производителями, выяснение производственной дифференциации между городскими и деревенскими кузнецами” [там же, стр. 190].
Не менее важным вопросом истории городского кузнечного ремесла является вопрос о взаимоотношениях городских свободных ремесленников, работавших на рынок, и ремесленников-холопов в крупных княжеских, боярских и монастырских вотчинах, не только обслуживавших многообразные потребности хозяйства крупных феодалов, но порой выпускавших свою продукцию и на широкий городской и даже сельский рынок. [с. 373]
В древнерусских городах свободные кузнецы селились часто на окраинах городского посада. Об этом свидетельствует не только существование “Кузнечных ворот” в валу Окольного города Переяславля Русского [Ипат. лет. 6657 (1149) г.], но и урочище “Кузнецы” в Новгороде, расположенное подле земляного вала, ограждавшего городской посад.
В древнем
Киеве не сохранилось урочищ или древних названий улиц, связанных с кузнечным
делом [М.Н.Тихомиров (Древнерусские города. –
Ученые записки МГУ, вып.
Археологическими
раскопками па территории Киева не удалось до сих пор открыть ни одной кузницы.
Однако при раскопках в
В главе,
посвященной жилищам горожан, описана полуземлянка, открытая раскопками
Об огромном значении
кузнечного ремесла в жизни древнего Киева свидетельствуют многочисленные
находки разнообразнейших железных изделий, изготовлявшихся городскими
кузнецами. Б.А.Колчин, изучавший изделия древнерусских кузнецов IX-XIII вв. по
археологическим материалам, хранящимся в музейных коллекциях и по изданиям,
насчитывал более 150 отдель[с. 374]ных видов изделий из железа и стали,
изготовлявшихся в древнерусских кузницах, в том числе орудий труда – 23 вида,
оружия – 15, ремесленных инструментов – 46, конской сбруи – 10, домашней утвари
и предметов обихода – 35 и принадлежностей костюма и украшений – 19 [Б.А.Колчин, ук. соч., стр.
Сравнивая весь этот разнообразнейший инвентарь с железным инвентарем предшествующих эпох, нельзя не заметить резкого различия как в составе, так и в форме изделий.
“За весь двухтысячелетний период железного века в Восточной Европе, – как справедливо утверждал Б.А.Колчин, – не было создано и пятой части видов того инвентаря, который мы встречаем уже в IX- Х вв. в древней Руси” [там же, стр. 19].
На основании изучения технологических особенностей, сложности техники изготовления, широты применения данного изделия и серийности производства Б.А.Колчин составил список специальностей, состоящий из 16 разновидностей кузнечного ремесла [там же, стр. 195].
Многочисленные железные изделия, обнаруженные при раскопках древнего Киева, не оставляют сомнений в том, что киевскими кузнецами изготовлялись все основные разновидности изделий из железа и стали, известные по материалам различных центров древнерусской металлургии, а из этого следует, что в Киеве можно предположить и существование всех шестнадцати спепиальностей кузнечного дела.
3. “Кузнецы злату, серебру и меди”
Источники изучения ювелирного дела
Если многочисленные изделия из железа и стали, созданные киевскими кузнецами, являются наглядным выражением высокого развития производительных сил молодого Древнерусского государства, то изумительные по своей виртуозной технике разнообразные произведения “кузнецов злату, серебру и меди” свидетельствуют о многогранной высокоразвитой материальной и духовной культуре Киевской Руси. [с. 375]
В обработке цветных и благородных металлов ремесленники Киева и многих других больших и малых городов Древнерусского государства достигли исключительного совершенства и утонченного мастерства. Они владели всеми техническими приемами, известными в ту пору мастерам наиболее передовых стран мира, и во многих отношениях смогли превзойти последних в своем изощренном мастерстве.
По словам Б.А.Рыбакова, “не было, пожалуй, такой отрасли художественного ремесла, в которой русские ремесленники XI-XII вв. не создали бы замечательных, поражающих своим совершенством вещей” [Б.А.Рыбаков. Ремесло. – В кн.: История культуры древней Руси, т. I. М., І948, стр. 118-119]. Среди русских “кузнецов злату, серебру и меди” Киевским мастерам XI-XIII вв. принадлежало несомненно первое место.
Как свидетельствуют многочисленные и разнообразные остатки их деятельности, не было ни одной технической разновидности обработки цветных и благородных металлов, которой бы не владели киевские “златокузнецы”. Литейное дело, ковка и чеканка металлов, тиснение и штамповка, чернь, зернь, филигрань и инкрустация и, наконец, наиболее сложная техника перегородчатой эмали – все эти разновидности обработки цветных и благородных металлов были в совершенстве освоены не только киевскими ремесленниками, работавшими на княжих и боярских дворах и в монастырских вотчинах, но и многочисленными свободными ремесленниками, населявшими городской посад.
Разнообразная изысканная продукция этих мастеров обратила на себя внимание ученых задолго до того, как на территории древнего Киева развернулись систематические археологические исследования. Уже в первой половине XIX в. при случайных земляных работах были открыты богатейшие клады, состоявшие из многочисленных ювелирных изделий. В середине и особенно во второй половине XIX в., в связи с интенсификацией городского строительства, находки этого рода увеличивались с каждым годом. К сожалению, драгоценные вещи из многих кладов, обнаруженных на частновладельческих землях, нередко безжалостно переливались на металл или распродавались по частям. Состав многих кладов бесследно пропал для науки. Лишь во второй половине XIX в. Археологической комиссией были предприняты меры, обеспечивавшие сохранение новых находок. Несколько кладов, найденных во второй половине XIX-начале XX в., поступило в государственные музеи Петербурга, Москвы и Киева.
Ювелирные изделия, найденные в составе кладов, изучались преимущественно под углом зрения чисто искусствоведческих проблем (И.П.Кондаков, А.С.Гущин). Только в последние годы в работах советских исследователей (Б.А.Рыбаков, Г.Ф.Корзухина) ювелирные изделия из кладов рассматриваются в качестве источников по истории древнерусского ремесла. [с. 376]
Большая часть киевских кладов была зарыта в середине XIII в. в связи с татаро-монгольским вторжением. Однако отдельные клады, по-видимому, зарывались и раньше. В работе Г.Ф.Корзухиной “Русские клады IX-XIII вв.” сделана попытка уточнить хронологию кладов, причем автор не только устанавливает дату зарытия кладов, но и пытается в ряде случаев выяснить время изготовления различных вещей в кладе [Г.Ф.Корзухина. Русские клады IX-XIII вв. Л., 1954].
Ценным источником для изучения наиболее древнего периода киевского ювелирного ремесла являются различные изделия, найденные в составе погребальных комплексов киевского некрополя IX-Х вв. [см. главу IV настоящего исследования] В отличие от кладов, в составе которых порой находятся разновременные вещи, с трудом поддающиеся хронологической атрибуции, инвентарь погребений позволяет установить более точную датировку различных ювелирных изделий. Разумеется, нужно учитывать, что в составе погребальных комплексов IX-Х вв. наряду с местными изделиями нередки находки и привозных вещей различного происхождения.
Важнейшим источником для изучения ремесла киевских “златокузнецов” являются остатки ремесленных мастерских, открытые в значительном количестве археологическими раскопками в различных районах древнего города. Открытиям этого рода положил начало В.В.Хвойка, обнаруживший на территории знаменитой усадьбы доктора Петровского остатки нескольких мастерских. Интереснейшие материалы для характеристики мастерства “златокузнецов” были получены в результате раскопок, проведенных на этой же территории Институтом археологии АН УССР в 1936-1937 гг., а также раскопками Киевской экспедиции АН СССР и АН УССР в 1938-1939 и 1948-1949 гг.
Остатки
различных мастерских были обнаружены также раскопками той же экспедиции в 1938,
1940, 1948-1949 гг. в усадьбе бывш. Михайловского Златоверхого монастыря и
раскопками Киевского исторического музея в
Мастерству обработки цветных и благородных металлов была присуща несомненно не меньшая дифференциация, чем та, что отмечалась выше в кузнечном деде. Однако многие “златокузнецы” в своих мастерских выполняли, по-видимому, работы, связанные с различной техникой: литьем, чеканкой, филигранью, зернью, чернью и т.д. Об этом свидетельствуют находки различных инструментов, отходов производства, бракованных изделий в одной мастерской. Впрочем, для того чтобы судить о том, как был организован труд в этих мастерских, материалы раскопок пока еще явно недостаточны.
Литейное производство
Одним из важнейших способов обработки меди, серебра и их сплавов являлось литье. Киевские литейщики изготовляли самые разнообразные изделия, начиная от мелких медных крестиков или наконечников ножен мечей и вплоть до церковных колоколов достаточно крупного размера, литье которых тре[с. 377]бовало большой технической зрелости мастера. Киевские литейщики древнейшей поры (IX-Х вв.), так же как и деревенские литейщики, преимущественно пользовались техникой литья по восковой модели в двух ее вариантах (по плоской модели с сохранением глиняной формы и по объемной модели с утратой формы). Значительно позже входят в употребление каменные литейные формы [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 245].
Достаточно ранним примером отливки с потерей формы может служить найденный в княжеском погребении XI в. наконечник ножен меча, украшенный изображением птицы и орнаментом (табл. XLII) [М.К.Каргер. Княжеское погребение 11в. в Десятинной церкви. – КСИИМК, IV, 1940, стр. 12-20].
Литье с
утратой формы применялось в Киеве для изготовления колоколов. Находки колоколов
в Киеве [два древних колокола были найдены в
Рис. 81.
Бронзовая лампада, найденная в “жилище художника”. Раскопки
Однако до
недавнего времени не было уверенности в том, что эти колокола действительно
местного происхождения. В
Литьем с утратой формы изготовлялись бронзовые лампады. Интересный образец их найден в “жилище художника” XIII в (рис. 81). Отливкой в двух или трех соединенных вместе глиняных формах изготовлялись булавы и боевые гири – кистени (рис. 82, 83).
|
Рис. 82. Боевая гиря и булавы. Раскопки 1936—1937 и 1938 гг. [с. 380] |
Рис. 83. Глиняные формы для отливки кистеня (?). [с. 381] |
Особенно широкое распространение имело литье разнообразных медных крестов-энколпионов, амулетов-змеевиков, иконок (табл. XLIV, 1). Нередко эти отливки дополнительно украшались эмалью или чернью (табл. XLIV, 2).
|
Рис. 84. Бронзовый хорос, найденный на Хоревой ул. [с. 382] |
Рис. 85. Фрагменты бронзового
хороса из Киевской Софии. Раскопки |
Наиболее
сложными образцами киевского литья являются огромные паникадила – хоросы,
обломки которых нередко встречаются при раскопках развалин древних храмов XI-XIII
вв. Большой хорос состоял обычно из нескольких десятков отдельных отливок,
скрепленных между собой клепкой (рис. 84). Наиболее древний образец
монументального хороса, по-видимому [с. 379] киевского происхождения, был
найден в
Литейные формочки
Наряду с
литьем по восковой модели киевские литейщики широко пользовались техникой литья
в каменных формах. В этой технике отливались две совершенно различных группы
изделий. Каменные формочки применялись киевскими литейщиками для отливки
мелких, большей частью плоских бронзовых, оловянных и свинцовых подвесок
различных форм, дунниц, перстней, пуговиц, крестиков и т. п. Формочки для
отливки этого типа изделий весьма многочисленны (табл. XLV – XLVII). Большая коллекция их была
обнаружена в
Металлические
формочки, очень редко встречающиеся на других древнерусских городищах, в Киеве
неизвестны [Бронзовая формочка для отливки колта
найдена на Княжой горе (КИМ, инв. № 68273), вторая – для отливки мелких шариков
– происходит из Саркела, на нерабочей поверхности ее – знак Рюриковичей (см.: М.И.Артамонов.
Средневековые поселения на нижнем Дону. – ИГАИМК, вып.
Судя по тому, что некоторые из них имитируют арабские диргемы, пользование такими формочками следует отнести не позже чем к началу XI в. [Формочка для отливки диргема, хранящаяся в собрании КИМ, происходит из с. Григоровки Киевской области. О двух других формочках для отливки диргемов см.: Г.Ф.Корзухина. Киевские ювелиры накануне монгольского завоевания. – СА, XIV, 1950, стр. 218 и прим. 4]
Значительно больший интерес представляет вторая группа формочек, также достаточно многочисленная. Формочки этой группы служили для отливки трехбусинных серег или височных колец разнообразнейшего рисунка, колтов с рельефным изображением зверя или плетеного орнамента, звездчатых подвесок, нешироких наручей и ложновитых браслетов (табл. LI – LVII). Все предметы, отливавшиеся в этой группе формочек, имитировали драгоценные золотые и серебряные тисненые изделия, изготовлявшиеся древнерусскими “златокузнецами”. Именно поэтому они получили наименование “имитационные” (Б.А.Рыбаков).
Формочки эти вырезаны обычно в мягком, но плотном камне (шифер, черный жировик, реже известняк), позволявшем передать сложнейший мелкий рисунок всех деталей изделия, вплоть до мелкой зерни иди филиграни. Большая часть формочек составлялась из двух парных створок. Парные створки обычно имели очень тщательно притертые плоскости, что устраняло появление литейных швов при заливке в формочку металла. Для точного совмещения двух (иди трех) створок формочки в них просверливались круглые гнезда, в одном из которых укреплялся свинцовый стержень, своим выступающим [с. 381] концом точно входивший в гнездо парной створки формочки.
Все формочки этого типа выполнены исключительно тщательно, представляя порой замечательные образцы камнерезного искусства. Даже наружная их нерабочая поверхность в большинстве случаев отделана весьма тщательно. Иногда на [с. 382] наружной стороне резчики делали “пробы резца” – различные рисунки, не вызванные производственным назначением формочки. Так, на торцовой. части одной из них сохранился резной рисунок бородатого человека в остроконечной шапке (табл. XLVIII) [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 261].
Рис. 86. Формочки с надписями. Раскопки 1937 и 1940 гг. : 1, 2 — формочки с надписью “Макосимов”, 3 — формочка с вырезанными буквами “НТ” [с. 385]
На нерабочей стороне одной из формочек для отливки трехбусинных серег процарапано имя мастера – владельца формочки – “Макосимов”, что обозначало “формочка Максима” (рис. 86, 1, 2). На другой формочке, происходящей с фдоровой горы, вырезаны буквы “НТ” (рис. 86, 3).
Все формочки имеют в верхней части канал для заливки металла (литок), а в формочках для изготовления изделий сложного рисунка от главного литка отходят обычно дополнительные каналы к различным частям изделия, чтобы расплавленный металл мог одновременно заполнить все части формочки. В нижней части формочек прорезался канал для отвода воздуха из полостей формочки при заливке металлом. Иногда формочки вырезаны на обеих сторонах камня. В этих случаях каждая сторона использовалась для отливки разных предметов.
Подавляющее большинство “имитационных” формочек, известных поныне, найдено в Киеве, в основном на территории бывш. усадьбы Петровского, бывш. усадьбы Десятинной церкви и близ расположенной бывш. усадьбы Трубецкого, т.е. на древней территории княжеского двора или вблизи него. Тридцать шесть фрагментов литейных формочек, из которых удалось склеить девятнадцать формочек для отливки трехбусинных серег, колтов, звездчатых подвесок и ложновитого браслета, были найдены в тайнике под развалинами Десятинной церкви (табл. LV, LVI) [М.К.Каргер. 1) Археологические исследования древнего Киева, стр. 119 и рис. 84 – 85; 2) Тайник под развалинами Десятинной церкви в Киеве. – КСИИМК, X, 1941, стр. 77 и рис. 24]. Несколько формочек найдено в других [с. 383] районах верхнего города. Пять “имитационных” формочек наряду с формочками для отливки простейших изделий были найдены на Флоровой горе (табл. LVII).
Одно непонятное на первый взгляд обстоятельство, связанное с “имитационными” формочками, обратило на себя внимание исследователей киевского ювелирного ремесла. При обилии находок “имитационных” формочек поражало почти полное отсутствие изделий, отлитых в этих формочках. По словам Б.А.Рыбакова,
“обычно археологический материал обильно представляет продукцию мастеров и крайне скудно – орудия производства. Здесь же наоборот: налицо инструменты литейщика, а сделанные при помощи этих литейных форм колты и браслеты не найдены” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 273].
Разгадку этого “странного явления” Б.А.Рыбаков предлагал искать “в топографическом размещении находок формочек внутри города, другими словами – в социальной топографии русского города XII-XIII вв.” [там же]. Если объединить все формочки, найденные в Старом городе, вблизи княжеского дворца и Десятинной церкви, и формочки, найденные на Флоровой горе, вдалеке от аристократической части города, отобрать при этом сомнительные, как полагал Б.А.Рыбаков, в смысле районирования материалы из тайника Десятинной церкви [Б.А.Рыбаков считает, что мастер-литейщик, погибший в тайнике под Десятинной церковью, пришел сюда не из ближайших мастерских этой древнейшей части города, а из более удаленного ремесленного посада, может быть с той же Флоровой горы (там же, стр. 274)], то, по мнению названного исследователя, получается следующая картина: в первом, центральном районе (близ Десятинной церкви) встречаются литейные формы для широких браслетов, энколпионов, а однажды найдена формочка для перстня с княжеским знаком на щитке [в действительности эта формочка найдена на Флоровой горе (см.: Архив ИИМК, ф. АК, д. 122/1894 г. и фотоархив ИИМК, F. 114, 7)]. Другими словами – мастера, работавшие на княжом дворе, отливали, по мнению Б.А.Рыбакова, те вещи, которые попадали в боярско-княжеские клады XIII в.
Иную картину дает, по его мнению, ремесленный посад на Флоровой горе. Только там литьем в “имитационных” формах воспроизводили сложные ювелирные изделия, украшенные зернью и сканью, создававшиеся ювелирами Старого города [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 275].
Учет топографии находок формочек, по мнению Б.А.Рыбакова, объясняет и отсутствие литых подражаний в кладах, поскольку все дошедшие до нас клады связаны с княжеско-боярской средой,
“а златокузнецы, обслуживавшие ее, были не подражателями, а законодателями мод” [там же].
“На другом социальном полюсе города – в обширном ремесленном посаде, на Подоле и в иных мостах – работали ювелиры, не располагавшие ни сложным обору[с. 384]дованием для волочения скани и паяния зерни, ни временем для трудоемкой и кропотливой отделки индивидуальных заказов, их рынок был шире, и для них вопрос массового выпуска стоял, очевидно, острее, чем для придворных мастеров. Это и толкало их на путь выполнения украшений посредством литья в каменных формах” [там же, стр. 277].
Необычное преобладание литейных форм над готовыми изделиями, по мнению Б.А.Рыбакова, объясняется тем, что украшения, бытовавшие у рядовых жителей городского посада, совершенно неизвестны нам ни по кладам, ни по погребениям [там же; эту же мысль высказывал десятилетием раньше A.С.Гущин. Противопоставляя ювелирную мастерскую на Флоровой горе, принадлежавшую, как думал А.С.Гущин, свободным мастерам, изготовлявшим различные предметы личного убранства, металлическую утварь, оправу для оружия и т.п., мастерским на княжом дворе, он утверждал, что “характерной чертой этой мастерской являлось наличие в ней ряда формочек для изготовления украшений на более широкого потребителя”. Изделия этой мастерской, по мнению А.С.Гущина, “представляли, таким образом, более дешевый и ходовой товар, подражающий по формам наиболее распространенным украшениям господствующего класса” (А.С.Гущин. Памятники художественного ремесла древней Руси Х-XIII вв. – Л., 1936, стр. 26)]. [с. 385]
Эта стройная, на первый взгляд, концепция, казалось бы, исчерпывающе объясняющая непонятное явление в истории киевского ремесла, однако, от начала до конца построена на ошибочной локализации находок или неверной их трактовке, что было убедительно показано Г.Ф.Корзухиной [Г.Ф.Корзухина. Киевские ювелиры накануне монгольского завоевания. – СА, XIV, 1950, стр. 220 и 229]. В действительности основная масса “имитационных” формочек для отливки колтов, звездчатых подвесок и трехбусинных серег найдена именно в районе княжого двора и лишь пять формочек этого типа были найдены на Флоровой горе [три формочки для отливки перстней и одна для отливки медальона, найденные на Флоровой горе, отнесены Г.Ф.Корзухиной (там же, табл. I) к числу “имитационных” без достаточных оснований]. Таким образом, стройная картина “социальной топографии” находок не имеет под собой никаких оснований. И в мастерских на княжом дворе и в мастерской на Флоровой горе отливали изделия, имитировавшие драгоценные украшения; и здесь и там отливали в каменных формах и простые мелкие изделия – пуговицы, подвески, крестики и т.п.
Рис. 87. Свинцовые колт (1) и наруч (3) из раскопок в усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря и формочка для наруча (2). [с. 387]
Среди маловыразительных ювелирных изделий с Княжой горы и Поросья, хранящихся в коллекциях Киевского исторического музея, Г.Ф.Корзухиной удалось разыскать ряд вещей (звездчатая подвеска, два колта), несомненно выполненных в “имитационных” формочках. Свинцовый колт и свинцовый наруч (рис. 87, 1, 3), довольно близко напоминающий одну из киевских формочек (рис. 87, 2), были найдены при раскопках 1938 и 1940 гг. в усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря [Г.Ф.Корзухина. Там же, стр. 221-223].
Эти и другие подобные находки, изученные Г.Ф.Корзухиной, дали ей серьезное основание утверждать, что изделия, отлитые в “имитационных” формочках, при всей их незначительности все же существуют [там же, стр. 227].
По свидетельству
В.К.Гончарова, при раскопках на Райковецком городище была найдена свинцовая
трохбусинная серьга, отлитая в “имитационной” формочке. Оловянный звездчатый
колт и пластина створчатого браслета-наруча с ложнозерненым узором,
происходящие из Гродно, опубликованы Н.Н.Ворониным [Н.Н.Воронин.
Древнее Гродно. – МИА СССР, №
Появление техники свинцовых или оловянных отливок в “имитационных” формочках свидетельствует о весьма важных процессах в развитии киевского ремесла: от изготовления отдельных чрезвычайно [с. 386] дорогих изделий, выполнявшихся по индивидуальному заказу, киевские ремесленники и те, что работали на княжом и боярских дворах, и свободные городские ремесленники переходили к изготовлению массовой продукции, выпускавшейся на широкий городской рынок. С проявлениями этого же процесса в других видах киевского ремесла мы столкнемся еще не раз.
Мастерская литейщика
Рис. 88.
Бронзовые изделия, найденные в мастерской литейщика. Раскопки
Интересная по
составу находок мастерская литейщика была раскопана нами в
Все эти предметы и особенно значительное количество разбросанные по полу обломков бронзовых пластинок и проволоки свидетельствовали о том, что в полуземлянке находилась мастерская но выработке мелких бронзовых изделий. Полагаем, что обломки колокола и массивного бронзового предмета попали сюда, вероятно, уже в качестве материала для мелких поделок.
Обращает внимание находка на полу шести трубчатых железных замков, покрытых бронзовой обкладкой (табл. LIX). Находки замков в киевских жилищах XII – XIII вв. нередки, однако в количестве не более двух-трех экземпляров. Не является ли большое количество замков, найденных к тому же среди обрезков бронзовых пластинок, свидетельством того, что изготовленные в кузнечной мастерской железные замки проходили здесь какую-то дополнительную обработку (обтяжку бронзой?).
Среди
находок, характеризующих полуземлянку
[Значение этой замечательной находки недавно пыталась дискредитировать Г.Ф.Корзухина, утверждавшая, что “связь формочки с жилищем из-за неясности и противоречивости (! – М.К.) сведений об условиях ее находки не может быть установлена”. В примечании Г.Ф.Корзухина разъясняет это безапелляционное утверждение следующим образом:
“В сборнике
“По следам древних культур” (1953, стр. 70) М.К.Каргер пишет, что формочка
найдена на полу землянки. Однако в первоначальной публикации материалов
раскопок
В предварительной отчетной публикации раскопок жилища-мастерской в усадьбе Киевского исторического музея о находке фрагмента формочки сообщалось:
“В заполнении
углубленной в материк части землянки, преимущественно в нижних его слоях и
особенно на полу землянки найдено значительное количество разнообразных
предметов, которые дают основание утверждать, что землянка
Среди предметов, найденных в “нижних слоях и особенно на полу землянки”, назван и фрагмент формочки для отливки трехбусинных серег (там же, стр. 10). Позже в популярной статье того же автора, в рассказе о монгольском погроме Киева, говорилось:
“Одна из них
(литейная формочка), найденная нашими раскопками
Даже не учитывая того, что второй отрывок взят из популярной
статьи, где позволительно отказаться от специального археологического
определения горизонта находки, между приведенными сведениями о находке формочки
дет решительно никакой “противоречивости”. Находка
Последний (табл. LIII, [с. 388] средняя в нижнем ряду) заслуживает особого внимания. Он представляет собой обломок одной из трех частей трехдольной формочки дня отливки трехбусинных серег Формочка вырезана из светло-серого мягкого сланца; углубленная резьба бусин поражает исключительным изяществом рисунка и мастерством исполнения. На обломке сохранились лишь углубления для двух бусин, от третьей – лишь совсем незначительная часть
Уже в первый
момент после очистки формочки от земли бросилось в глаза сходство вновь
найденного фрагмента с одной из каменных формочек, обнаруженных В.В.Хвойкой при
раскопках в 1907-1908 гг. в усадьбе Петровского. Сопоставление с этой
формочкой, хранящейся в Киевском историческом музее, позволило убедиться, что
формочка, найденная в землянке
Нашими
раскопками
На основании
этого наблюдения Г.Ф.Корзухина пыталась определить положение мастерской, в
которой работал мастер-ювелир, погибший вместе со своим инструментарием под
рухнувшими сводами Десятинной церкви. Считая расположение раскопов Хвойки
неизвестным, Г.Ф.Корзухина приходила к выводу, что мастерская эта должна была
находиться там, где раскопками
В действительности легенда к плану раскопок В.В.Хвойки в усадьбе Петровского, почти полностью раскрывающая топографию раскопанных участков, была обнаружена уже около пятвадпати лет назад (Центральный исторический архив УССР, фонд Общества охраны памятников старины и искусства 1910-1919, д. 9, лл. 56-57) и использовалась не только при изучении наследия В.В.Хвойки, ио и при планировании раскопок в усадьбе Исторического музея, в состав которой вошла усадьба Петровского].
Ссылаясь на “выписки из дневников В.В.Хвойки, сохранившиеся в Киеве в частных руках”, Г.Ф.Корзухина утверждала, что из этих выписок видно, что “формочки найдены в пределах одной ювелирной мастерской, точное местонахождение которой нам неизвестно” [там же, стр. 230. Позже, обнаружив выписки А.А.Спипына из дневника В.В.Хвойки, Г.Ф.Корзухина считала, что предположение ее подтвердилось и мастерская мастера Максима “получила точную локализацию” (Г.Ф.Корзухина. Новые данные о раскопках В.В.Хвойко…, стр. 330)].
С этим утверждением нельзя согласиться: из выписок отнюдь не явствует, что все формочки найдены в одной мастерской. Под понятием “мастерской” в записях В.В.Хвойки скрываются отнюдь не конкретные, раскрытые рас[с. 390]копками остатки мастерских. “Мастерская” в записях Хвойки – понятие собирательное: это различные орудия производства, сырье, полуфабрикаты, отбросы производства и т.п., найденные отнюдь не всегда в одном месте. Есть и более определенные доказательства того, что остатки ювелирного производства были обнаружены В.В.Хвойкой не в одном месте, как утверждает Г.Ф.Корзухина.
В объяснительном тексте к плану раскопок В.Хвойки остатки мастерской ювелирных и эмалевых изделий показаны в двух далеко отстоящих одна от другой точках. Первая из них, названная “мастерской ювелирных и эмалевых изделий”, была раскопана в центральной части усадьбы, примерно там, где ныне находится садик перед зданием музея, вторая, названная “мастерской эмалевых изразцов и ювелирных изделий”, раскопана в юго-западном углу усадьбы на границе с соседней усадьбой Слюсаревского. Добавим к этому, что и в 1936-1937 гг. остатки ювелирного производства и, в частности, литейные формочки были найдены также на двух весьма отдаленных один от другого участках бывш. усадьбы Петровского. Из сказанного следует, что стремление автора связать все найденные на территории бывш. усадьбы Петровского и в тайнике под Десятинной церковью формочки с какой-то единой ювелирной мастерской – плод недоразумения.
Обнаруженная
раскопками
Находка на
полу мастерской фрагмента литейной формочки свидетельствует, однако, о том, что
в этой же мастерской может быть занимались наряду с выработкой бронзовых
изделий и литьем предметов личного убора в “имитационных” формочках. Не
исключена возможность, что некоторые из формочек, найденных в 1907-1908 гг., и,
в частности, вторая половина найденной нами формочки происходят из этой именно
мастерской. Возможно, что и три формочки, найденные в
Литьем в “имитационных” формочках занимались различные мастера, работавшие на княжом дворе и на соседних с ним дворах киевской знати; вот почему нас нисколько не должны удивлять находки совершенно аналогичных формочек и в бывш. усадьбе Трубецкого, и на дворе д.4 по Б.Житомирской ул., и даже на более отдаленной территории Михайловского Златоверхого монастыря. Все эти находки, обнаруженные в различных мастерских первой половины XIII в., ничем не связанных одна с другой, заставляют ре[с. 391]шительно отбросить мысль о какой-то якобы единой “крупной ювелирной мастерской”, монопольно владевшей производством удешевленных ювелирных изделий, повторявших более старые, дорого стоившие предметы убора по новому в техническом отношении способу отливки в “имитационных” формах.
Ковка, чеканка, позолота
Наряду с литьем широкое распространение имела обработка цветных и благородных металлов в технике ковки и чекана.
Среди древнейших киевских изделий этого рода следует указать на обломок толстого бронзового позолоченного листа с чеканным изображением апостола Павла, найденный при раскопках в алтарной части Софийского собора (табл. LX). Лицо Павла выполнено с исключительным реализмом. Возле изображения – чеканная надпись “ПАВЕЛОС”. “Наивный” грецизм ее свидетельствует о русском происхождении мастера.
Из кованых серебряных пластин изготовлялись весьма распространенные в быту социальных верхов киевского общества широкие наручи, украшенные чеканным орнаментом и изображениями звериного стиля, а иногда и жанровых сценок (табл. LXI). Мнение Б.А.Рыбакова об отливке их в каменных литейных формочках ошибочно [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 265-270; ошибочность маеиия об отливке широких наручей в каменных литейных формах была отмечена Г.Ф.Корзухиной (Киевские ювелиры…, стр. 221, прим. 1)]. О миниатюрных оловянных или свинцовых наручах, изготовлявшихся в подражание кованым серебряным, была речь выше.
С техникой чекана тесно связана сопутствовавшая ей техника позолоты как сплошной, так и в виде инкрустации.
Техника позолоты медных листов имела широкое применение при изготовлении оружия и различных бытовых изделий и особенно в строительном деле. “Златоверхие” терема и “златоглавые” храмы не раз упоминаются в памятниках киевской письменности. Нередки и находки обломков толстых медных листов от кровли, покрытых отлично сохранившейся позолотой. Технологический анализ этих обломков показывает, что хорошо прокованный медный лист густо покрывался золотой амальгамой, после чего прокаливался на сильном огне.
Особого рассмотрения заслуживает техника золотой росписи по меди, распространенная в древней Руси в качестве декоративного приема украшения дверей. Общеизвестны медные двери с золотой росписью, сохранившиеся в Суздале (XIII в.), знаменитые Васильевские врата, изготовленные для Новгородской Софии, и целый ряд фрагментов подобных изделий из других городов. Техника золотого письма на меди была детально исследована И.А.Гальнбеком и Ф.Я.Мишуковым, доказавшими, что распространенное мнение о том, что упомянутые изделия выполнены в технике золотой инкрустации, ошибочно; в действительности рисунок исполнялся способом письма жидким золотом [И.А.Гальнбек. О технике золоченых изображений на Лихачевских вратах в Гос. Русском музее. – Материалы по русскому искусству, т. I. Изд. ГРМ, Л., 1928, стр. 22-31; Ф.Я.Мишуков. К вопросу о технике золотой и серебряной наводки по красной меди в древней Руси. – КСИИМК, XI, 1945, стр. 113]. [с. 392]
Одним из
интереснейших памятников этого рода является фрагмент бронзовой пластинки с
золотым рисунком, изображающим городскую стену, башню, ладью с высоким загнутым
носом и на переднем плане – трех воинов, вооруженных щитами и копьями (табл. LXII, 1) [Древности Приднепровья, вып. V. Киев, 1902, стр. 23].
Б.А.Рыбаков полагад,что в отличие от других дошедших до нас дверей церковного назначения
описанный фрагмент принадлежал двери светского дворцового здания в Киеве [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 326].
В действительности описанный фрагмент происходит из раскопок на Княжой горе и
прямого отношения к Киеву не имеет, но не исключено, что двери эти были
выполнены киевским мастером. О том, что изделия подобного рода в Киеве
действительно изготовлялись, свидетельствуют найденные в
В
Заслуживает при этом внимания одна деталь, установленная при исследовании пода печи в большей землянке. По утверждению исследователя, в результате действия высоких температур глиняная обмазка пода печи была местами остеклована. Этот факт свидетельствует о том, что печь служила не только для варки пищи, но, может быть, и для плавки металлов.
Раскопками
Киевского исторического музея в
Мастерская,
изготовлявшая какие-то мелкие медные изделия, была раскопана в
Мастерская чеканщика, содержавшая листы тонкой меди, миниатюрные молоточки, зубильца и пунсоны, была раскопана в Вышгороде [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 291].
Еще во второй половине Х в. “златокузнецы” Среднего Поднепровья овладели новой техникой обработки золота, серебра и меди, явившейся несомнен[с. 393]ным усовершенствованием и механизацией техники чекана. Новшество заключалось в применения медных или стальных штампов – матриц, при помощи которых на тонких, предварительно хорошо прокованных листах металла оттискивался рельефный рисунок [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 301 сл.].
До недавнего времени серебряные тисненые изделия, украшенные зернью, нередко встречающиеся в кладах и погребениях Х в., безоговорочно относились к числу привозных вещей с Востока. Мнение о местном, русском происхождении изделий этой техники было впервые высказано А.С.Гущиным, ничем, однако, не подтвердившим его [А.С.Гущин, ук. соч., стр. 31].
Г.Ф.Корзухиной было бесспорно доказано производство этих изделий в Среднем Поднепровье, где не только найдена большая часть известных доныне изделий этого рода, но обнаружен в составе погребального инвентаря и набор матриц для тиснения различных предметов, принадлежавших умершему ювелиру Х в. [Г.Ф.Корзухина О технике тиснения и перегородчатой эмали в древней Руси Х-ХІІ вв. – КСИИМК, XIII, 1946, стр. 45-52]
Б.А.Рыбаков усматривал в появлении этого нового технического приема в работе русских городских “златокузнецов” влияние византийской культуры, полагая, что эта техника явилась одним из положительных результатов сближения Руси с Византией [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 305].
О массовом применении техники тиснения киевскими “златокузнецами” свидетельствуют многочисленные ювелирные изделия из серебра и золота, найденные в составе киевских кладов.
Техникой тиснения в XI-XIII вв. киевские “златокузнецы” выполняли различные изделия: серебряные с чернью колты, звездчатые подвески (табл. LXIII), золотые и серебряные нашивные бляшки, полые лидиевидиые подвески – “крины” (табл. LXIV), полые бусы, украшенные зернью (табл. LXIV, LXV), миниатюрные золотые и серебряные “колодочки” полуцилиндрической формы, нашивавшиеся на ленты, басму на иконах, небольшие иконки и пр.
Рис. 89. Круглая
свинцовая подушка, обтянутая железным кольцом, раскопки
При раскопках древнерусских городищ (Княжа гора, Сахновка, Райки, Вышгород и др.) найдено немало матриц для тиснения различных изделий. В музейных коллекциях Москвы, Ленинграда и Киева хранится ряд интереснейших матриц, к сожалению, неизвестного происхождения. На территории Киева матрицы были обнаружены в ювелирной мастерской, раскопанной В.В.Хвойкой [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 71], а также в ряде других мест (рис. 89, 2).
Особый
интерес представляет найденная в жилпще XIII в. на Б.Житомирской ул. (раскопки
Процесс тиснения заключался в том, что на бронзовую или стальную литую матрицу, имевшую выпуклый рисунок, накладывался тонкий лист металла, на котором должен быть оттиснут рисунок. Поверх листа “златокузнец” накладывал свинцовую подушку, по которой ударял деревянным молотком. Свинец, а вместе с ним лист металла, от ударов приобретал форму матрицы. Следует отметить, что “подушка” найдена в помещении, о котором выше была речь как о жилище кузнеца. По-видимому, кузнец изготовил железную обойму, обтягивавшую края подушки.
Совершенно
аналогичная свинцовая подушка несколько меньших размеров обнаружена при
раскопках
Как справедливо отмечал Б.А.Рыбаков, очевидное преимущество техники тиснения перед техникой чекана
“состояло в несравненно большей продуктивности тиснения, в убыстрении процесса производства, так как мастеру не нужно было тысячи раз ударять по орнаментируемому листу пуансоном” [там же, стр. 303].
Затратив значительный труд на отливку матрицы, изготовлявшейся по восковой модели, “златокузнец” мог пользоваться ею, по-видимому, достаточно длительный период. Удары деревянного молотка через толстую свинцовую подушку и лист металла, очевидно, не причиняли матрице больших повреждений, и потому набор матриц не требовал частой замены. В отношении ускорения производственного процесса техника тиснения напоминала в известной мере рассмотренную выше технику литья в каменных формах. Значительный труд на отливку штампа (в технике тиснения), так же как затрата труда на резьбу каменной формочки (в технике литья), оправдывался в обоих случаях убыстрением и облегчением производства самой продукции. [с. 395]
Обе рассмотренные разновидности ювелирной техники отражают общую тенденцию древнерусского городского ремесла XII-XIII вв. к повышению массовости продукции в связи с непрерывно возраставшей ролью товарного производства, обслуживавшего широкий городской и даже сельский рынок. Даже мастера, работавшие на княжом дворе иди в монастырской вотчине, постепенно втягивались в этот процесс, продолжая обслуживать в то же время нужды того феодального хозяйства, частью которого они являлись.
Зернь, скань, инкрустация
Одним из наиболее распространенных видов ювелирной техники были изделия из проволоки. Киевские “златокузнецы” с древнейших времен изготовляли из медной, серебряной и золотой проволоки разнообразнейшие изделия, начиная от простейшего проволочного перстня или височного кольца и кончая изощренными фидигранями, нередко сочетавшимися с перегородчатой эмалью, чернью и другими приемами. Все эти изделия требовали прежде всего изготовления самой проволоки различных диаметров, производившейся как с помощью техники ковки, так и более совершенной техники волочения.
Рис. 90. Медный жгут-заготовка для изготовления шейиых гривен. Случайная находка. [с. 397]
Среди
киевских находок, характеризующих изделия из толстой проволоки, заслуживает
внимания интересная заготовка медного проволочного жгута для изготовления
шейных гривен (рис. 90) [Сведение о находке
опубликовано в OAK за
“Перед нами, – пишет он, – любопытный пример перехода от работы на заказ к работе на рынок. Мастер тянет проволоку заранее, еще до получения заказа на гривны, готовит сырье для них – жгут. Если бы мастер работал целиком на рынок, он неизбежно разрезывал бы проволоку на одинаковые куски и сделал бы из них гривны, а не стал бы укладывать жгут в спираль, Совершенно очевидно, что мастер сделал заготовку в расчете на будущие заказы и резать проволоку не решался, так как гривны могли быть заказаны разных размеров. Отсюда один шаг до того, чтобы мастер решился готовить впрок не только проволоку, но и самые гривны; в таком случае его мастерская стала бы одновременно и местом продажи украшений” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 331].
Широкое применение в ювелирной технике имела скань, иди филигрань. Основой ее была тонкая крученая проволока, из которой киевские “златокузнецы” образовывали разнообразные сложнейшие узоры. Скань применялась в двух видах: в ажурной скани сами проволочки образуют каркас изделия, накладной сканый узор припаивался к золотой иди серебряной основе изделия. Сканый узор нередко сочетался с техникой зерни, представлявшей мельчайшие зерна металла (серебра иди золота), которые припаивались в виде различных узоров к основе изделия. Скань и зернь известны уже в изделиях рус[с. 396]ских “златокузнецов” Х в. В XI-XIII вв. обе эти разновидности ювелирной техники были излюбленным приемом киевских “златокузнецов” (табл. LXIII – LXV).
Наряду с зернью и сканью уже в древнейших русских ювелирных изделиях из серебра широко применялась техника черни. Черпью заполняли углубленный фон серебряного изделия, а иногда и углубленные контурные линии изображения (табл. LXIII). В состав черневой массы, употреблявшейся русскими мастерами, входили серебро, свинец, красная медь, сера, поташ, бура и соль [там же, стр. 320]. Порошок черни разводили водой и густо покрывали им фон изделия, предварительно процарапанный резцом для лучшего сцепления черни с серебром. Затем пластинка прокаливалась на жаровне, благодаря чему чернь плотно соединялась с серебром [там же]. По-видимому, чернением занимались в основном в тех киевских мастерских, где изготовляли тисненые серебряные изделия. К сожалению, никаких производственных остатков этой техники в киевских ювелирных мастерских до сих пор не обнаружено, так же как и остатков производств зерни и филиграни.
Среди изделий киевских “златокузнецов” заслуживает внимания еще одна разновидность техники – инкрустация железных и бронзовых изделий золотом или серебром. В раскаленном железе тонким зубилом прорубался углубленный рисунок, после чего в углубления забивалась золотая или серебряная проволока. Техника инкрустации была распространена еще в Х в., как показывают бляшки, встречающиеся в погребениях киевского некрополя. Позже эта техника применялась для орнаментации железных изделий конского снаряжения и оружия.
Перегородчатая эмаль
Наивысшим достижением киевских “златокузнецов” XI – XIII вв. была техника перегородчатых эмалей. В производстве изысканных золотых изделий, обильно украшенных как орнаментальными, так и изобразительными эмалями, киевские ремесленники достигли высот подлинного большого искусства. Многочисленные, разнообразные по назначению золотые изделия с перегородчатой эмалью стали известны уже давно, со времени находки первых кладов в Старой Рязани и в Киеве. Количество их непрерывно возрастает [с. 397] в результате новых раскопок и случайных находок в древнерусских городах. Давно обратили на себя внимание на ряде эмалевых изделий русские надписи, к тому же нередко с диалектологическими особенностями, что не оставляло сомнений в местном происхождении этих изделий. Большая заслуга в изучении древнерусских перегородчатых эмалей принадлежит Н.П.Кондакову, который не только собрал весьма значительный материал, но и подверг его исследованию с художественной и технической стороны [Н.П.Кондаков. 1) Византийские эмали. Собрание А.В.Звенигородского. – СПб., 1892; 2) Русские клады, т. I. – СПб., 1896].
Н.П.Кондаков не отрицал местного русского производства перегородчатых эмалей, однако в то же время считал их всякий раз лишь огрубевшими провинциальными вариантами византийского эмальерного искусства. Большинство этих изделий, по его словам, “настолько грубо, что при всей подражательности более напоминает древние варварские эмали, чем свой прекрасный образец” [Н.П.Кондаков. Византийские эмали, стр. 186-188]. Исключительно высокие художественные и технические качества русских эмалей Н.П.Кондаков не смог понять и должным образом оценить. За полвека после выхода работ Н.П.Кондакова не только значительно возросло количество древнерусских эмалей, но, что гораздо существеннее, в Киеве были открыты ювелирные мастерские, производившие среди прочих изделий и перегородчатые эмали.
Две таких мастерских были открыты раскопками В.В.Хвойки на территории усадьбы Петровского. Вот что писал о них сам исследователь:
“Не менее интересными являются остатки мастерских ювелирных изделий и дорогих предметов эмальерного производства. Здесь были обнаружены уцелевшие горны и печи специального устройства, а также каменные формочки, служившие для отливки колтов, колец, браслетов, металлических бус, складных крестов и т.д., штампы для выбивания орнамента на металлических украшениях и множество кусков разноцветной эмали двух видов – легковесной и тяжеловесной” [В.В.Xвойка, ук. соч., стр. 71].
Теми же раскопками были обнаружены остатки другой обширной мастерской с целым рядом глиняных горнов и печей “особого устройства”, где, по словам исследователя,
“было найдено большое количество сломанных, поврежденных огнем и отчасти расплавленных стеклянных браслетов и таких же колец, большие куски расплавленной и в таком виде застывшей разноцветной эмалевой массы, а также и штамп с отдельной бронзовой пластинкой с прорезанным изображением двух птиц, очевидно, служившей для выделки колтов” [там же].
Из приведенных полностью описаний при всей их краткости можно все же понять, что в обеих мастерских наряду с изготовлением в первой из них – литых в каменных формочках изделий, а во второй – стеклянных браслетов и перстней изготовлялись и изделия с перегородчатой эмалью. Об этом сви[с. 398]детельствуют найденная в первой мастерской разноцветная эмаль, а во второй – не только “большие куски расплавленной и в таком виде застывшей. разноцветной эмалевой массы”, но и штамп с отдельной бронзовой пластинкой с прорезанным изображением двух птиц, служивший для изготовления золотых колтов с перегородчатой эмалью.
Рис. 91. Инструменты для производства колтов с перегородчатой эмалью. Раскопки В.В.Хвойки. 1 — бронзовый шаблон; 2 — бронзовая болванка [с. 399]
Последние два предмета заслуживают более детального описания. Первый из них представляет бронзовый шаблон в виде плоской тонкой, почти круглой пластинки с небольшой полукруглой выемкой в верхней части (рис. 91, 1). В пластинке прорезаны сквозные отверстия в виде силуэтного изображения пары птиц, между которыми расположено также силуэтное, очень схематизированное изображение растения. Второй предмет представляет собой бронзовый кружок с выпуклой верхней поверхностью и плоской нижней (рис. 91, 2).
Пользование
шаблонами исследователи представляли различно. Б.А.Рыбаков считал, что тонкий
золотой лист накладывался на матрицу и в нем продавливались углубления,
соответствующие контурам дерева и птиц. Таким образом, “рисунок, подлежащий
дальнейшей расцветке посредством эмали, оказывался как бы в лоточке,
углубленном по отношению к поверхности щитка колта на 1-
При этой реконструкции остается необъяснимым, как же плоская золотая пластинка с продавленным контурным рисунком получала в дальнейшем выпуклую форму. Учитывая эту особенность колтов и принимая во внимание [с. 399] находку в этой же мастерской выпуклого бронзового штампа, приводится считать более правдоподобной реконструкцию Г.Ф.Корзухиной, которая считала, что при изготовлении колта шаблон накладывался на золотую пластинку и по нему вырезались основные контуры птиц и “древа”, а также края самого колта. После этого золотая пластинка накладывалась на выпуклый бронзовый кружок и при помощи молоточка ей придавалась сферическая форма. Вырезанные из золотой пластинки части, по мнению Г.Ф.Корзухиной, “припаивались снизу при помощи вертикально поставленных ленточек и служили дном углублений, заполнявшихся эмалью” [Г.Ф.Корзухина. О технике тиснеиия…, стр. 53]. Внутри основных контуров на дно углубления припаивались на ребро перегородочки.
Еще одна ювелирная
мастерская, производившая среди прочих изделий и перегородчатую эмаль, была
обнаружена на той же территории усадьбы Петровского раскопками 1936-1937 гг. В
главе, посвященной городским жилищам, описана полуземлянка, раскопанная в
Рис. 92.
Обломки тигельков для плавки золота, серебра, меди и эмали. Раскопки
Возле горна
лежал толстый слой золы и угля, в котором найдены куски шлака и две каменных
формочки. К югу от развалин горна раскопками следующего (1937) года в слое,
состоявшем из золы и мелких угольков [слой золи с
остатками ювелирного производства лежал на расстоянии до 5-
Глиняные
тигельки имеют стандартную форму и размеры (высота
Характерной чертой всех трех мастерских является наличие в них нескольких технических разновидностей ювелирного ремесла (изготовление перегородчатых эмалей, литье в каменных формочках, тиснение по металлу и стекловарение). Этот факт указывает на то, что техника изготовления эмали в Киеве была неразрывно связана с техникой стекловарения. Киевские эмальеры не нуждались в привозном сырье, ибо отлично умели изготовлять его сами.
Ассортимент золотых изделий, украшенных перегородчатой эмалью, очень разнообразен: киевские эмалъеры изготовляли диадемы (табл. LXVI), колты (табл. LXVII, LXVIII), цепи из полых бляшек (табл. LXVIII), кресты, детали книжных переплетов и пр.
Остается невыясненным вопрос о времени освоения киевскими ювелирами техники перегородчатой эмали. Древнейшие русские изделия с эмалью не восходят глубже XI в., именно поэтому Н.П.Кондаков связывал появление этой техники на Руси со временем Ярослава Мудрого, считая ее одним из наиболее очевидных проявлений влияния Византии. Б.А.Рыбаков, не отри[с. 401]цая факта византийского влияния в развитии этого искусства, в то же время считал, что время появления русского эмальерного искусства может быть пересмотрено [Б.А.Рыбаков. Ремесло древией Руси, стр. 393]. Опираясь на трактат Теофила, который вслед за новейшими его исследователями Б.А.Рыбаков относит не к XI-XII вв., как ранее, а ко второй половине Х в., он считает возможным относить появление эмалей на Руси к более раннему времени [там же]. Полагая, что уже в IX-Х вв. в Киеве, “возможно, возникает производство медных колтов с выемчатой эмалью кеттлахского типа”, Б.А.Рыбаков утверждал, что уже “около середины Х в. киевские мастера переходят от выемчатой техники к перегородчатой” в результате тесных сношений с Византией.
“К этому времени, – по мнению исследователя, – относится появление стеклянных браслетов в Приднепровье, что косвенно может быть связано с производством эмалевой массы. Во второй половине Х в. о производстве хороших эмалей в “Руссии” знают в тех странах, с которыми Киев вел оживленную торговлю в IX-Х вв.” [там же, стр. 396].
В противовес этому мнению Г.Ф.Корзухина, на наш взгляд, с большим основанием, решительно настаивает на более позднем освоении техники перегородчатой эмали на Руси, относя появление первых русских изделий этой техники к середине XI в. [Г.Ф.Корзухина. Русские клады IX-XIII вв., стр. 73-74]
Совершенно несомненно, что в XI – XII вв. Киев был крупнейшим и наиболее передовым центром производства перегородчатых эмалей. Памятники этого замечательного искусства весьма высоко ценились уже современниками, как свидетельствует запись на знаменитом Мстиславовом евангелии, которое по поручению князя Мстислава Наслав возил в Царьград и Киев для изготовления драгоценного переплета, украшенного “химипетом” (т.е. финифтью). “Цену же евангелия сего, – читаем мы в этой записи, – один бог ведае” [П.К.Симони. Мстиславово евангелие нач. XII в. в археологическом и палеографическом отношениях. – СПб., 1904, стр. 2-3].
Наряду с драгоценной перегородчатой эмалью в киевских мастерских изготовлялись и более дешевые бронзовые изделия, украшенные выемчатой эмалью. Бронзовая основа этих изделий отливалась в формах. Углубления заполнялись эмалью. В этой технике изготовлялись крестики и различные бляшки. В отличие от перегородчатых эмалей, изготовлявшихся, очевидно, по специальному заказу, бронзовые изделия с выемчатой эмалью выпускались на широкий рынок.
4. Стеклоделие
Среди разнообразных изделий киевского ремесла XI-XIII вв., находимых при раскопках на территории самого Киева и в других городах Среднего Поднепровья, достаточно многочисленны фрагменты различных стеклянных пред[с. 402]метов. Исследователи древнерусской культуры долгое время безоговорочно считали все эти предметы привозными и рассматривали их как свидетельство-торговых связей Руси с Византией и Востоком. Так, не только Н.Аристов утверждал, что стекло на Руси не умели приготовлять до XV в. [Н.Аристов. Промышленность древней Руси. – СПб., 1866, стр. 110-111], но и Д.И.Багалей, книга которого была опубликована спустя шесть лет после завершения раскопок В.В.Хвойки в усадьбе Петровского, считал все стеклянные изделия из киевских раскопок привозными из Сирии и Херсонеса [Д.И.Багалей. Русская история, т. І. М., 1914, стр. 205].
Н.П.Кондаков также считал, что стеклянные изделия на Русь доставлялись исключительно из Сирии. Стекло, по Кондакову, вообще – предмет привозной промышленности [Н.П.Кондаков. Русские клады, стр. 36].
Нельзя не отметить при этом, что еще в начале 1890-х годов И.А.Хойновский энергично защищал мысль о местном производстве не только стеклянных браслетов, но и толстостенной стеклянной посуды, образцы которой, найденные при раскопках в усадьбе Кривпова, были впервые им опубликованы [И.А.Хойновский. Раскопки великокняжеского двора…, стр. 20-21 и табл. IX-X]. В качестве доказательства местного производства стекла И.Хойновский приводил обнаруженные им в окрестностях с.Збранки (в Овручском у.) остатки стеклянного производства и в том числе “большой ком наполовину сплавленных кусков битых стеклянных браслетов” [там же, стр. 20]. Разнообразие в цветах стекла и “правильность отделки” позволяли исследователю считать овручских древлян искусными мастерами стеклянного производства [там же, стр. 21]. Только тонкостенные сосуды на высоких ножках и обломки круглого оконного стекла, ошибочно принятые Хойновским за “стеклянные дискосы”, он считал привозными из Греции [там же, стр. 20].
Раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского были обнаружены остаткиї “обширной мастерской с целым рядом глиняных горнов и печей особого устройства” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 71]. В этой же мастерской, по словам исследователя, “было найдено большое количество сломанных, поврежденных огнем и отчасти расплавленных стеклянных браслетов и таких же колец, большие куски расплавленной и в таком виде застывшей разноцветной эмалевой массы” [там же]. Наряду с остатками стекловарного производства в мастерской была обнаружена упоминавшаяся выше отдельная бронзовая пластинка с прорезанным изображением двух птиц, служившая для изготовления колтов [там же]. Последняя находка, как отмечено выше, свиде[с. 403]тельствовала о том, что в мастерской изготовлялись не только стеклянные браслеты и перстни, но и ювелирные изделия, украшенные перегородчатой эмалью.
К сожалению, в весьма краткой публикации материалов раскопок исследователь не дал ни детального описания обнаруженных им горнов и печей “особого устройства”, ни их изображений. Ничего не добавляют к этим кратким описаниям и выписки из дневника В.В.Хвойки.
Рис. 93.
Тигельки для плавки стекла. Раскопки
Незначительные
остатки разрушенной мастерской стеклянных браслетов были обнаружены нашими
раскопками
Остатки
стекловарной мастерской были открыты в
“было
обнаружено несколько глинобитных разрушенных печей-горнов, среди которых
найдены куски стеклянных сплавов и смальты, обломки стеклянных браслетов,
перстней и тонкостенной посуды (стенки небольших бокалов и круглые донца), а
также разноцветные стеклянные бусы” [В.А.Богусевич.
Мастерские XI в. по изготовлению стекла и смальты в Киеве до материалам
раскопок
О наличии
стекловарного производства свидетельствуют, по словам исследователя, найденные
тут же запасы свинца, состоявшие из большого толстого диета и двух больших
болванок – общим весом около
Исключительный
интерес представляет большая стекловарная мастерская, обнаруженная в
Кирпич, из которого были сложены горны, был подобен кирпичу конца XI в., из которого сложены стены Успенского собора. По мнению В.А.Богусевича, руководившего раскопками горнов, это дает возможность датировать разрушенные печерские горны этим временем [В.А.Богусевич. Мастерские XI в., стр. 15]. Едва ли можно признать этот аргумент достаточным основанием для датировки горнов: кирпич XI в. мог быть использован для сооружения горнов и в более позднее время. Гораздо более серьезным аргументом в пользу отнесения мастерской к XI в. является множество заготовок и вполне готовой мозаичной смальты, найденных возлег горнов. Украшение киевских храмов мозаиками, широко распространенное в Х-XI вв., в XII в. полностью вытесняется фресковой живописью. Мозаичное искусство в Киеве и на Руси вообще с XII в. почти полностью исчезает, возрождаясь лишь в XVIII в.
Конструкция горнов не была отчетливо понята исследователем. По его словам, раскопками были обнаружены “лишь две параллельные стенки, ориентированные с юга на север, между которыми находился провал, заполненный слоями печины, кирпичом и стеклянными сплавами” [там же, стр. 18]. Более отчетливо была, прослежена западная стенка, сохранившая “следы кладки, выложенной на глине из кирпича половняка” [там же]. С северной стороны от горна были обнаружены “части упавшей арочной кладки”, как полагал исследователь, от свода горна. [с. 405]
Горн,
по-видимому, разделялся на несколько ярусов, о чем свидетельствовала находка
стенок круглых отверстий (люфтов) диаметром около
Особый интерес для реконструкции технологических процессов стекловарения представляют найденные в развалах горна обломки глиняных тиглей со стеклянной массой внутри них. Тигли представляли собой крупные сосуды типа плошек с венчиком в виде простого среза с прямоугольными краями и с. небольшим выступом снаружи. Наряду с такими тиглями использовались л обычные горшки со специально отбитыми верхними частями [там же, стр. 19]. В развале горна найдены куски свинца, серы и кобальта. Свинец, как показали анализы. был составной частью в сплаве смальт, доходя там до 60-70%. Сера и кобальт использовались в качестве красителей [там же].
Стекловарная
мастерская, открытая в
Обнаруженные на территории Киева четыре стекловарных мастерских свидетельствуют о широком развитии киевского ремесла по изготовлению стеклянных изделий и исключают возможность каких-либо сомнений в местном производстве многочисленных и разнообразных стеклянных изделий, обнаруживаемых раскопками в развалинах жилищ, на дворах и на улицах древнего Киева.
Остановимся несколько подробнее на различных видах стеклянных изделий, производившихся киевскими ремесленниками.
Наиболее массовую продукцию киевских стекловаров несомненно составляли браслеты (табл. LXIX, 1). Стеклянные браслеты различных цветов, гладкие или витые, являются, одной из наиболее распространенных находок при раскопках древнерусских городов от Тмуторокани на юге до Ладоги и Белозерска на севере. В Киеве при раскопках достаточно крупного масштаба обломки браслетов исчисляются сотнями, а иногда и тысячами, что объясняется не только хрупкостью материала, но и дешевизной самих изделий.
Несмотря на массовость находок ни время появления стеклянных браслетов в древнерусских городах, ни местные особенности, присущие различным центрам их производства, до сих пор не были предметом серьезного исследования. Б.А.Рыбаков, опираясь на находки стеклянных браслетов в Черной могиле, относил время появления их на Руси ко второй половине Х в., подчеркивая при этом одновременность возникновения производства стеклянных браслетов и производства эмалей. Такая “сопряженность стеклоделия и эмальерного [с. 406] ремесла, – по словам Б.А.Рыбакова, – вполне закономерна и объясняется технологическим единством производства стекла и эмалевой массы” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 398]. Обломки стеклянных браслетов Б.А.Рыбаков считает характерной особенностью для всех слоев древнерусских городов от Х до XIII в. [там же, стр. 460]
А.В.Арциховский, наоборот, полагает, что “и для XI в. бытование на Руси этих украшений, хотя и признается всеми археологами, окончательно не доказано пока нигде, если не считать Белой Вежи на Дону” [А.В.Арциховский. Раскопки в Новгороде. – СА, XVIII, 1953, стр. 349]. Ссылку на Черную могилу названный исследователь считает ошибочной, ввиду того что обломок стеклянного браслета был найден там, по словам Д.Я.Самоквасова, “непосредственно под дерном”, т.е. он моложе самого кургана [там же]. Массовое распространение стеклянных браслетов в древнерусских городах А.В.Арциховский относит лишь к XII в. [там же]
Выше, в главе, посвященной киевскому некрополю, отмечалось наличие браслетов в одном из ранних погребений, однако возможно, что в этом случае мы имеем дело с импортным херсонесским (?) изделием.
Со времени открытия мастерской стеклянных браслетов на киевском княжом дворе (раскопки в усадьбе Петровского) не раз высказывалась мысль о том, что центром производства стеклянных браслетов был Киев; оттуда браслеты вывозились во все древнерусские города “от Дрогичина до Мурома и от Ладоги до Бедой Вежи” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 459-460]. По словам Б.А.Рыбакова, “район сбыта вполне соответствовал производственному размаху киевской мастерской” [там же, стр. 460]. Развоз продукции киевских стеклоделов он связывал с деятельностью мелких торговцев-коробейников, разносивших по медвежьим углам древней Руси “щепетильные” товары киевских мастеров [там же, стр. 465]. Совсем недавно мысль о том, что стеклянные браслеты изготовлялись преимущественно в Киеве, вновь высказал В.И.Довженок [В.И.Довженок. К вопросу о сложении древнерусской народности. Доклады VI научной конференции Института археологии АН УССР, Киев, 1953, стр. 55].
Только детальное исследование производственных особенностей браслетов, находимых в различных древнерусских городах, их формы, расцветки позволит когда-нибудь ответить на этот вопрос с достаточным основанием. Однако уже и сейчас версия об обслуживании “киевской мастерской” (или даже мастерскими) рынка от Дрогичина до Мурома и от Ладоги до Белой Вежи не кажется нам правдоподобной. Огромное количество обломков браслетов, характерное для культурных слоев Новгорода, Рязани, Галича и других весьма удаленных от Киева крупных городских ремесленных центров, позволяет [с. 407] предположить наличие самостоятельных центров производства стеклянных изделий в ряде городов. Предположение это подтверждается новыми археологическими находками.
В 1948-1949
гг. стекловарная мастерская была открыта раскопками В.К.Гончарова на городище
Колодяжин. Помимо большого количества разноцветных браслетов и бус, в
развалинах мастерской обнаружены куски сплавившейся стеклянной массы [В.К.Гончаров. 1) Древній Колодяжин. – Вісник АН
УРСР, 1950, № 6, стр. 63; 2) Древний Колодяжин. – КСИИМК, XLI, 1951, стр. 52].
Колодяжин был маленьким укрепленным городком на западной границе Киевской
земли. Свидетельством существования местного производства стеклянных браслетов
в старой Рязани А.Л.Монгайт считал находку бракованного экземпляра браслета, испорченного
в процессе производства [А.Л.Монгайт. Старая
Рязань. – МИА СССР, №
“развал глинобитной печи, в непосредственной близости от которого найдены куски застывшей белой стеклянной массы, обломок расплавленного стеклянного браслета (зеленого цвета), – по-видимому производственный брак, – и железный шлак, применявшийся, как известно, для изготовления стекла” (там же).
К сожалению, по техническим условиям раскрыть полностью комплекс, связанный с печью, не удалось].
Для решения вопроса о самостоятельных центрах производства браслетов имеет большое значение факт, установленный исследованием стратиграфии находок стеклянных браслетов в Новгороде. Наличие браслетов не только в слоях XII-начала XIII в., но и в слоях, относящихся к концу XIII-первой половине XIV в., т.е. ко времени после татаро-монгольского разгрома южнорусских городов, позволяет предположить новгородское производство их [А.В.Арциховский. Раскопки в Новгороде, стр. 349].
Находки стеклянных браслетов в Болгарах в золотоордынском слое второй половины XIII-XIV в. также свидетельствуют о некиевском происхождении этих изделий [Г.Ф.Соловьева и В.В.Кропоткин. К вопросу о производстве, распространении и датировке стеклянных браслетов древней Руси. – КСИИМК, XLIX, 1953, стр. 24].
Значительно меньшее распространение имели стеклянные перстни. Находки их связаны преимущественно с Киевом и некоторыми городами Среднего Поднепровья. По-видимому, производство их связано в основном с деятельностью киевских стеклоделов.
Большое распространение имела в Киеве и в других южнорусских городах разнообразная стеклянная посуда, упоминаемая и в письменных источниках Киевской Руси. На вопрос Кирика, “достоит ли глиняну сосуду молитву даяти осквернившуся, цили толико древяну, а инех избывати?”, епископ отвечал: [с. 408] “яко же древяыу, также глиньну, тако меди и стьклу и сребру и всему твориться молитва” [Н.Аристов, ук.соч , стр. 110].
Достаточно
многочисленные находки стеклянной посуды можно разделить в основном на две
группы, резьо различающиеся по технологическим качествам. К первой относятся
бокалы из тонкого, очень хрупкого бесцветного, полупрозрачного стекла на
круглом донце. В раскопках попадаются обычно именно эти донца (табл.
LXIX, 2); остальные части сосудов рассыпаются на мелкие хрупкие
кусочки. Только однажды такой бокал сохранился целиком. Эта редчайшая находка
происходит из женского погребения, обнаруженного возле каменной гробницы кн.
Ярослава Осмомысла в Успенском соборе в Галиче [Я.Пастернак
Старий Галич. – Краків-Львів, 1944, стр. 140 и рис. 48]. Бокал этот
(высотой около
Многочисленность находок, стандартность формы и размера бокалов свидетельствуют об их массовой выработке. Предположение о местном киевском происхождении этих изделий, высказанное Б.А.Рыбаковым [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси], подтвердилось находкой обломков подобных бокалов в развалинах стекловарной мастерской в Печерском монастыре. Как и в отношении стеклянных браслетов, остается невыясненным время появления бокалов описанного типа. Древнейшие образцы каких-то тоньо-стенных сосудов (“слезниц”) известны в погребальных комплексах киевского некрополя. В ту пору это были, по-видимому, привозные вещи. Местное производство сосудов этого типа представлено массовыми находками в слоях XII-XIII вв.
Рис. 94.
Фрагмент толстостенного стеклянного сосуда с налепными жгутами. Раскопки
Наряду с тонкостенными сосудами описанного типа нередко встречаются обломки крупных сосудов из очень толстого зеленоватого стекла. Это кубки, флаконы и небольшие кувшины. Сосуды имеют достаточно простую форму; [с. 409] но поверхности часто украшены гофрированными валенными жгутами из того же стекла. Серия сосудов этого типа, найденных как в Киеве, так и в других городах Среднего Поднепровья, представлена в коллекции Б.И. и В.Н.Ханенко (ныне собрание Киевского исторического музея). Ряд таких сосудов был найден И.А.Хойновским при раскопках в усадьбе Кривцова; немало обломков сосудов этого рода обнаружено при раскопках последних двух десятилетий (рис. 94). Уже давно высказывались мнения о местном происхождении толстостепной стеклянной посуды [И.А.Хойновский. Раскопки великокняжеского двора…, стр. 20; Древности Приднепровья, вып. V. Киев, 1902, стр. 58; С.Lamm. Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten. – Berlin, 1930].
Раскопками стекловарной мастерской в Печерском монастыре бесспорно установлено также местное изготовление стеклянной мозаичной смальты. Мозаика, покрывавшая роскошным ковром полы, своды и стены киевских храмов и дворцов Х-XI вв., вызывала необходимость огромного количества разноцветной стеклянной смальты, так как применение различных пород естественного камня, широко распространенное в античной мозаике, в интересующую нас эпоху ограничивалось использованием мрамора и шифера, да и то в весьма незначительном количестве. Широко распространенное мнение о привозе приезжими мастерами-мозаичистами готовой смальты с собой опиралось на рассказ Печерского патерика о том, что прибывшие из Царьграда художники отдали игумену “мусию, иже бе принесли на нродание, ею же снятый алтарь строиша” [Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911, стр. 8]. Известно, однако, что сказания о пришествии мастеров-строителей и “писцов церковных” из Царьграда в Киев для постройки и украшения Печерского собора представляют часть так называемого жития Антония, грекофильствующий автор которого исказил действительную историю монастыря [М.Д.Приселков. Очерки по перковно-политической истории Киевской Руси X-X.II вв. – СПб., 1913, стр. 250-252].
Раскопки стекловарной мастерской в Печерском монастыре позволили окончательно выяснить вопрос еще об одном виде стеклянных изделий, широко распространенных в южнорусских городах и, в частности, в Киеве. Еще при раскопках в 1907-1908 гг. руин каменного дворца в усадьбе Петровского среди завалов строительных материалов были обнаружены многочисленные обломки, а порой и целые стекла круглой формы с характерным загнутым бор-гиком, которые сам исследователь уверенно назвал “оконными” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 68]. Такие же стекла были известны и ранее, но обнаруживший их при раскопках в усадьбе Кривцова И.А.Хойновский считал их обломками “стеклянных дискосов” [И.А.Хойновский. Раскопки великокняжеского двора…, стр. 20].
Обломки
круглых оконных стекол с загнутыми бортиками обнаружены в значительном
количестве в развалинах различных зданий Киева, Переяславля, [с. 410]
Вышгорода, Белгорода и др. Раскопками
Найденные возле стекловарных горнов в Печерском монастыре многочисленные обломки оконных стекол неоспоримо свидетельствуют о местном производстве и этой разновидности стеклянных изделий.
Многочисленность церковных и гражданских построек Киева и Киевской Руси несомненно вызывала необходимость организации весьма значительного производства оконного стекла, потребность в котором, разумеется, не могла быть удовлетворена продукцией одной мастерской – в Печерском монастыре, тем более, что последняя изготовляла и смальту и стеклянную посуду. Едва ли можно сомневаться, что дальнейшие раскопки позволят обнаружить еще не одну мастерскую такого рода.
Упоминание Ипатьевской летописи об
оквах, “украшенных стекды римьскими”, в церкви Ивана в Холме, выстроенной
князем Даниилом Галицким в
5. Гончарное дело
История изучения керамики
Остатки разнообразных керамических изделий составляют львиную долю среди археологических находок при раскопках древнерусских городов. Фрагменты керамических изделий при раскопках более или менее значительных масштабов исчисляются десятками тысяч. Нередки и находки различных керамических изделий в целом виде или с незначительными, легко восстанавливаемыми изъянами. Насыщенность культурных слоев древнерусских поселений, городов в особенности, керамическими материалами обусловлена в первую очередь свойством обожженной глины противостоять разрушительному действию переменных почвенных условий, влажности и температуры – свойством, которым в такой мере не обладает ни один другой вид вещественных памятников, за исключением некоторых пород камня. Вполне справедливо поэтому утверждение, что керамические остатки того иди иного поседения, подвергшегося раскопкам широкой площадью, позволяют представить керамический инвентарь этого поселения почти с исчерпывающей полнотой. С удивлением приходится вспомнить мнение Н.Аристова, считавшего гончарное производство древней Руси малоизвестным на том основании, что “глиняная посуда по своей [с. 411] ломкости не сохранилась до нашего времени, а памятники (письменные, – М.К.) молчат о ней” [Н.Аристов, ук. соч., стр. 109].
Изобилие керамических находок в культурных слоях древнерусских городов объясняется, однако, отнюдь не только отмеченным свойством керамики. Различные керамические изделия, связанные с удовлетворением разнообразных материальных и духовных потребностей всех сдоев общества, изготовлялись многочисленными городскими ремесленниками – гончарами – в колоссальном количестве. Относительная дешевизна керамических изделий и благодаря этому доступность значительной части разнообразного керамического ассортимента для всех слоев общества, хрупкость большей части керамических изделий, обусловившая недолговечность бытового пользования ими и тем самым необходимость постоянного воспроизводства их, – все это является причиной того, что керамические изделия представляют среди всех прочих вещественных остатков жизни древнерусского города безусловно самый массовый материал.
Тем более удивительно, что керамическое производство древнерусских городов до настоящего времени отнюдь не принадлежит к числу хорошо изученных разделов истории древнерусского ремесла. Ни вопросы технологии керамического производства, ни ассортимент керамических изделий, характерных для различных центров керамического производства, ни вопросы социальной организации городских ремесленников – гончаров, ни тем более вопросы генезиса различных видов керамических изделий до настоящего времени не изучены с надлежащей полнотой и глубиной.
Главы, посвященные сельскому и городскому гончарному делу в исследовании Б.А.Рыбакова “Ремесло древней Руси”, представляют первую серьезную попытку подойти к решению ряда важнейших вопросов истории и технологии гончарного ремесла на Руси. Правильно и глубоко намеченные Б.А.Рыбаковым пути решения основных вопросов истории керамического ремесла древней Руси в то же время насущно требуют углубленных региональных исследований истории керамического производства в различных центрах древней Руси.
Колоссальный материал, добытый раскопками различных городов древней Руси, к сожалению, в большей своей части остается недоступным для исследования. Исчисляемые тысячами, а нередко и десятками тысяч, фрагменты керамики из раскопок обычно остаются в основном в состоянии почти не разобранных и не систематизированных музейных фондов, постепенно к тому же депаспортизуемых и нередко теряющих какое-либо научное значение. Огромные, часто перепутанные, а нередко вовсе лишенные какой-либо документации залежи керамики в фондах Киевского исторического музея, к сожалению, отнюдь не являются в этом отношении исключением. Из десятков тысяч образцов керамики, тщательно собранных в процессе раскопок и стратиграфически [с. 412] строго локализованных, обычно только несколько единичных экземпляров получают характеристику и воспроизведение в отчетах о раскопках и в последующих монографических разработках.
Раскопками,
ведущимися более ста лет на территории древнего Киева, обнаружено огромное
количество разнообразных керамических изделий. Старые исследователи древнего
Киева из огромного количества находок этого рода оставляли лишь наиболее
сохранившиеся, единичные экземпляры; все остальное выбрасывалось вон и
бесследно пропадало для науки. Но к сожалению, и сохранившиеся в музеях образны
обычно лишены каких-либо паспортных данных об обстоятельствах находки и потому
в значительной мере научно обесценены: сбор массового керамического материала вошел
в практику киевских археологов лишь в сравнительно недавнее время. Раскопками,
проведенными в Киеве Институтом археологии АН УССР в 1936-1937 гг., собрано
немало керамических материалов, к сожалению, оставшихся почти необработанными
самим исследователем, руководившим раскопками. Материалы эти, хранящиеся в
Киевском историческом музее, использованы в настоящем исследовании, как и
другие фонды этого музея. Однако в качестве основного фонда источников для
изучения киевской керамики в настоящей работе привлечены в первую очередь
разнообразные керамические материалы из раскопок Киевской археологической
экспедиции АН СССР и АН УССР (1938-1952 гг.). Значительное количество
фрагментов керамических изделий было обнаружено и исследовано автором в составе
депаспортизованных коллекций из раскопок Д.В.Милеева (1908-1914 гг.) [Материалы из раскопок Д.В.Милеева хранились до
Керамические изделия киевских гончаров отнюдь не исчерпываются огромным количеством фрагментов глиняной посуды, насыщающих древние культурные слои Киевского городища. Особое значение имеют находки целых и частично фрагментированных сосудов и других глиняных предметов в составе комплексов жилых, хозяйственных и производственных сооружений, позволяющих изучать вопросы керамики в тесной связи с другими проблемами киевской культуры домонгольского периода.
В дополнение к этим комплексам, порой определяемым с предельной точностью в отношении хронологии, может быть привлечена серия глиняных сосудов, найденных в качестве вместилищ для известных киевских вещевых и монетных кладов XI-XIII вв.
Огромный размах церковного и дворцового строительства в Киеве с Х по XIII вв. вызвал широкое развитие производства разнообразных керамических строительных материалов: кирпича, черепицы, половых и облицовочных майоликовых плиток, голосников и других видов архитектурной керамики.
Большое распространение в Киеве имело производство терракотовой мелкой пластики, поливных писанок, глиняных иконок и пр. Многие изделия киев[с. 413]ских гончаров шли на широкий рынок далеко за пределы Киева и Киевской земли. Все сказанное делает изучение керамического наследия древнего Киева одной из важнейших проблем истории городского ремесленного производства.
О распространенности керамического ремесла в Киеве, помимо многочисленных находок продукции этого ремесла, свидетельствует также сохранившееся доныне урочище “Гончары”, расположенное в глубоком “удолии” у подножья Андреевской горы, на которой находился древнейший Киевский детинец. Хотя название этого урочища не зафиксировано памятниками древней киевской письменности, едва ли можно сомневаться в том, что возникновение его уходит в глубокую древность.
Горшки
До недавнего
времени на территории древнего Киева не было обнаружено остатков древних
керамических печей. Впервые в
В
Городские гончары Киева, как и гончары Смоленска, Чернигова, Новгорода и других крупнейших древнерусских городов, уже в IX-Х вв. овладели техникой гончарного круга. Обжиг посуды, производившийся не в домашних печах, как раньше, а в специальных горнах, давал равномерную прокаленность черепка, имеющего в изломе достаточно ровный цвет [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 342-343].
Первые образны посуды, изготовленной на гончарном круге, отличались еще грубоватостью формовки, толстыми стенками. Ассортимент изделий в эту пору был, по-видимому, весьма ограничен, хотя следует заметить, что немногочисленность хорошо датированных образцов киевской керамики IX-Х вв. не дает уверенности в том, что в действительности этот ассортимент не был несколько богаче.
Рис. 95.
Глиняный сосуд Х в. Раскопки
При раскопках
в
Многочисленные изделия киевских гончаров XI-XIII вв. представлены прежде всего разнообразной глиняной посудой. Глиняная посуда, служившая как для приготовления пищи и хранения запасов, так и в качестве столовой посуды, широко бытовала не только в утлых жилищах городских ремесленников, но и на богатых дворах киевской знати и в княжеском дворце.
Посуда, изготовлявшаяся киевскими гончарами XI-XIII вв., отличалась от более ранней не только тем, что глиняное тесто ее было значительно лучше приготовлено (городские гончары XI-XIII вв. не применяли уже, как ранее, грубых примесей вроде дресвы), но и тем, что формовка посуды на гончарном круге производилась гораздо тщательнее, стенки сосудов стали значительно тоньше.
Характерной чертой киевской керамики XI-XIII вв. является большое разнообразие ассортимента и тщательность отделки сосудов. Если гончарное ремесло в русских городах в XI-XIII вв. повсеместно сделало значительные успехи, далеко опередив современное деревенское гончарное дело, то киевским гончарам, как и связанным с ними гончарам других городов Среднего Поднепровья, принадлежало безусловно одно из первых мест.
Многочисленные образцы керамики, собранные при раскопках на территории Киева, позволяют наглядно представить разнообразный ассортимент киевской гончарной посуды XI-XIII вв. Значительное количество керамических изделий, происходящих из точно датированных комплексов конца XII-XIII вв., дает возможность для многих типов посуды установить если не дату возникно[с. 415]вения данного типа посуды, то во всяком случае время наиболее широкого бытования ее.
Глиняный
горшок, служивший для варки пищи, был наиболее распространенным типом глиняной
посуды XI-XIII вв.; в этом убеждают не только закопченность наружных стенок, но
и следы пригоревшей пищи на внутренних стенках сосудов этого типа. Нередки
случаи находок горшков в печи киевских жилищ XII-XIII вв. Древним названием
посуды этого типа было “гърнець” (гръньць) – слово, существующее во всех
славянских языках, засвидетельствованное как переводными памятниками
письменности, так и оригинальными [В.Ф.Ржига.
Очерки из истории быта домонгольской Руси. – Труды ГИМ, вып.
Рис. 96.
Горшок из “жилища художника”, раскопки
Размеры горшков бывают различны, но формы и даже пропорции устойчиво повторяются (рис. 96). Разновидностью, вызванной, по-видимому, своеобразием назначения, является горшок с одним ушком, он также входит в обязательный ассортимент глиняной посуды в комплексах киевских жилищ XII-XIII вв.
На табл.
LXX представлены четыре экземпляра сосудов этого типа, попарно
близко повторяющие один другой. Все они происходят из точно датированных комплексов:
первый из “жилища художника” [М.К.Каргер.
Археологические исследования древнего Киева, стр. 22-23], второй служил
вместилищем известного клада, найденного на территории Михайловского
Златоверхого монастыря, неподалеку от “жилища художника”, в
Лишь
незначительно отличаются от упомянутых три горшка, также с одним ушком,
изображенные на табл.
LXXI. Первый из них происходит из жилища, раскопанного в
Рис. 97.
Горшок, в котором был найден клад
От
приведенных выше образцов резко отличается горшок с ушком, в котором был зарыт клад,
найденный в
От кухонных горшков следует отличать довольно близкие к ним по форме сосуды с двумя плоскими ушками, через которые просверлены незначительные круглые отверстия, предназначавшиеся, очевидно, для подвески сосуда. По верхнему краю сосуда на равном расстоянии от ушков делается незначительно выступающий носик. По-видимому, этот тип сосудов служил в качестве рукомойника. Отлично сохранившиеся, почти тождественные но формам и пропорциям образцы таких рукомойников найдены в “жилище художника” [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 22] и в тайнике под Десятинной церковью (рис. 98) [там же, стр. 125]; оба, следовательно, относятся к первой половине XIII в.
|
Рис. 98. Горшок-рукомойник из “жилища художника” (1) и горшок-рукомойник из тайника под Десятинной церковью (2). [с. 419] |
Рис. 99. Фрагмент узкогорлого
кувшина, раскопки Д.В.Милеева (1); узкогорлый кувшин, найденный в |
Среди
керамических изделий, сохранившихся в развалинах киевских жилищ, нередки
находки широкогорлых кувшинов с одной ручкой. Замечательный экземпляр такого
сосуда, покрытый одноцветной светло-желтой поливой, был обнаружен в “жилище
художника” [там же, стр. 22] (табл.
LXXII, 1). Близкий по форме кувшин, найденный в
Нередки
находки фрагментов узкогорлых кувшинов, покрытых в верхней части обильной
орнаментацией, состоящей из прямых концентрических линий, чередующихся с
глубокими наколами (рис. 99, 1) [Коллекция КИМ].
Целый экземпляр такого кувшина был найден в
Почти в каждом из раскопанных
киевских жилищ XII-XIII вв. были встречены характерные белоглиняные сосуды в
виде плоскодонной чашки с большой ручкой (табл.
LXXIII, 1, 2). Такой же чашкой был покрыт сосуд, в котором
был зарыт клад, найденный в
Тарная керамика
|
Рис. 100. Сосуд для хранения зерна,
найденный в “жилище художника”. Раскопки |
Рис. 101. Сосуд, найденный под
древним полом Софии. Раскопки |
К числу
широко распространенных изделий киевских гончаров принадлежат огромные сосуды с
невысоким узким горлом и двумя ручками, служившие в качестве хранилищ запасов
зерна. Всегда тщательно сформованные и отлично обожженные, они свидетельствуют
о высоком уровне керамической техники киевских гончаров. Сосуды эти обычно
зарывались по самое горло в землю, а узкое отверстие их прикрывалось плиткой
или кирпичом. В таком положении сосуды этого типа были обнаружены в “жилище
художника” (рис. 100, в этом [с. 418] случае в сосуде сохранилось более пуда
зерна) [М.К.Каргер Археологические исследования
древнего Киева, стр. 21 и рис. 29], в жилище, раскопанном в
Обломки
аналогичного большого сосуда были найдены в
Случайная находка
в
Особого внимания заслуживает вопрос о производстве амфорной керамики. Широко распространенное мнение о том, что амфоры на Руси были исключительно привозными, было отвергнуто Б.А.Рыбаковым. О местной выработке амфор-корчаг, по мнению Б.А.Рыбакова, свидетельствует находка в Киеве обломка верхней части амфоры с русской надписью, сделанной, по мнению названного исследователя, “рукой мастера-гончара на сырой глине до обжига сосуда” и отнесенной исследователем на основе палеографических и лингвистических наблюдений к XI в. [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 367-369 и 374]
|
Рис. 102. Сосуд для хранения зерна.
Раскопки |
Рис. 103. Обломок корчаги с
надписью, найденный в |
Киевская
находка в действительности свидетельствует о другом. Замечательный фрагмент
киевской амфоры, случайно найденный при земляных работах
Недавно интересующий нас фрагмент обнаружился в самом неожиданном месте… – в Киевском музее западного и восточного искусства, где он в течение нескольких десятилетий пребывал среди фрагментов античной керамики [за указание места хранения фрагмента и предоставление возможности сфотографировать его приношу сердечную благодарность сотруднице музея Ф.М.Штительман]. Достаточно взглянуть на этот вторично обнаруженный замечательный фрагмент (рис. 103), чтобы убедиться, что интересующая нас надпись глубоко и довольно грубо процарапана острием по обожженному сосуду одним из его владельцев и тем самым не может служить материалом для решения вопроса о производстве сосуда на Руси. К этому следует добавить, что отнесение надписи к XI в. совершенно бесспорно исключается уже тем, что по форме самого сосуда (не совсем точно в деталях, но в основном верно реконструированного Б.А.Рыбаковым) дату его нельзя отнести ранее XII – начала XIII в.
Ближайшей
аналогией киевской амфоре с надписью является киевская амфора-корчага,
наполненная хрустальными бусами из жилища, раскопанного в
Близкую
аналогию киевской амфоре представляет недавно найденный в Старой Рязани
фрагмент амфоры-корчаги, также относящейся к XII-XIII вв., с процарапанной на
нем надписью одного из владельцев сосуда [А.Л.Монгайт.
Археологические исследования Старой Рязани в
Содержание
надписи на киевской амфоре вызывало различные толкования. Надпись сохранилась
весьма, фрагментарно; отчетливо читается лишь: “…неша плона корчага си…”
В.Ф.Ржига считал, что надпись, “нацарапанная” почерком XII в., вероятно,
обозначала собственника корчаги [В.Ф.Ржига, ук.
соч., стр. 38]. Б.А.Рыбаков, привлекая для восстановления утраченных
частей надписи опубликованную А.Н.Бернштамом согдийскую надпись на ручке амфоры
VII-VIII вв. (“да будет полным”) [А.Н.Бернштам.
Археологический очерк севераой Киргизии. – Фруиае, 1941, таби. VI],
рассматривает киевскую надпись как благопожелание: “благодатнеша плона корчага
сия” (т. е. “благодатна полная эта корчага”) [Б.А.Рыбаков.
Ремесло древней Руси, стр. 340]. М.Н.Тихомиров, считавший реконструкцию
Б.А.Рыбакова недостаточно убедительной, полагал, что надпись, вероятно, обозначала
собственника сосуда, но могла быть сделана и мастером [М.Н.Тихомиров.
Древнерусские города. Учеиые записки МГУ, вып.
Исключение надписи на киевской амфоре из состава доказательств, свидетельствующих о местном происхождении этой амфоры, разумеется, не дает оснований полностью отвергать возможность местного производства амфор в Под[с. 424]непровье и, в частности, в Киеве. О широком бытовании амфор в южной Руси в XI-XIII вв. свидетельствует не только распространенность в древнерусской письменности термина “корчага”, обозначавшего амфору, но и изображение амфор на миниатюре Радзивилловской летописи (мастер которой копировал древний оригинал), передающей известный летописный рассказ о белгородском киселе (рис. 104). Многочисленность находок амфорной керамики в Киеве и в других городах Среднего Поднепровья, свидетельствующая о распространенном бытовании посуды этого рода на Руси, вое же не является доказательством местного ее производства. Для доказательства этого предположения необходимы дальнейшие поиски.
|
Рис. 104. Миниатюра Радзивилловской летописи. [с. 424] |
Рис. 105. Фрагменты амфор-корчаг.
Усадьба Софийского заповедника Раскопки |
Среди киевских находок, кроме вышеупомянутых, следует отметить ряд более древних амфор, относящихся к XI в. Это обломки удлиненных амфор с высоко поднятыми ручками, в большом количестве встреченные при раскопках на территории Софийского заповедника (рис. 105). Некоторые из них несомненно были использованы в кладке сводов собора наряду со специальными сосудами-голосниками.
О применении
амфор в кладке сводов свидетельствуют также многочисленные находки амфорных
обломков с приставшим к ним древним известковым раствором с примесью цемянки
при раскопках рухнувших сводов Золотых ворот Ярославова города [В.Г.Ляскоронський Звідомлеиня цро розкопи біля
“Золотой брами” у Києві восені 1927 р. – ХАМ, ч. III, Київ, 1931, стр. 45-47.
Как показали раскопки Константинопольского дворца в квартале Манганы, амфоры
употреблялись широко в византийскои зодчестве для заполнения шелыг сводов и
куполов (R.Demangel et Маmboury. Le
quartier des Manganes et la première région de Constantinople. –
Paris, 1939, стр.
46, 148 – 149, рис.
198)]. В значительном количестве [с. 425] обломки амфор с приставшим к ним
известковым раствором с цемянкой были найдены при раскопках в
|
Рис. 106. Фрагмент амфоры с
арабской надписью. Раскопки |
Рис. 107. Метки собственников сосудов на амфорах. [с. 427] |
Наряду с этой арабской надписью можно привести многочисленные примеры процарапанных на стенках амфор разнообразных меток, являющихся несомненно знаками собственников сосудов (рис. 107). Некоторые из тптх явно воспроизводят буквы славянского алфавита.
В памятниках древнерусской письменности, часто упоминающих “корчагу” (кърчага, къръчага, корчага), почти во всех случаях речь идет о сосуде для хранения или перевозки вина [В.Ф.Ржига, ук. соч., стр. 35]. Производным от “корчаги” является несомненно термин “корчажец”, обозначающий небольшой сосуд с вином, который ставят на стол. Среди керамических изделий, широко известных в городах Сред[с. 427]него Поднепровья и, в частности в Киеве, уже давно обратили на себя внимание небольшие сосуды о узким горлом и двумя плоскими ушками с неболыпим отверстием в них (табл, LXXVI), именовавшиеся обычно “амфорками киевского типа” [под этим названием указанные сосуды неоднократно упоминаются еще киевскими археологами конца XIX в.]. По-видимому, это и были “корчажцы”. Выше была уже речь о том, что сосуды интересующего нас тина были найдены в гончарной печи, сохранившейся на территории Софийского заповедника.
Клейма на сосудах
Значительный интерес для изучения вопросов социальной организации гончарного ремесла представляют многочисленные клейма на донцах сосудов, которыми гончары метили свои изделия. Рисунки клейм киевских гончаров характеризуются исключительным разнообразием (рис. 108 – 124), что свидетельствует о многочисленности мастерских, изготовлявших глиняную посуду. Это наблюдение приобретает особенную выразительность, если учесть, что основная часть керамических материалов, использованных для составления наших таблиц, относится, по-видимому, к сравнительно короткому периоду истории гончарного дела (XII – начало XIII в.).
|
Рис. 108. Клейма на донцах сосудов. [с. 428] |
Рис. 109. Клейма на донцах сосудов. [с. 429] |
Рис. 110. Клейма на донцах сосудов. [с. 430] |
|
Рис. 111. Клейма на донцах сосудов. [с. 431] |
Рис. 112. Клейма на донцах сосудов. [с. 432] |
Рис. 113. Клейма на донцах сосудов. [с. 433] |
|
Рис. 114. Клейма на донцах сосудов. [с. 434] |
Рис. 115. Клейма на донцах сосудов. [с. 435] |
Рис. 116. Клейма на донцах сосудов. [с. 436] |
|
Рис. 117. Клейма на донцах сосудов. [с. 437] |
Рис. 118. Клейма на донцах сосудов. [с. 438] |
Рис. 119. Клейма на донцах сосудов. [с. 439] |
|
Рис. 120. Клейма на донцах сосудов. [с. 440] |
Рис. 121. Клейма на донцах сосудов. [с. 441] |
Рис. 122. Клейма на донцах сосудов. [с. 442] |
|
|
||
|
Рис. 123. Клейма на донцах сосудов. [с. 443] |
Рис. 124. Клейма на донцах сосудов. [с. 445] |
|
Необходимо вместе с тем отметить, что среди клейм, сведенных на наших таблицах по типологическим признакам, нет ни одного случая точного повторения одного и того же клейма. Это обстоятельство, даже при учете неполноты собранного материала, не позволяющего делать какие-либо статистические вычисления, вое же свидетельствует о незначительности продукции каждой мастерской.
Среди приведенных на таблицах клейм бросается в глаза несколько групп, близких между собой по основному типу рисунка, но в то же время отличаю[с. 435]щихся той или иной дополнительной особенностью (“отпятнышем”). По-видимому, и в таком развитом городском ремесле, каким было киевское гончарное дело, постепенное усложнение рисунка клейма одного типа свидетельствует о наследственности гончарного дела, что с большей убедительностью было прослежено в сельском гончарном производстве [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 363].
Среди разнообразных гончарных клейм киевской керамики особый интерес вызывают клейма, представляющие рисунки различных княжеских гербов. Такие клейма уже не раз были зарегистрированы на донцах глиняной посуды, найденной в различных древнерусских городах. Серия киевских клейм этого рода наиболее многочисленна и к тому же растет в результате новых археологических исследований. Еще недавно Б.А.Рыбаков, специально занимавшийся исследованием клейм о княжескими знаками, мог указать всего лишь два таких клейма на киевской посуде [там же, стр. 365-360]. Теперь их уже значительно больше (рис. 123, 124). По характеру рисунка они близки к княжеским знакам XII в.
Рис. 125. Днище большого сосуда с изображением княжеского знака. Раскопки В.А.Богусевича на Подоле. [с. 447]
Особого
внимания заслуживает тот факт, что далеко не все находки княжеских клейм на
посуде происходят с территории княжого двора иди его ближайшего окружения.
Клеймо со знаком в виде трезубца, который В.Козловская считала близким к знакам
на монетах Святополка, оказалось на днище горшка в полуземлянке, раскопанной в
Находки глиняной посуды с княжескими знаками далеко от княжого двора свидетельствуют о том, что продукция княжеских гончаров не только удовлетворяла потребности самого княжеского хозяйства, но шла, по-видимому, и на городской рынок. Напомним, что на широкий городской рынок шла частично и продукция княжеских ювелиров (см. выше). Клейма в виде княжеских знаков на днищах глиняной посуды, происходящей с городищ Киевской земли – Белгорода [В.Козловська. Таврований посуд…, рис. 21; Б.А.Рыбаков. Знаки собствеииости в княжеском хозяйстве Киевской Руси Х-XII вв. – СА, VI, 1940, стр. 248 и рис. 72], Вышгорода [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 249 и рис. 73-74], Канева [В.Козловська. Таврований посуд…, рис. 20; Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 248 и рис. 71], Липлявы [В.Козловська. Таврований посуд…, рис. 19. Другое клеймо из Липлявы (ныне в собрании Гос. Эрмитажа) издано Б.А.Рыбаковым (Ремесло древней Руси, стр. 248 и рис. 77)], разумеется, [с. 444] не следует рассматривать как свидетельство о распространении продукции мастерских княжеского двора в Киеве за пределы города. Такие мастерские князья имели, разумеется, не только в Киеве.
Особый интерес представляют княжеские клейма на кирпичах и майоликовых плитках, но к этому вопросу мы вернемся ниже, при рассмотрении производства строительной керамики.
Поливная и расписная керамика
Наряду с простой глиняной посудой, служившей как для варки и хранения пищи, так и в качестве столовой посуды, киевские гончары изготовляли посуду поливную и расписную.
В
дореволюционной науке было распространено убеждение, что вся поливная керамика
в Киевской Руси была привозной. Так, все фрагменты посуды, покрытой глазурью,
из раскопок на городище Княжа гора Н.Ф.Беляшевский безоговорочно относил к
категории импорта [Н.Ф.Беляшевский. Раскопки на
Княжей горе в
Раскопки последних двух десятилетий на территории Киева и ряда других городов Среднего Поднепровья воочию показали, что посуда тиничнтгу местных форм, покрытая как с наружной так и с внутренней стороны одноцветной поливой зеленого или желтого цвета, была в XII-XIII вв. достаточно распространенным явлением. Расцвет киевской поливной керамики несомненно был связан и даже в известной мере обусловлен развитием эмальерного дела и стекловарения. Как справедливо указывал Б.А.Рыбаков, только наличие местного производства эмалевой массы могло позволить гончарам расходовать огромное количество эмали на украшение строительных изразцов и других изделий [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 362-363].
В
Сопоставление
киевской чаши с аналогичной чашей, найденной в
“укрепившееся убеждение в отсутствии на Руси этой отрасли керамической промышленности приводило к тому, что находимые образцы расписной поливной посуды иди приписывали без всяких оснований Переднему Востоку, или относили к более позднему времени” [там же, стр. 170].
Специализированной отраслью производства поливной керамики, тесно связанной с производством поливных строительных плиток, о которых будет речь ниже, было изготовление терракотовых яиц-писанок, покрытых поливным узором, напоминающим фигурные скобки. Исключительная близость орнамента[с. 447]ции этих писанок к узорам на керамических плитках, распространенных в архитектуре Белгорода и Вышгорода, и находки в Киеве тигельков-льячек для их изготовления позволяют предположить, что и поливные писанки производились киевскими гончарами [Б.А.Рыбаков (Ремесло древней Руси, стр. 362) считает, что писанки выделывались либо в Киеве, либо в Белгороде].
Эти нарядные
и портативные изделия имели весьма широкий сбыт. Помимо Киева и других городов
Киевской земли (Канев, Белгород), где находки этих предметов известны уже давно
[К.В.Болсуновский. Писанки как предмет
языческого культа. Киев, 1909], писанки киевского типа найдены в слоях
XII- XIII вв. при раскопках в Галиче [Я.Пастернак.
Старый Галич. – Краків-Львів, 1944, стр. 194] и на некоторых других
городищах Галицкой земли – в Плеснеске [I.Д.Старчук.
Розкопки городища Пдіснеська в 1947-1948 pp. – Археологічні пам’ятки УРСР, т.
III, Київ, 1952, стр. 392-393] и у с. Толсто близ Скалата [Я.Пастернак, ук. соч., стр. 194], в Старой
Рязани [Б.А.Рыбаков. Ремесло древией Руси, стр.
362. А.Л.Монгайт (Старая Рязань. – МИА СССР, №
Наряду с поливной посудой киевские гончары производили также расписную неполивную посуду. Эта разновидность гончарной техники заслуживает того, чтобы на ней остановиться несколько подробнее. Еще В.В.Хвойка, характеризуя местную киевскую керамику, образны которой были обнаружены им при раскопках в усадьбе Петровского, отмечал наряду с распространенной гончарной посудой разной величины и форм, в большинстве случаев украшенной ниже венчика типичным “разновидным орнаментом”, значительно реже [с. 448] встречавшиеся сосуды “с расписным орнаментом, произведенным краской коричневого или красноватого цвета” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 72].
В рукописном дневнике раскопок исследователь сообщал об обломках керамики, “орнаментированной по поверхности светло- и темно-коричневой краской”, обнаруженной в развалинах одного из жилищ, раскопанных в усадьбе Петровского [Выписки из рукописного дневника раскопок В.В.Хвойки, стр. 29; см. также главу VII – “Жилища горожан XI-XIII вв.” (стр. 291 настоящего исследования)].
О находках
фрагментов керамики из светлой глины с расписным орнаментом красного и
коричневого цвета при раскопках
Два фрагмента
расписной керамики были в
Многочисленные
фрагменты нескольких сосудов, стенки которых были почти целиком покрыты коричневой
росписью (табл. LXXVII), были обнаружены при раскопках
Расписная
посуда изредка попадается при раскопках и на городищах Среднего Поднепровья
XI-XIII вв. фрагменты ее были обнаружены в
Светильники. Статуэтки
Среди керамических изделий, принадлежащих наряду с разнообразной досудой к числу массовой продукции киевских гончаров, необходимо отметить [с. 449] светильники, представляющие собой вертикальный стояк в виде полого цилиндра, к которому крепятся две круглых плоских тарелочки.
Впервые на
находки этого рода в Киеве обратил внимание И.А.Хойновский, считавший их,
однако, “гончарными жертвенными сосудами” [Тр. IX АС в
Вильне (1893), т. II, М., 1897, Протоколы, стр. 54]. Характеризуя шесть
почти целых экземпляров светильников, найденных в
“Самыми интересными сосудами я считаю мисочки на стоянцах, на которых, вероятно, приносились и ставились перед идолами приношения. Близость храма Перуна от места, где найдены эти стоянцы, вынуждает меня сделать это предположение. Другого практического житейского употребления эти сосуды не могли иметь” [И.А.Хойновский. Раскопки великокняжеского двора…, стр. 57; см. также табл. XIV, 102 – 103].
И.А.Хойновский полагал, что на эти мисочки
“клались: мед, жертвенные хлебы, плоды, брашно или мясо, а может быть, по летописным преданиям, отрезанный клок волос из головы или бороды жертвователя, и небогатые киевляне ставили эти жертвы перед идолом Перуна” [там же, стр. 57; ср.: И.А.Хойновский. Краткие археологические сведения о предках славян и Руси, вып. I. Киев, 1896, стр. 104].
Хойновский считал древность этих сосудов “весьма значительной”, полагая, что своей формой они похожи на сосуды, найденные Шлиманом при раскопках развалин Трои [И.А.Хойновский. Раскопки великокняжеского двора…, стр. 57].
Несмотря на
многочисленность находок светильников, назначение предметов оставалось долгое
время загадочным. Так, киевский археолог А.Д.Эртель, перечисляя различные
находки древностей, сделанные в
“нескольких целых и обломанных, белой глины, грубой работы сосудов, имеющих форму короткого и широкого бокала, поставленного на толстое донышко, вроде плошки” [А.Д.Эртель. Отчет о наблюдении за земляными работами в районе Старокиевского участка в 1912 году и о найденных при этом предметах. – ВИВ, Киев, 1913, кн. 4, стр. 3].
“На середине этих бокалов, – по словам того же автора, – имеются ободки, как бы повторяющие нижнее донышко, но меньших размеров”.
По мнению автора, описанные предметы “могли служить и чарками, и подсвечниками, и своего рода малороссийскими “каганцами” [там же]. Автор уверят даже, что в Церковщине (под Киевом) были найдены не только “такие же чарки иди подсвечники”, по и “остатки восковых свечей, лепленных руками, которые по размеру соответствуют отверстиям этих глиняных сосудов” [там же, стр. 5].
Находки
светильников, как в обломках, так нередко и в виде почти целых экземпляров,
весьма многочисленны. Особенно часто встречаются они при раскопках городских
жилищ как в самом Киеве, так и в других южнорусских [с. 450] городах XI-XIII
вв. Форма их почти стандартна, хотя существует несколько вариантов,
отличающихся незначительными особенностями (табл. LXXVIII). Очень редко встречаются
фрагменты светильников, покрытых одноцветной (зеленой) поливой [фрагменты поливного светильника обнаружены в жилище,
раскопанном Киевской экспедицией
Форма киевских светильников, но-видимому, восходит к весьма древней традиции, о чем свидетельствуют светильники, относящиеся к первым векам вашей эры, найденные при раскопках боспорских поселений.
Высказывалось мнение, что светильники “киевского типа” были распространены только в Приднепровье и в северо-восточной и северо-западной Руси неизвестны [Н.Н.Воронин. Жилище. В кн.: История культуры древней Руси, т. II. М., 1948, стр. 232]. В действительности светильники “киевского типа” уже давно известны среди находок домонгольского периода в Смоленске [М.К.Неклюдов и С.П.Писарев. О раскопках в Смоленске. – Смоленск, 1901, стр. 32]. Однако необычность этих изделий вызывала и там недоумения даже высококвалифицированных археологов. Так, А.Н.Лявданский, опубликовав рисунок одного из найденных в Смоленске светильников в перевернутом виде, в сопроводительном тексте назвал его “глиняным малопонятным сосудиком, сделанным на гончарном колесе” [А.Н.Лявданский, ук. соч., стр. 207 и рис. 18].
В последние годы светильники “киевского типа” обнаружены при раскопках городища Старой Рязани [А.Л.Монгайт. Старая Рязань, стр. 127 и рис. 93. Следует, однако, отметить, что опубликованный А.Л.Монгайтом светильник по форме существенно отличается от киевских светильников].
До настоящего времени, насколько нам известно, не зарегистрированы находки их ни в Новгороде, ни в городах Владимиро-Суздальской земли.
Среди керамических изделий киевского происхождения наряду со светильниками необходимо упомянуть еще о глиняных “фонарях” оригинальной конструкции, в виде кувшина с ручкой и глухим верхом; в передней части фонаря располагалось широкое отверстие, из которого падал свет горевшей внутри свечи; в верхней части сбоку располагалось маленькое круглое отверстие, обеспечивавшее тягу воздуха. Находки обломков глиняных фонарей в Киеве и в других южнорусских городах очень редки. В севернорусских городах они вовсе неизвестны.
Среди изделий киевских гончаров давно уже обратила на себя внимание еще одна группа предметов, находки которых связаны преимущественно с территорией древнего Киева. Речь идет о различных глиняных фигурках, среди которых наиболее распространенными являются фигурки женщины в широкой, своеобразного покроя одежде и в причудливом высоком головном уборе. Почти [с. 451] всегда на руках женщины ребенок. Кроме женских статуэток, встречаются также фигурки коня, кентавра, птиц, медведя и собак.
Порвые находки статуэток были сделаны при раскопках И.А.Хойновского в усадьбе Кривцова. Это были две белоглиняных головки, одна из которых в высоком головном уборе, и четыре статуэтки, изображающие животных и птиц (утка с утятами, голова какого-то зверя и две свистульки в форме конька и уточки). Три статуэтки были покрыты светло-желтой поливой [И.А.Хойновский. Раскопки великокняжеского двора…, стр. 62 и табл. XVIII, рис. 123-124].
В начале
1890-х годов при земляных работах, связанных с прокладкой канализации на
Подоле, были найдены новые образцы статуэток. Несколько статуэток было
обнаружено при случайных земляных работах на горе Киселевке и в районе
Кирилловских высот. Последние находки этого рода связаны с раскопками па
территории Верхнего Киева, проводившимися здесь начиная с
По вопросу о дате киевских терракот высказывались различные мнения: И.А.Хойновский считал их “архаическими” [там же, стр. 62], не уточняя, однако, этой датировки, В.Б.Антонович относил их к “великокняжеской эпохе” [Древности Приднепровья, вып. V, Киев, 1902, стр. 17, 62-63], В.В.Хвойка и В.Козловская связывали их с культурой славянских городищ Приднепровья Х-XIII вв. [В.В.Xвойка, ук. соч., стр. 52 и 60; В.Козловська. Провідник по археологічному відділу. – Київ, 1928, стр. 39], Л.А.Динцес относил их к “раннему русскому средневековью” [Л.А.Динцес. Русская глиняная игрушка. Происхождение, путь исторического развития. – М.-Л., 1936, стр. 30], Н.В.Валукинский датировал киевские статуэтки XVII- XVIII вв. [Н.В.Валукинский. Глиняные игрушки. Сборник Воронежского гос. историко-.культурного музея, вып. I, Воронеж, 1925, стр. 45-47]
Нет единства мнений и по вопросу о назначении киевских терракот. В.Б.Антонович считал их детскими игрушками, полагая, что головные уборы этих куколок “представляют современные им моды убранства” [Древности Приднепровья, вып. V, Киев, 1902, стр. 17]. Л.А.Динцес пытался проследить связь киевских статуэток со скифскими культовыми изображениями, усматривая и в одежде женских фигурок и особенно в их головном уборе черты великой богини, богини матери скифского мира [Л.А.Динцес, ук. соч., стр. 40-47]. Б.А.Рыбаков считал возможным допустить, что коньки, птицы и свистульки, сделанные крайне примитивно и прочно, были детскими игрушками. В то же время выполненные очень тщательно хрупкие фигурки матери с ребенком он склонен был рассматривать как ритуальные изображения богини – покровительницы дома (скифской Табиты) [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 355-.356]. По мнению упомянутого исследователя, [с. 452]
“в X-XII вв. население Киева еще настолько прочно было привязано к своей тысячелетней земледельческой религии, к своим Родам и Роженицам, тщетно бичуемым христианскими проповедниками, что в фигурах женщины с младенцем мы должны видеть именно богиню, ее священное изображение, а не детскую забаву” [там же, стр. 356].
Отличительной особенностью производства женских статуэток было изготовление головы, которая во всех известных ныне находках вылеплена отдельно от туловища, что дало основание Б.А.Рыбакову утверждать, что головы киевских статуэток “обязательно изготовлялись при помощи специального штампа, аналогичного типосам античных коропластов” [там же].
Образцом такого штампа Б.А.Рыбаков считал найденную в Киеве (на Киселевке) белоглиняную, хорошо обожженную матрицу для оттиска реалистической женской (или детской) головки.
В недавнее
время А.М.Шовкопляс подвергла вопрос о киевских терракотах кардинальному
пересмотру, утверждая, что хранящиеся в Киевском историческом музее многократно
опубликованные терракоты представляют изделия XVII – XVIII вв. и не имеют
никакого отношения к керамике домонгольского периода [А.М.Шовкопляс.
Киевские статуэтки. Доклад на Секции славяно-русской археологии Пленума ИИМК в
Москве, посвященный полевым исследованиям за
Однако при окончательном решении этого вопроса следует избежать огульного отрицания факта существования глиняных терракотовых статуэток домонгольского периода. Найденные в Киеве и в некоторых других городах Среднего Поднепровья фрагменты терракотовых статуэток, представляющих фигурки животных и птиц, а также отдельные человеческие, главным образом мужские фигурки, по нашему убеждению, следует тщательно выделить из массы весьма грубых изделий XVII – XVIII вв. Существенным подспорьем в датировке терракот должны служить тщательные стратиграфические наблюдения при новых находках этого рода.
Плинфа
С конца Х в. в Киеве широко развивается несколько разновидностей гончарного дела, связанных с массовым производством строительных материалов. Древнейшие каменные постройки Киева – княжеские дворцы-гридницы и Десятинная церковь – выстроены в технике так называемой “смешанной кладки” (“opus mixtum”), представляющей чередование рядов кирпича с кладкой из больших блоков очень грубо отесанного камня. Наряду с значительным количеством естественного камня, необходимого для кладки стен и особенно фундаментов зданий, потребность в кирпиче была огромна. Она особенно возросла со второго десятилетия XII в., когда от техники “смешанной кладки” стен [с. 453] киевские зодчие перешли к системе кладки из одного кирпича, применяя камень лишь для бутовой кладки фундаментов.
Как техника кладки древнейших киевских каменных построек, отличающаяся исключительно высоким мастерством и сложностью, так и высокие керамические качества кирпича, происходящего из развалин этих построек, неоспоримо свидетельствуют о том, что основы строительной техники были заимствованы киевскими зодчими в одной из соседних стран с высокоразвитой строительной культурой. Источником знакомства древнерусских зодчих с основами кирпичной строительной техники Б.А.Рыбаков считал византийские города вроде Херсонеса и даже северные хазарские крепости с кирпичными стенами (например, Саркелское городище).
“Не исключена, по мнению того же исследователя, возможность влияния и Дунайской Болгарии, где уже в эпоху царя Симеона (конец IX-начало Х в.) в Преславе существовало местное изготовление кирпича болгарами, что доказывается наличием на них болгарских букв” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 357].
Из приведенного круга возможных источников знакомства Руси с основами строительной техники нужно решительно исключить прежде всего хазарские города. Раскопки хазарской крепости в Саркеле свидетельствуют о том, что и характер примененного там кирпича и самая техника кладки не имеет ничего общего с техникой древнейших киевских построек.
В обстоятельно изученных архитектурных памятниках Херсонеса IX-Х вв. также невозможно усмотреть какие-либо черты, сближающие их с памятниками киевского зодчества Х-XI вв. Уровень строительной техники киевских построек прежде всего неизмеримо выше по сравнению с достаточно примитивной архитектурой Херсонеса, При постройке ряда киевских зданий Х- первой половины XI в. руины некоторых херсонесских построек использовались, по-видимому, лишь как место добычи мрамора.
Вопрос о роли Дунайской Болгарии в сложении киевской строительной техники, учитывая болгаро-русские церковные взаимоотношения в Х в., заслуживает пристального изучения. Известные доныне памятники древнеболгарского зодчества не свидетельствуют о том, что источником характерных особенностей древнейшей строительной техники на Руси является Болгария, но возможно, что дальнейшие раскопки древнеболгарских архитектурных памятников внесут в решение этого вопроса новые данные.
Таким образом, вопрос о происхождении весьма высокой строительной техники, характерной для древнейших построек Киева, остается пока открытым. Единственное летописное свидетельство об участии в постройках времени Владимира Святославича мастеров “от Грек” [Лавр. лет. 6497 (989) г.] слишком обще и не позволяет уточнить происхождение древнейшей строительной традиции на Руси.
Следует, однако, подчеркнуть, что вне зависимости от решения этой проблемы можно предполагать, что уже в древнейших киевских постройках прини[с. 454]мали весьма значительное участие кадры местных русских строителей. Речь идет не только о том, что в ряде особенностей художественного образа древнейших киевских построек (Десятинная церковь, Киевская София) проявились несомненные воздействия древнерусского деревянного зодчества. В настоящей главе нас интересуют другие факты, непосредственно связанные с проблемами истории древнейшего киевского ремесла.
Изучение многочисленных образцов кирпича, происходящих из развалин Десятинной церкви и других построек конца Х в., обогатило налгу науку чрезвычайно важными новыми данными. Производство кирпича состояло из заготовки глины, формовки кирпича в деревянных рамах, просушки его и обжига в специальных печах (“пещь плинфяна”). Просушка кирпича происходила на открытом воздухе, для чего отформованные кирпичи раскладывали на земле на подстилке из соломы (отпечатки ее нередко бывают видны на одной из постелей кирпича). На верхней постели кирпича в большом количестве встречаются отпечатки лап различных животных и домашней птицы, а нередко и детских ног (табл. LXXIX). Иногда на кирпиче видны отпечатки не вовремя выпавшего дождя.
Особый интерес представляют клейма и знаки мастеров, делавшиеся в древнейший период на широкой постелистой части кирпича, а позже и на боковых его сторонах.
На кирпичах, происходящих из руин Десятинной церкви, дважды обнаружены клейма, представляющие надпись рельефными греческими буквами на углубленном прямоугольном поле (табл. LXXX). Ввиду фрагментарности обоих клейм расшифровать надписи не удалось. Однако самый тип клейма, близко напоминающий клейма на византийской и римской керамике (и, в частности, на кирпичах), не оставляет сомнения в том, что перед нами клейма тех мастеров “от Грек”, о которых сообщает летописец.
Наряду с
этими византийскими клеймами на ряде кирпичей, один из которых происходит из
развалин дворца Х в., находившегося возле Десятинной церкви, а остальные из
руин самой церкви, обнаружен родовой знак князя Владимира. Первая находка этого
рода была комментирована как облицовочный кирпич, покрытый цветной поливой,
служивший элементом внутреннего декора дворца [Б.А.Рыбаков.
Ремесло древней Руси, стр. 359-360]. Тщательное изучение этого кирпича,
хранящегося в Киевском историческом музее, позволило убедиться, что никаких
следов поливы на кирпиче нет (табл. LXXX). Рельефные полоски трезубца в
действительности слегка прорисованы белой гуашью, по-видимому, для удобства
фотографирования. На старых фотографиях В.В.Хвойки (
Второй
фрагмент подобного кирпича, найденный в
Не может быть сомнений в том, что клеймо в виде знака князя могли ставить кирпичники, либо сами принадлежавшие к составу княжеских зависимых людей, либо работавшие по заказу княжого двора, что менее вероятно.
В последние годы удалось обнаружить дополнительные веские доказательства участия русских гончаров-“плинфотворителей” в заготовке строительных материалов для постройки Десятинной церкви. На двух кирпичах оказались русские надписи, сделанные по сырой глине до обжига кирпича [М.К.Каргер. Надписи и рисунки на древнерусских кирпичах. – КСИИМК (в печати)] (табл. LXXXIV).
Приведенные выше новые факты свидетельствуют о том, что кирпичи для древнейших киевских построек, называвшиеся греческим термином “плинфа”, изготовлялись не только приезжими мастерами – греками, но и киевскими гончарами. Учитывая огромные потребности в кирпиче, вызванные почти одновременным строительством большого храма и нескольких дворцовых зданий, следует думать, что на первых русских “плинфотворителей” легла основная часть работы по производству строительных материалов.
Кирпич,
изготовлявшийся киевскими гончарами с Х по XIII в., не был одинаков ни по
форме, ни по размерам, ни по своим керамическим качествам. Кирпич Х в. имеет
почти квадратную форму (31:31 см) и весьма незначительную толщину (
Еще более
отличается кирпич из киевских построек второй половины XI – начала XII в. Он
еще толще (
Следует отметить, что кирпичи, происходящие из одной постройки и безусловно из одновременных ее частей, по своим размерам иногда представляют несколько вариантов. Различие это вызывалось, по-видимому, нестандартностью деревянных форм у различных артелей, участвовавших в производстве строительных материалов для одной и той же постройки.
На кирпичах из построек Ярослава (первая половина XI в.), также как и на кирпичах второй половины XI-начала XII в., нам не приходилось встречать каких-либо клейм или знаков. Наоборот, на кирпичах XII-XIII вв. нередки клейма на боковых гранях в виде различных знаков или букв. Вопрос [с. 456] о значении этш весьма разнообразных клейм, особенно распространенных в черниговском и смоленском зодчестве XII-XIII вв., остается не вполне ясным.
Печь для обжига плинфы
Исключительный
интерес для изучения производства строительных материалов в древнем Киеве имеет
печь для обжига кирпича, открытая в
Развалины печи представляют собой остатки большого сооружения, сложенного из бутового камня и древнего плоского кирпича.
Сооружение состоит из двух примыкающих одна к другой камер (табл. LXXXV и рис. 126). Большая по размеру (северная) камера имеет почти квадратный план. Сохранились лишь нижние части стен, сложенные из бутового камня на растворе извести, и кирпичная вымостка пола. Внутренняя поверхность стен облицована кирпичом в один ряд.
На внутренней поверхности стен хорошо прослеживались остатки выступов (лопаток), по четыре с каждой стороны. В растворе бутовой кладки стен сохранились следы бревен (связи), положенных вдоль стен. На полу этой камеры лежал слой золы и мелкого угля, сплошь покрывавший всю площадь пола.
|
Рис. 126. Печь для обжига кирпича. План. Раскопки 1946 с. [с. 457] |
Рис. 127. Печь для обжига кирпича.
Деталь. Раскопки |
Рис. 128. Печь для обжига кирпича. Деталь.
Раскопки |
С северной стороны к камере примыкала вплотную какая-то другая, несколько меньшая по ширине пристройка, от которой сохранилась, по-видимому, лишь незначительная часть. Остальное уничтожено поздней глубокой ямой, обложенной деревом. На всей площади камеры лежал мощный слой развала верхних частей сооружения, состоявший из плоских квадратных кирпичей и незначительного количества бутового камня.
С юга к центральной камере вплотную примыкала вторая, меньшая по площади камера, западная часть которой разрушена поздней ямой. По-видимому, камера имела тоже квадратный план. Стены ее сложены из мелкого битого камня; внутренняя поверхность их облицована кирпичом, поставленным на ребро. На кирпичном полу камеры сохранились нижние части кирпичных столбиков, между которыми образуются узкие продольные и поперечные каналы (рис. 127). С восточной стороны к камере примыкает овальная в плане небольшая камера, стенки которой обложены кирпичом ( в один ряд). Кирпич сильно пережжен. На полу овальной камеры лежал завал золы и углей (рис. 128).
Кладка стен третьей (малой) камеры значительно хуже, чем кладка первой (большой) камеры. Основной массив ее стен состоит из мелкого каменного и кирпичного щебня и даже кусков глины.
От
северо-восточного угла камеры начинается узкий канал, выложенный кирпичами,
поставленными на ребро, дно которого также выстлано кирпичом. Канал имеет
направление к северо-востоку, он сохранился на протяжении около
К востоку от обеих камер обнаружен большой, глубокий котлован, вырытый в материке, с круто падающими стевками. Котлован сплошь заполнен обломками бракованного пережженного кирпича, размеры и керамические качества которого аналогичны кирпичу, из которого были сложены обе камеры.
План и конструктивные особенности камер, а также заполнение расположенного подле них котлована обломками бракованного пережженного кирпича позволяют с несомненностью установить назначение открытого сооружения, Перед нами древние керамические печи для обжига кирпича. Время их сооружения и работы не может быть связано с постройкой древнейшей части Софийского собора (30-е годы XI в.). И кирпич, из которого сложены печи, и обломки бракованной продукции, найденные в котловане в огромном количестве, относятся к типу, широко распространенному в киевском зодчестве конца XI-начала XII в.
Конструктивная
схема раскопанной в
Пол топочной
камеры, выложенный кирпичом, находился на глубине
Продольные и поперечные жаропроводные каналы были перекрыты, по-видимому, сводиками, опиравшимися на кирпичные столбики-устои, или, учитывая незначительную ширину каналов, может быть, даже плоскими перекрытиями, служившими подом для верхней “камеры обжига”. Эта последняя, не сохранившаяся ни в одной своей части, может быть, однако, реконструирована достаточно убедительно на основании многочисленных аналогий. Камера обжига соединялась с топочной камерой печи многочисленными жаропроводными, или, как их принято называть в современной керамической технике, прогарными, отверстиями, расположенными над каналами нижней топочной камеры. Размещенные в камере обжига керамические изделия, в данном случае кирпичи, подвергались действию восходящих вверх через вертикально расположенные жаропроводные отверстия топочных газов и даже прорывавшегося из топливника пламени. Как было устроено перекрытие камеры обжига, сказать трудно. Обыкновенно в подобных печах, по-видимому, устраивали постоянный кирпичный свод с отверстием, сквозь которое производилась загрузка печи. Отверстие это на время производства обжига закладывали плитой и замазывали глиной. Иногда камеру обжига перекрывали, по-видимому, временным глинобитным сводом, который после окончания обжига для разгрузки готовой продукции разбивали.
Значительно труднее понять конструктивную схему второй (северной) камеры. Выступы на ее внутренних стенках имеют несомненно то же значение, которое в южной камере выполняли столбики-устои, – на них опирался под верхней камеры обжига. Однако в средней части топочной камеры не сохранилось никаких остатков от устоев. Разумеется, что топочная камера при ее незначительной площади могла быть перекрыта сводом и без этих средних подпор, однако при этой конструкции камера представляла бы единое пространство, не расчлененное на ряд жаропроводных каналов, что так характерно для конструктивной схемы этого типа печей. Главное затруднение при реконструкции этой камеры заключается, однако, в том, что здесь нет отдельного устройства для топки (топливника), если не принимать за возможный вариант устройство топливника несколько выше сохранившегося уровня развала бутовой кладки стен камеры. Конструкция и назначение почти полностью разрушенной небольшой пристройки с севера для нас совсем непонятны. Необъяснимым элементом конструкции остается также наличие в стенах камеры деревянных связей. Нельзя не подчеркнуть, наконец, что в отличие от южной камеры, пол северной камеры был покрыт сплошным, достаточно толстым слоем золы и мелких угольков.
Принципы
конструктивной схемы софийской печи уходят своими корнями в далекое прошлое.
Если до недавнего времени было широко распространено убеждение в том, что эти
принципы ведут свое происхождение от античных рим[с. 461]ских печей [А.Л.Якобсон. Гончарные печи средневекового
Херсонеса. – КСИИМК, X, 1941, стp. 58], то раскопками последних лет в
Мингечауре (Азербайджан) были обнаружены многочисленные нечи аналогичных
конструкций, восходящие к значительно более раннему времени [Г.И.Ионе. Гончарные печи древнего Мингечаура. –
КСИИМК, XXIV, 1949, стр. 42-54]. К тому же комплекс мингечаурских печей
дает возможность детально проследить историю конструктивной схемы печей
интересующего нас тина от самых простейших устройств, недалеко ушедших от
элементарного очажного обжига, до самых сложных конструкций, позволяющих
считать эти последние несомненно результатом развития местной традиции
керамической техники [сообщением о последних, еще не
опубликованных результатах раскопок печей в Мингечауре в
О широком
распространении керамических печой интересующего нас типа в позднеримский
период говорят многочисленные находки в Западной Германии [J.Loeschcke. Die römischen Ziegelöfen im
Gemeindewald von Speicher. – Trierer Zeitschrift, VI, 1931; Nееb. Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des
Altertumsmuseums der Stadt Mainz. – Mainzer Zeitschrift, VIII-IX, 1913-1914, стр. 129]. Советским археологам принадлежит
открытие печей этой системы в городах Боспора [В.Ф.Гайдукевич.
Античные керамические обжигательные печи. – ИГАИМК, вып.
До недавнего
времени софийская печь стояла совершенно особняком среди известных в настоящее
время древнерусских керамических (кирпичных) печей. В
Голосники. Черепица. Поливные плитки
Киевские
“плинфотворители” изготовляли не только кирпич. Нашими раскопками
|
Рис. 129. Черепица из развалии
Десятинной церкви. Раскопки |
Рис. 130. Голосники из собора Михайловского Златоверхого монастыря. [с. 463] |
Рис. 131. Клейма на голосниках из
Софийского собора. Раскопки |
Среди киевских гончаров, связанных с производством строительных материалов, необходимо отметить еще одну группу мастеров, занятых изготовлением специальной строительной керамики – высоких узкогорлых сосудов, так называемых “голосников” (рис. 130). Сосуды эти, как показали наши исследования Киевской Софии, почти сплошь заполняют пазухи сводов и кладку куполов храма. Количество голосников, примененных в кладке Софии, исчисляется десятками тысяч. Ббльшая часть их совершенно не имеет функций резонаторов и служит исключительно для разгрузки сводов и куполов. Производством этой разновидности строительной керамики, по-видимому, занималась обособленная группа гончаров, хотя технология этого производства принципиально не отличалась от производства обычных горшечников. Голосники всегда делались из хорошо отмученной светлой глины и отлично обжигались, что, по-видимому, обеспечивалось особым контролем качества продукции. На донцах голосников Киевской Софии обычно имеются клейма нередко повторяющегося рисунка (рис. 131).
Наряду с голосниками в развалинах ряда построек, воздвигнутых киевскими зодчими XI-начала XII в., как отмечалось выше, нередко в большом количестве обнаруживаются обломки обыкновенных амфор-корчаг. Приставший к их наружным стенкам известковый раствор с примесью цемянки свидетельствует о том, что сосуды эти подобно голосникам использовались в кладке сводов здания.
Обособленную, весьма значительную группу гончаров-“плинфотворителей” составляли мастера, изготовлявшие полихромные поливные плитки, применявшиеся наряду с мозаичными наборами для полов, а иногда, по-видимому, и для облицовки нижней части стен в богатых жилых постройках.
Производство полихромной поливной строительной керамики, как и отмеченное выше производство поливной посуды, игрушек и так называемых “писанок”, является наглядным свидетельством чрезвычайно высокого уровня киевского керамического ремесла. Считается, что древнейшими образцами строительной поливной керамики являются плитки, составлявшие будто бы орнаментальный фриз, украшавший некогда стены гридницы Х в. [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 360] Выше отмечалось, что эта реконструкция является плодом недоразумения.
Керамические
поливные плитки делались обычно из тщательно отмученной светлой глины. Размеры
их различны, от совсем незначительных до очень крупных (30:30 см) при толщине
от 1.5 до 2.5-
Полы из керамические поливные плиток встречаются в киевских постройках Х-XI вв., обычно лишь в боковых частях здания, тогда как полы центральной части состоят из мозаичных наборов. В начале XII в. керамические плитки полностью вытесняют мозаику.
Наряду с одноцветными широкое распространение имели также полихромные плитки, украшенные орнаментальным узором разных цветов. Сложная техника орнаментации поливных плиток давно известна по материалам раскопок В.В.Хвойки в Белгороде. Основной фон плиток красновато-коричневый. Рисунок в виде волнистых линий, кругов о пятнами внутри, а иногда и в виде стилизованных цветов и гирлянд наносится в технике “пастилажа” поливой белого, желтого, синего или зеленого цвета. Особенно характерным является орнамент из рядов цветных линий, напоминающих фигурные скобки (табл. LXXXVI). Выше отмечалось, что именно этот узор типичен для глиняных яиц-писанок, [с. 465] изготовлявшихся киевскими гончарами и широко расходившихся по городам и селам древней Руси.
Раскопками
последних лет установлено, что описанные выше полихромные плитки отнюдь не
являются какой-то специфической особенностью белгородских построек и
производство их не связано с Белгородом. Плитки этого типа найдены как в самом
Киеве, так и в развалинах храма-усыпальницы Бориса и Глеба в Вышгороде (табл. LXXXVII), а также в развалинах храма
XII в. во Владимире-Волынском (наши раскопки
Рис. 132. Тигли для эмали. [с. 467]
Раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского были открыты остатки мастерской, в которой, по словам исследователя, “изготовлялись превосходные изразцы, покрытые толстым слоем плотной массы в виде эмалевой поливы” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 70]. Тут же были найдены куски разноцветной эмалевой массы и особой формы глиняные тигельки-льячки с двумя ячейками для одновременной плавки эмали равного цвета. У каждой ячейки имелось свое выходное отверстие. В обеих ячейках сохранились остатки эмали двух цветов, прилипшей к стенкам тигелька. Обломки таких же тигельков вновь найдены на той же территории раскопками 1936-1937 гг. (рис. 132).
Изучение многочисленных образцов подихромных поливных плиток, найденных в Киеве, Белгороде и Вышгороде, а также находка описанных выше тигельков-дьячек позволили убедительно восстановить весь технологический процесс изготовления плиток [там же, стр. 70, 93; Н.Д.Полонская. Археологические раскопки В.В.Хвойко 1909-1910 гг. в мест. Белгородке. – Труды Московского предварительного комитета по устройству XV археологического съезда, М., 1911, стр. 60-62; А.В.Филиппов. Древнерусские изразцы, вып. I. М., 1938, стр. 12; Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 361-362].
Плитки первоначально покрывались поливой одного цвета и обжигались в печи. Затем в ячейки двойного тиголька засыпалась эмаль двух различных цветов и на жаровне расплавлялась до жидкого состояния. После этого мастер, попеременно наклоняя тигелек-льячек то в одну, то в другую сторону, выливал через отверстия расплавленную эмаль на горячую плитку. При наклоне дьячка в сторону отверстий получались две параллельные полоски разного цвета, Вытягивая эти полоски каким-либо острием то в одну, то в другую сторону, мастер получал характерные ряды фигурных скобок.
Кроме этого приема нанесения узора льячкой с двойным отверстием, применялся и другой способ изготовления полихромных плиток: на горячую плитку, уже покрытую одноцветной поливой, мастер набрасывал мелко толченые кусочки твердой эмали, после чего, подогревая плитку на жаровне, втирал плавившиеся постепенно кусочки эмали в эмаль фона. В результате получались плитки, [с. 466] полихромная поверхность которых напоминала мрамор или камни о разноцветными прожилками.
Способ нанесения эмалевого узора в технике “пастилажа”, широко распространенной среди киевских гончаров, свидетельствует об очень высоком уровне киевского керамического ремесла. По словам А.В.Филиппова, в этом отношении Киевская Русь опередила Западную Европу, где техника пастилажа появилась значительно позже [А.В.Филиппов, ук. соч., стр. 12].
Находка
описанной мастерской свидетельствует о том, что среди многочисленных
ремесленников, работавших на княжом дворе, были и мастера, занятые
производством полихромных поливных плиток для княжеского строительства.
Подтверждением этого является находка на территории того же княжого двора
поливной плитки, на оборотной стороне которой отчетливо видпо рельефное клеймо
в виде княжеского знака (табл. ХС) [раскопки
6. Обработка дерева, кости и камня
Несмотря на то, что дерево в качестве строительного материала имело в южнорусских городах гораздо меньшее значение, чем на севере Руси, деревянные постройки и различные деревянные изделия были в Киеве очень многочисленны.
О роли плотников-“древодедей” достаточно говорит грандиозное строительство оборонительных сооружений Ярославова города, в конструкции которых весьма значительное место принадлежало системе деревянных клетей, подробно охарактеризованных в главе, посвященной оборонительным сооружениям Киева.
Об участии “древоделей” в церковном строительстве красноречиво повествуют авторы Сказания и Чтений о Борисе и Глебе. Решив построить новый храм-усыпальницу для своих братьев Бориса и Глеба, Ярослав “поведе древоделям приготовлять древо на согражение церкви, бе бо уже время зимно” [Жития муч. Бориса и Глеба. Памятники древнерусской литературы. Изд. ОРЯС АН, вып. 2, Пгр., 1916, стр. 18]. Выполнив повеление князя, “древодепи” выстроили в Вышгороде “храм о пяти верхах”, который князь богато украсил “всякими красотами, иконами и иными писмены” [там же. См. также: М.К.Каргер. К истории киевского зодчества XI в. Храм-мавзолей Бориса и Глеба в Вшпгороде. – СА, XVI, 1952, стр. 77-81]. Спустя полвека князь Изяслав Ярославич взамен обветшалого храма, выстроенного отцом, соорудил новый храм “в вьрх в один” [Жития муч. Бориса и Глеба, стр. 55]. Небезынтересны некоторые подробности, связанные с этой второй постройкой. Изясдав, призвав “старейшину древоделям, повеле ему церковь възградити”. “Старейшина же ту абие събра вся сущая под ним древоделя, съконцав же поведенное ему от благоверного князя” [там же]. Перед нами артель плотников середины XI в., возглавляемая “старейшиной”.
Наряду с церковными и военными оборонительными сооружениями плотники строили деревянные хоромы знати. Они же, по-видимому, сооружали деревянный каркас “дерево-глинобитных” массовых жилищ горожан.
Ремесло, связанное с обработкой дерева, не ограничивалось строительным делом. Из дерева делали ладьи, телеги, стенобитные орудия, домашнюю мебель, посуду и различную утварь: бочки, кадки, корыта, чаши, уполовники, ковши, ложки и многие другие вещи [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 407]. В отличие от севернорусских городов – Новгорода, Ладоги, Белозерска, – где благодаря особым физико-химическим условиям почвы древние деревянные изделия отлично сохраняются, в Киеве и дру[с. 468]гих южнорусские городах деревянные вещи в раскопках встречаются крайне редко. Только по этой причине из огромного ассортимента деревянных изделий, известных по материалам Новгорода и Ладоги, в Киеве представлены лишь очень немногие вещи.
Раскопками последних десятилетий удалось найти остатки деревянных сундучков и шкатулок, скрепленных железными угольниками, ведер и кадушек в железных обручах (рис. 133), лопат с железной оковкой, различной посуды, в том числе обломки двух резных, орнаментированных блюд и ложку (рис. 133).
|
Рис. 133. Деревянные изделия из
“жилища художника”. Раскопки |
Рис. 134. Набор инструментов по
обработке дерева из “жилища художника”. Раскопки |
В “жилище художника” сохранились нижние части четырех ножек, врытых в землю, от стола. В этом же жилище был обнаружен почти полный набор железных инструментов по обработке дерева: топор, сверло, скобель, резец (ложкарь), кирка (рис. 134). Из других инструментов по обработке дерева нередки находки тесла, втулъчатого и простого долота. Пила, употреблявшаяся в древней Руси только для мелких работ, среди киевских находок неизвестна.
Несомненным свидетельством о применении киевскими столярами токарного станка являются обломки двух деревянных блюд, выточенных на станке, найденные в тайнике под развалинами Десятинной церкви (табл. ХСІ, ХСІІ). Не следует думать, что киевская находка является исключительной. Деревянные изделия, выточенные на токарном станке, найдены на Райковецком горо[с. 469]дище, представлявшем в XIII в. небольшой пограничный городок Киевской земли.
Как предполагает Б.А.Рыбаков, ремесло по обработке дерева в русских городам XI-XIII вв. уже распадалось па ряд узких специальностей. В городах существовали огородники (строители крупных зданий), “древодели” (плотники), тесли (столяры), они же могли выступать то как токари, то как бондари или бочкари [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 413].
Весьма широкое распространение в Киеве имело ремесло костерезов. По свидетельству письма митрополита Дристры (XII в.), резьба по кости в то время считалась “искусством руссов” [Н.П.Кондаков. Русские клады, стр. 80, прим. 1]. Технические приемы обработки кости во многих отношениях близки к технике изготовления мелких деревянных изделий. Костяные изделия, широко бытовавшие в Киеве, очень разнообразны и многочисленны. Наиболее распространенными являются гребни, уховертки, шпильки, рукояти ножей, пуговицы, стрелы (табл. XCIII). Более редкими находками являются игральные кости, шахматы, шашки, обкладки луков и седел.
Изучение костяных изделий приводит к выводу о применении в косторезных мастерских целого набора различных инструментов: ножа, резца, сверла, пилы, напильника [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 416]. Несомненно, что костерезы, как и столяры, пользовались токарным станком. Только на токарном ставке могли быть изготовлены круглые шашки и некоторые другие изделия.
В разных районах древнего Киева раскопками удалось обнаружить мастерские по обработке кости. Остатки двух мастерских, в которых выделывались различные предметы из кости и рога – рукоятки и ручки к мечам и ножам, гребешки, пуговки, уховертки, шпильки, всевозможные игрушки и другие костяные и роговые изделия, были открыты раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 71]. Собранный в этих мастерских материал позволяет восстановить весь процесс производства. На ряде изделий, по словам исследователя, были видны
“последовательные фазисы обработки кости и рога, например, можно проследить постепенную обработку пуговок и застежек, начиная от первичной стадии и кончая полной отделкой” [там же, стр. 72].
Остатки косторезного производства – несколько сот опиленных и частично обработанных костей животных, а также готовые изделия из кости – пуговицы, проколки, стрелы (табл. XCIV) – были обнаружены в сильно разрушенном полуземляночном жилище раскопками І936 г. в юго-западной части усадьбы Художественной школы (бывш. усадьба Петровского) [Отчет о работах Киевской археологической экспедиции в 1936-1937 гг., стр. 25-20. Архив НА АН УССР, см. также главу VII – “Жилища горожан XI-XII вв.” (стр. 297- 298 настоящего исследования)]. [с. 470]
Весьма
значительная коллекция разнообразных костяных изделий и заготовок для них,
происходящих из раскопок ряда лет на горе Киселевке, хранится в Киевском историческом
музее [А.М.Шовкопляс. Некоторые данные о
косторезном ремесле в древнем Киеве. – КСИА, вып. 3, Киев, 1954, стр. 27].
Свыше двухсот костяных изделий и заготовок поступили в музей в
Раскопками 1928-1929 гг. на Киселевке была открыта еще одна мастерская, из которой в музей поступило 280 различных костяных изделий [там же, стр. 27; см. также: ХАМ, ч. I, Киев, 1930, стр. 58].
Не последнее место среди других киевских ремесленников занимали мастера по обработке камня. Ремесло это уже в XI-XII вв. несомненно членилось на ряд самостоятельных специальностей. Огромный размах строительного деда вызвал к жизни специальность каменотесов, занятых заготовкой строительных [с. 471] материалов (овручского кварцита, каневского песчаника, известняка). Со строительным дедом была тесно связана и специальность резчиков по камню, изготовлявших барельефные, резанные из шифера парапеты, а также капители, карнизы, наличники дверей, резные плиты пола, инкрустированные мозаичными наборами, и другие архитектурные детали для киевских храмов и дворцов.
В развалинах древних киевских построек, открытых раскопками, обнаружено огромное количество обломков резного камня, свидетельствующих о высоком мастерстве киевских резчиков-монументалистов. Особое внимание среди них привлекают два монументальных барельефа, найденные при раскопках в Дмитриевском Изяславле монастыре, о изображением парных конных фигур, среди которых некоторые исследователи усматривают портретные изображения князей Ярослава и Изяслава. Большой интерес представляют также шиферные плиты с барельефными изображениями Геракла и Кибелы, сохранившиеся в Печерском монастыре, и фрагменты рельефов из руин храма XI в., открытого раскопками на углу Владимирской и Ирининской улиц.
Раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского были открыты остатки мастерской, которая, по словам исследователя,
“служила для выделки всевозможных изделий из камня – здесь выделывались мраморные и шиферные, гранитные и изготовленные из других пород камня карнизы, плиты и т.д., иногда украшенные орнаментом” [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 69-70].
Сравнивая породы камня, употребленного в постройке храма, и характер обработки его с теми законченными или же только начатыми обработкой камнями, которые были обнаружены в мастерской, В.В.Хвойка приходил к выводу о том, что мастерская эта была связана со строительством Десятинной церкви и что в ней изготовлялись преимущественно украшения для этого храма [там же, стр. 70].
Вывод этот
едва ли соответствует действительности. От мастерской, функционировавшей в
период строительства храма, едва ли столь значительные остатки могли
сохраниться до
По-видимому, уже в XI в. в самостоятельную группу выделились мастера, изготовлявшие многочисленные шиферные саркофаги для погребений киевской знати. Среди них наряду с гдадкостенными известны и саркофаги, сплошь покрытые барельефной резьбой (табл. XCV), аналогичной резьбе на архитектурных деталях.
Рис. 135.
Каменные жернова из жилища. Усадьба Михайловского Златоверюго монастыря.
Раскопки
Особой отраслью каменосечного дела было изготовление ручных мукомольных жерновов, встречающихся почти в каждом киевском жилище (рис. 135). По наблюдению Б.А.Рыбакова, не все изделия этого рода являлись в действительности мукомольными жерновами: некоторые из них служили, по-видимому, в качестве циркульных точил [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 420]. [с. 472]
Наряду с перечисленными выше специальностями камнерезного деда широкое распространение имели различные специальности по изготовлению мелких каменных изделий: бус, крестиков, иконок, литейные формочек и др.
Раскопками в
Киеве были обнаружены две мастерские, в которых производились бусы. В
упомянутой уже не раз “мастерской художника”, раскопанной в усадьбе
Михайловского Златоверхого монастыря, среди прочих вещей было найдено около
|
Рис. 136-1. Остатки производства
янтарных изделий в “жилище художника”. Раскопки |
Рис. 136-2. Остатки производства
янтарных изделий в “жилище художника”. Раскопки |
Находки янтарных изделий в киевских жилищах и в погребальных комплексах нередки. По количеству материала и полуфабрикатов киевская мастерская значительно превосходит мастерскую янтарных изделий, открытую в Старой Рязани раскопками В.А.Городцова [А.А.Мансуров. Древнерусские жилища, стр. 86].
Неподалеку от
“жилища художника” раскопками
В коллекциях Киевского исторического музея хранится несколько миниатюрных каменных иконок, резанных из сланца или шифера. Большая их часть, по-видимому, с Княжой горы и лишь отдельные – из Киева [Древности Приднепровья, вып. V. Киев, 1902, табл. XXXVII; вып. VI, Киев, 1907, табл. XXXVIII]. Несколько резных каменных иконок найдено при раскопках на территории усадьбы Десятинной церкви. Все эти любопытные памятники свидетельствуют о существовании в Киеве, а вероятно, и в других городах Киевской земли мастеров-камнерезов, специализировавшихся на мелкой пластике. Южнорусские иконки сильно отличаются от многочисленных каменных иконок большей утонченностью формы.
Выше, при рассмотрении вопроса о каменных литейных формочках, уже была речь о том, что изготовление их, по-видимому, не входило в компетенцию мастеров-литейщиков. Утонченная, порой виртуозно выполненная резьба многих формочек заставляет предположить, что изготовлением их стали заниматься камнерезы, специализировавшиеся на мелкой пластике.
7. Обработка кожи, ткацкое и портняжное дело
Многие разновидности киевского ремесла засвидетельствованы лишь отдельными находками готовой продукции или случайными репликами письменных источников. К пх числу относятся ремесло кожевников, ткачей и портняжное дело, в широком развитии которых трудно сомневаться.
В Киеве поныне существует урочище “Кожемяки” – по-видимому, один из районов, в древности густо заселенных кожевниками. Городские мастера кожевенного дела изготовляли обувь, оружейные ремни, пояса, кожаную сбрую, седла, колчаны, щиты, сумки, рукавицы, книжные переплеты и, наконец, пергамен, служивший в древности единственным материалом для “книжного строения” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 400]. Все эти предметы нередко попадаются в развалинах городских жилищ, [с. 474] а еще чаще в погребальном инвентаре. Многообразие ассортимента кожаных изделий вызвало несомненно большую дифференциацию ремесленников, занятых их изготовлением.
Наряду с
готовыми изделиями кожевенное ремесло представлено и отдельными находками
инструментов – в первую очередь шильев и “усморезного ножа”. В монастырском
уставе, принятом в Киеве в XI в., упомянуты именно эти инструменты: “О
усмошьвци: аще небрежением переломит шило, или ино что, им же усние режуть, да
поклониться 30 и 50 или
О киевских ткачах мы не знаем почти ничего, кроме сравнительно редких находок небольших обрывков различных тканей. Среди них наряду с богатыми заморскими шелковыми и парчовыми тканями византийского и восточного происхождения немало льняных и шерстяных тканей несомненно местного производства.
Большая коллекция тканей, найденных при раскопках тайника под развалинами Десятинной церкви, к сожалению, до сих пор не привлекла внимания специалистов. Так как основные части ткацких станков были деревянными, рассчитывать на находку их в Киеве не приходится.
Среди простых тканей местного производства, обрывки которых находят археологи, разумеется, далеко не все изготовлялись в городе. Домотканное полотно на княжеский и боярские дворы в большом количестве поступало из деревенских вотчин в порядке феодальной повинности. О деревенском производстве тканей в эту пору мы знаем так же мало, как и о городском.
Единственным письменным источником, свидетельствующим о ремесле “швецов” (портных) в Киеве, является рассказ Печерского патерика, повествующий о черноризце, “иже бе своима рукома работав стяжал имениа мало, бе бо порьтный швець” [Д.И.Абрамович. Киево-Печерский патерик. Киев, 1930, стр. 56].
Из археологических материалов о ремесле “швецов” могут свидетельствовать нередкие находки железных осевых ножниц. Однако этот инструмент, разумеется, отнюдь не обязательно говорит о ремесле, ибо им пользовались, конечно, и в домашнем рукоделии.
Многочисленные находки шиферных пряслиц, применявшихся для прядения льна и шерсти, судя по находкам их не только почти в каждом жилище, но иногда и в составе кладов драгоценных ювелирных изделий, говорят также скорее о домашнем “рукоделии”, чем о ремесле.
Выделение городских ремесленников-ткачей, обособившихся от княжеского или боярского двора, по мнению Б.А.Рыбакова, началось с обработки шерсти, тогда как льняные ткани долгое время в основном поставлялись из деревенских вотчин [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 405]. [с. 476]
8. “Книжное строение” и иконопись
Наиболее наглядно высокую духовную культуру Киевской Руси отражает ремесло “книжного строения”.
К сожалению, в древнерусском рукописном наследии, сохранившемся до нашего времени, книги киевского происхождения представлены значительно хуже, чем новгородская письменность. Объяснение этого факта отнюдь не в пренебрежении киевского общества к книжной премудрости; большая часть киевских книг погибла в бурях татаро-монгольского разгрома.
Уже в середине XI в. дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира было создано в Киеве знаменитое Остромирово евангелие – выдающийся памятник древнерусской книжной графики и миниатюры. Двадцатью годами позже, в 1073 и 1076 гг., для киевского князя были написаны знаменитые Изборники, один из которых украшен выходной миниатюрой, представляющей коллективный портрет княжеской семьи.
Перепиской, украшением и переплетом пергаменных книг в Киеве и в других крупнейших городах в XI – XIII вв. занимались не только церковники. Среди известных по книжным записям и послесловиям имен киевских книжных писцов наряду с духовными лицами уже с конца XI в. выступают и светские писцы-ремесленники (Моисей Киянин и др.).
В сложном деде “книжного строения” участвовали мастера различных специальностей. Наряду с писцами, выполнявшими основную работу, художники и “златописцы” украшали книгу заставками, концовками и миниатюрами, а также выписывали сложные орнаментальные, а иногда и изобразительные инициалы. О работе переплетчиков была уже речь в связи с мастерством “златокузнецов”. [с. 477]
О ремесленниках-живописцах,
создавших замечательные монументальные циклы фресковых росписей и мозаик,
сохранившихся на стенах киевских храмов, и поражающие нас своим изумительным
мастерством станковые иконы, большая часть которых бесследно пропала в бурях монгольского
разгрома Киева, мы знаем значительно меньше, чем о “златокузнепах”, литейщиках,
гончарах и косторезах. Тем больший интерес представляет раскопанное в
Рис. 137.
Горшочки с красками из “жилища художника”. Раскопки
На полу этой исключительной по составу находок полуземлянки, кроме разнообразного бытового инвентаря, был обнаружен описанный выше комплект инструментов по обработке дерева. Однако было бы ошибкой считать владельца этого жилища-мастерской простым плотником. В углу на полу жилища лежали четырнадцать маленьких глиняных горшочков, внутри которых сохранились остатки различных минеральных красок. Вместе с горшочками лежала одна раковина unio, на стенках которой также были следы краски. Горшочки имеют различную форму: одни передают в миниатюре форму больших глиняных горшков, другие сделаны по образцу неглубоких плошек, два из них имеют ручки разной формы (рис. 137) [М.К.Каргер. Археологические исследования древнего Киева, стр. 30-31]. Находка эта совершенно исключительна, – ничего подобного среди остатков ремесленных производств древней Руси до сих пор не было известно. Некоторое представление о процессе труда древнерусских художников давали лишь изображения художников-иконописцев за работой на миниатюрах XVI-XVII вв., но не говоря уже о большой условности этих изображений, все они относятся к значительно более позднему времени.
Горшочки с красками, найденные наряду с инструментами по обработке дерева, позволяют, казалось бы, прийти к выводу о том, что здесь жил и работал мастер-иконописец. Однако находка в этой же мастерской остатков производства янтарных бус (см. выше, стр. 473) позволяет думать, что в мастерской занимались художественным ремеслом по меньшей мере в двух его разновидностях.
В той же мастерской были найдены некоторые предметы, появление которых здесь мы затрудняемся понять. В мастерской находились бронзовая лампада, серебряная лунница от конской сбруи с рельефным изображением двух птиц (табл. XCVII, 1) и еще один предмет, применение которого осталось невыясненным, но связь его с каким-то производственным процессом казалась бесспорной. Это небольшой медный сосуд с металлической ручкой в виде стержня, на который была насажена деревянная рукоять (табл. XCVII, 2). Особенностью этого сосуда является своеобразная приклепка дна с помощью загнутых, переплетенных между собой краев днищ и стенок. Сосуд сделан из тонкой листовой меди и употреблялся, по-видимому, для подогревания (но не плавки) какого-то материала. [с. 478]
Серебряную подвеску-дунницу и бронзовую лампаду церковного типа невозможно связать с личными потребностями владельца жилища-мастерской. Находились ли эти предметы в починке у мастера, или же они должны были пройти здесь какую-то дополнительную обработку, ответить на этот вопрос едва ли возможно.
9. Некоторые вопросы социального развития ремесла
Характеристики многочисленных разновидностей киевского ремесла, изложенные в предыдущих разделах главы, свидетельствуют о высоком уровне киевского ремесла, уже к началу XI в. освоившего ряд сложнейших в техническом отношении производств. Характерной чертой киевского ремесла является непрерывный рост его технической зрелости, усовершенствование старых технических приемов, разработка и освоение новых. Мы убедились, что некоторые разновидности техники, такие, например, как литье в “имитационных” формочках, были введены в практику буквально накануне монгольского нашествия.
Однако изучение ремесла как важнейшего социального фактора в истории древнерусского города отнюдь не может быть ограничено вопросами истории ремесленной техники.
Изучение социальной стороны ремесленного производства не могло не привлекать наше внимание уже при характеристике отдельных разновидностей ремесленной техники. Однако эти вопросы необходимо углубить и обобщить. Социальная организация ремесла в древнерусском городе, роль различных форм ремесленного производства в общей экономике феодального общества, значение ремесла в формировании феодального города – все эти вопросы являются важнейшими проблемами истории древнерусского города вообще и истории Киева – крупнейшего города древней Руси – в частности. Само отделение города от деревни и возникновение противоположности их интересов было итогом “отделения промышленного и торгового труда от труда земледельческого” [К.Маркс и Ф.Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. IV, М., 1933, стр. 12].
“Город в смысле сосредоточения ремесла и торговли, – писал Б.Д.Греков, имея в виду древнерусские города, какого бы происхождения он не был – возникал ли он из “града”-замка, вотчины, крестьянского поселения или крепости – всегда есть результат общественного разделения труда и является поседением с преобладающим населением ремесленного и торгового характера” [Б.Д.Греков. Киевская Русь, стр. 96].
Отделение города от деревни представляет длительный и сложный процесс, К.Маркс считал, что в Германии он происходил в IX-XII вв. [К.Маркс. Письмо к П.В.Анненкову 28.12.1846. В кн.: К.Маркс и Ф.Энгельс, Избр. произведения, т. II, М., 1948, стр. 425]
Изучение социальной основы городского ремесленного производства вызывает необходимость исследовать вопрос о связях городских ремесленников [с. 479] с потребителями их продукции, т.е. коснуться вопроса о формах сбыта ремесленной продукции. Изучение проблемы сбыта требует в первую очередь расчленения ремесленников древнерусского города на две, хотя и не вполне разобщенные, но все же резко отличные по своей социальной природе группы. Мы имеем в виду, с одной стороны, вотчинных ремесленников, входивших в состав княжеских, боярских или монастырских феодальных вотчин, и свободных городских ремесленников, составлявших основное население посада древнерусского города.
Археологические исследования древнего Киева, наиболее широко развернувшиеся на территории, которая с конца Х и вплоть до середины XIII в. была занята главным княжеским двором, с середины XII в. именовавшимся “Большим” или “Ярославовым”, а также “Мстиславовым двором”, и княжескими монастырями, позволили изучить вопросы вотчинного ремесла более полно и разносторонне, чем в каком-либо другом древнерусском городе. Наоборот, в изучении ремесленников городского посада, территория которого стала привлекать внимание археологов лишь в последние годы, сделаны лишь первые шаги.
На территории, либо непосредственно входившей в границы княжого двора, либо в ближайшем окружении последнего раскопками В.В.Хвойки в 1907- 1908 гг., Института археологии АН УССР в 1936-1937 гг. и Киевской экспедиции АН СССР и АН УССР в 1938-1939, 1948-1949 гг. было открыто несколько мастерских, подробно описанных выше. Это были мастерская по обработке строительного камня, мастерская, изготовлявшая поливные плитки, мастерская по изготовлению перегородчатых эмалей и стеклянных браслетов, ювелирная, литейная и косторезная мастерские.
Не только местоположение всех этих мастерских в непосредственном соседстве с каменными княжескими дворцами, но и характерные черты значительной части продукции этих мастерских, связанной с обслуживанием кннжсско-боярской верхушки киевского общества, свидетельствуют о дворцовом, вотчинном характере перечисленных выше мастерских. Едва ли можно сомневаться в том, что именно в этих мастерских или им подобных изготовлялись золотые с перегородчатой эмалью или серебряные, украшенные чернью, зернью и филигранью изысканные изделия, сохранившиеся в составе многочисленных киевских кладов, поражающие нас и поныне своим изумительным мастерством.
Но мастера, работавшие на княжом дворе, как показано выше, изготовляли не только драгоценную “кузнь” княжеско-боярского убора. Княжеские мастерские обслуживали разнообразные потребности княжого двора, изготовляя и простую глиняную посуду (напомним о горшках с княжескими знаками на донце), и все виды строительных материалов (напомним о кирпичах и поливных плитках с такими же знаками и мастерскую камнерезов, открытую раскопками В.В.Хвойки), и многое другое.
Выше приводился текст одной из статей Пространной Русской Правды, говорящей о ремесленниках в составе хозяйства княжого двора. Княжеское законодательство приравнивало штраф за убийство ремесленников княжого двора [с. 480] к штрафу за убийство таких представителей княжеской администрации, как сельский иди ратайный тиун, что несомненно свидетельствует о большой ценности ремесленника в системе вотчинного хозяйства.
Приведенные выше археологические материалы, позволившие до некоторой степени реконструировать техническую сторону различных видов ремесла, разумеется, недостаточны для того, чтобы восстановить с желательной полнотой социально-экономический характер вотчинного ремесла на княжом дворе.
Нет никаких оснований согласиться с мнением А.С.Гущина, полагавшего, что мастерские на киевском княжом дворе были основаны на рабском труде:
“Зная о наличии и характере рабовладения в Киевской Руси, – писал названный исследователь, – можем заключить, что и труд работавших в них был трудом подневольным, для раннего же периода вероятнее всего – трудом рабским” [А.С.Гущин. Памятники художественного ремесла…, стр. 25].
“Такими иноземными рабами, – развивал А.С.Гущин свою гипотезу, – были, возможно, вывезенные пленниками из походов на юго-восток первые мастера цветных поливных плиток, рабами или полусвободными могли быть и отдававшиеся им в помощь и выучку местные жители” [там же].
Первыми руководителями этих мастерских и учителями первых русских мастеров А.С.Гущин считал греков:
“В этих мастерских, – писал он, – работали, возможно, и лично свободные иноземные мастера, например греки, знавшие и обучившие местных мастеров технике перегородчатых эмалей на золотых изделиях, так широко распространенной, как местное уже производство, в XI и XII вв., но и они могли быть также рабами из военнопленных, подобно тем рабыням-гречанкам, каких знают наши письменные источники” [там же].
Труд ремесленников княжого двора, как и вотчинных ремесленников вообще, был действительно “трудом подневольным”, но подневольность эта выражалась в интересующую нас эпоху в формах феодальной зависимости, а отнюдь не в форме рабства. Гипотеза А.С.Гущина о вывезенных из походов на юго-восток “рабах-пленниках” и о греческих учителях из рабов-военнопленных, обучивших первых русских ремесленников, не может быть подтверждена какими-либо доказательствами.
Археологические материалы позволяют выяснить ряд особенностей организации ремесла на княжом дворе. Необходимо прежде всего подчеркнуть, что мастера, работавшие на княжом дворе, отнюдь не ограничивали свою деятельность удовлетворением потребностей только самого княжеского хозяйства. При описании остатков ювелирной мастерской на княжом дворе отмечалось, что наряду с изготовлением изысканных золотых изделий с перегородчатой эмалью в той же мастерской изготовлялись обыкновенные стеклянные браслеты, которые несомненно шли на широкий городской рынок. [с. 481]
Княжеские ювелиры наряду с изготовлением по индивидуальному заказу сложнейших серебряных и золотых изделий одновременно выбрасывали на широкий городской рынок свинцовые и оловянные отливки этих же изделий, изготовлявшиеся с помощью новой техники литья в каменных “имитационных” формочках.
В мастерских на княжом дворе, по-видимому, изготовляли на городской рынок также простые медные литые кресты, украшенные одноцветной выемчатой эмалью. Более того, при описании клейм на массовой гончарной посуде мы отмечали немалое количество простых глиняных сосудов разных типов, найденных весьма далеко от территории княжого двора и тем не менее имевших на донцах клеймо в виде княжеского знака, что свидетельствует об изготовлении их в княжеских мастерских.
Все эти факты говорят, по образному выражению Б.А.Рыбакова, о том, что
“стены древнего Владимирова города, внутри которых располагались дома княжеских ремесленников, не препятствовали им совмещать работу по заказу своего господина с работой на рынок” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 497].
Связь между мастерскими княжого двора и городскими ремесленниками, по мнению названного исследователя, выражалась также и в том, что
“ремесленники городского посада стремились подражать княжеским мастерам и при помощи упрощенных технических приемов воспроизводить тонкости их ювелирного искусства для широких слоев городского населения” [там же, стр. 498].
Эту мысль можно принять лишь с той поправкой, о которой была речь при описании техники литья в “имитационных” формочках. Воспроизведением изысканных ювелирных изделий при помощи упрощенных технических приемов занимались не только ремесленники городского посада, но в первую очередь и сами княжеские мастерские, применявшие с середины XII в. обе эти техники. В этом отношении не они “подражали посадским ремесленникам Флоровой горы”, как утверждает Б.А.Рыбаков, а ремесленники Флоровой горы подхватили новую технику, примененную на княжом дворе с целью овладеть широким городским рынком.
Весьма важно выяснить время, когда княжеские мастерские наряду с удовлетворением потребностей самого княжеского двора перешли к работе на рынок. Известные нам факты говорят в основном о периоде, непосредственно предшествующем татаро-монгольскому нашествию. К этой именно поре, как показано выше, относятся все мастерские, расположенные в усадьбе Петровского.
Изготовление стеклянных браслетов на княжом дворе, которое Б.А.Рыбаков отнес к XI в. [там же], в действительности оказывается бесспорно зарегистрированным лишь для середины XIII в. К этой же поре должно быть отнесено, как это установлено выше, и широкое внедрение техники отливки свинцовых и оловянных изделий в “имитационных” формочках. [с. 482]
Известные доныне клейма в виде княжеских знаков на глиняной посуде, найденной за пределами княжого двора, но характеру знаков могут быть отнесены как к XII в., так отчасти и к более раннему времени. Если это наблюдение удалось бы подтвердить новыми находками, можно было бы прийти к заключению о том, что продукция керамических мастерских княжого двора раньше, чем продукция других мастерских, вышла на городской рынок.
Б.А.Рыбаков пытался поставить еще один очень важный вопрос, для решения которого мы, к сожалению, не располагаем какими-либо данными.
“По отношению к стеклянным браслетам, производство которых с самого начала носило массовый характер, – по мысли Б.А.Рыбакова, – может быть, следует поставить вопрос не о самостоятельной работе стеклодела на рынок, а об особой организации княжеского хозяйства, использовавшего своих дворовых мастеров для производства ходкого товара, собственником которого мог быть сам владелец двора” [там же].
Едва ли производство стеклянных браслетов в отношении сбыта представляло какое-то исключение. Метя свою посуду княжеским знаком, т.е. тем самым подчеркивая несамостоятельный характер своего производства, гончар с княжого двора едва ли мог распоряжаться своей продукцией как ее собственник.
То же самое следует сказать и об отливках в “имитационных” формочках. На широкий городской рынок во всех случаях выходил со своей продукцией не ремесленник, являвшийся человеком социально зависимым, а само феодальное хозяйство. Вывод этот, разумеется, следует рассматривать лишь как предварительную гипотезу, нуждающуюся в подкреплении новыми фактами.
Вотчинное ремесло в Киеве, как и в других городских центрах, выступает не только как ремесло, развивавшееся на княжом дворе. От вотчинного ремесла кдяжого двора ремесло крупных боярских иди монастырских вотчин отличалось, по-видимому, лишь в количественном отношении.
О дворах киевских бояр, представлявших порой весьма крупные хозяйственные организмы, мы знаем преимущественно по летописным сказаниям, нередко упоминающим о дворах киевской знати в связи о различными событиями политической истории. Письменные источники, с исчерпывающей полнотой собранные и проанализированные в одной из предыдущих глав, не дают почти ничего для характеристики хозяйственной жизни этих дворов.
Несколько интереснейших мастерских на территории Михайловского Златоверхого монастыря, раскопанных в 1938, 1948 и 1949 гг., могут служить прекрасным материалом для характеристики вотчинного монастырского ремесла, ибо можно с уверенностью связать эти мастерские с хозяйственной жизнью Михайловского монастыря Изяславичей.
О
хозяйственной жизни митрополичьего двора до недавнего времени не было известно
ничего. Открытая в
Трудно
сказать, к составу какого хозяйства принадлежала открытая в
О вотчинном
ремесле крупнейшего монастыря свидетельствуют не только ряд сказаний Печерского
патерика, но и открытые в
Материалы для
характеристики свободного городского ремесла в Киеве весьма неполны и
отрывочны. Раскопки в тех районах древнего города, который в основном были
заселены посадскими ремесленниками, крайне затруднены условиями жизни
современного города. Раскопки Института археологии на Подоле (
Важнейшей проблемой истории городского ремесла является вопрос о сбыте продукции. Сколь широкий рынок обслуживало городское ремесленное производство, каков был характер связей городских мастеров с потребителями их продукции – на эти вопросы археологи могут дать ответ, изучив районы распространения различных видов продукции городского ремесла. Весьма интересные попытки в этом отношении были сделаны Б.А.Рыбаковым, разработавшим особую методику, основы которой сводились к тому,
“чтобы во всей массе продукции русских ремесленников Х-XIII вв., сохраненной нам в городищах, курганах, кладах и монастырских ризницах, уловить вещи, изготовленные одним мастером или в одной мастерской” [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 435].
Результаты этих тщательных наблюдений, требовавших нередко десятков тысяч сопоставлений, наносились автором на карту, которая затем подвергалась историко-географическому пересмотру, чтобы исключить из нее элемент случайности, относящийся ж явлениям не экономического порядка [там же].
Применение этой методики к массовому материалу деревенских курганных древностей позволило автору установить ряд бесспорных положений для характеристики деревенского ремесла древней Руси. Однако пользование этой методикой в отношении продукции городских мастеров в силу ряда особенностей этого вида археологических материалов и прежде всего ввиду отсутствия устойчивого статистического фундамента для наблюдений связано с большими трудностями и не всегда обеспечивает те выводы, которые удавалось сделать в отношении деревенского ремесла.
Наиболее массовой продукцией городского ремесла несомненно была глиняная посуда. Об этом свидетельствует не только огромное количество остатков [с. 484] ее, находимых во всех районах древнего Киева, но и отмвченнал выше стандартность форм разных типов посуды.
Важнейшим материалом для установления количества мастерских, изготовлявших эту посуду, для выяснения производственных возможностей этих мастерских и, наконец, для изучения района сбыта продукции этих мастерских являются многочисленные клейма гончаров. Однако при характеристике этого материала уже отмечалось, что среди почти двух сотен зарегистрированных на киевской керамике клейм не обнаружено и двух, вполне совпадающих, т.е. клейм одного мастера (или мастерской). Даже учитывая неполноту и случайность находок, все же приходится сделать заключение о том, что при огромном количестве керамических мастерских продукция каждой из них была, по-видимому, незначительна.
Стандартность ряда типов глиняной посуды, найденной не только в Киеве, но и на многих городищах Киевской земли (Вышгород, Белгород, Сахновка, Княжа гора, Райки), отнюдь не свидетельствует, разумеется, в пользу киевского (городского) производства этой посуды. Причина этой стандартности лежит в том, что гончары названных городов Киевской земли выпускали точно такую же посуду, как и их столичные собратья по ремеслу. Тем самым задача выяснения района распространения продукции киевских гончаров становится весьма затруднительной.
Киевские гончары выпускали на очень широкий рынок некоторые виды продукции, составлявшие, по-видимому, их производственный секрет: писанки киевского типа, терракотовые статуэтки, может быть, светильники и расписную керамику. Следует оговориться, что гончары отдельных городских центров Среднего Поднепровья, возможно, пытались изготовлять ту же продукцию.
По массовости продукции городским гончарам немного уступали стекловары, изготовлявшие браслеты. До тех пор пока единственным центром их производства признавался Киев, находки стеклянных браслетов служили, казалось бы, убедительным доказательством того, что “от Дрогичина до Мурома и от Ладоги до Белой Вежи и Тмуторокани” простирался огромный “район сбыта” киевской мастерской, что в свою очередь свидетельствовало об огромном “производственном размахе” этой мастерской [там же, стр. 459-460].
Однако выше приведены факты, заставляющие усомниться в убедительности этой картины. Киевские мастерские стеклянных браслетов, как показывают новые археологические открытия, отнюдь не являлись единственными поставщиками этих изделий во все древнерусские города. Если не только в Новгороде, но и в таком маленьком пограничном городке, как Колодяжин, или в далекой Костроме в XII-XIII вв. были свои мастерские, производившие браслеты, район сбыта киевских мастерских следует, по-видимому, значительно сузить.
Несомненный приоритет киевских мастеров в применении свинцовых или оловянных отливок в “имитационых” формочках позволяет, кавалооь бы, уста[с. 485]новить район сбыта этих мастерских. Однако, как показано выше, при обилии самих формочек находки изделий этого рода пока единичны. К тому же находки их на Княжой горе не обязательно следует связывать с Киевом, ибо само городище на Княжой горе было, по-видимому, крупным ремесленным центром, в частности и по производству различных ювелирных изделий.
Следует учесть также, что отливками в “имитационных” формочках, как выяснено выше, занимались не только ремесленники киевского посада, но и в весьма значительных размерах ювелиры княжого двора.
Б.А.Рыбаков и Г.Ф.Корзухина исследовали вопрос о сбыте массовой продукции киевских литейщиков, выпускавших медные кресты различных типов, змеевики, иконки и т.п. Количество киевских изделий этого вида поистине огромно. В.А.Рыбаков упоминает о 342 исследованных им энколпионах [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 454 сл.], различные медные кресты, энколпионы и иконки, исследованные Г.Ф.Корзухиной, исчисляются тысячами. Для некоторых видов этой продукции удалось установить и дату выпуска и, с известной степенью вероятности, мастерскую [там же].
Производством этих изделий занимались ремесленники княжого двора (там найдены каменные литейные формочки некоторых типов крестов) [Б.А.Рыбаков (там же, стр. 455 сл.) ошибочно считает, что одна из этих формочек служила для отливки весьма распространенного типа энколпионов, найденных в ряде хорошо датированных комплексов предмонгольской поры. В действительности эта формочка не имеет никакого отношения к энколпионам этого типа (см. по этому вопросу: Г.Ф.Корзухина. Киевские ювелиры…, стр. 219, прим. 2)], и, судя по находкам формочек для отливки крестов на Флоровой горе и в других районах города, ремесленники городского посада. Весьма вероятно активное участие в производстве этих изделий монастырских ремесленников.
Широкий ареал распространения изделий этого рода объясняется крупнейшей ролью Киева как центра религиозной и церковной жизни страны. Наряду с многочисленными находками их в городских центрах Киевской земли и в других древнерусских городах установлено, что значительная часть изделий (например, крестики с желтой эмалью) шла в деревню, проникая в самые глухие уголки различных русских княжеств [Б.А.Рыбаков. Там же, стр. 459].
Широкий сбыт не только на киевском городском рынке имели многие изделия городских кузнецов. Особенно далеко шла слава о трубчатых замках со сложным механизмом, которые изготовляли киевские кузнецы. Изделия эти встречаются не только на любом городище Киевской земли, но и далеко за ее пределами.
Значительный интерес для изучения свободного городского ремесла представляют немногочисленные известия письменных источников о киевских строителях. О деятельности артели “древоделей” XI в., возглавлявшейся “старейшиной”, была уже речь выше. В сказании об освящении храма Георгия, зане[с. 486]сенном в некоторые списки славяно-русского Пролога, имеется чрезвычайно интересное известие о городских строителях каменных построек. При постройке церкви выяснилось, что “не бе многа делатель у нея”, в результате чего постройка шла слишком медленно. Князь Ярослав, призвав тиуна, очевидно ведавшего постройкой, спросил его: “Почто не много у перкве стражющих”, на что тиун ответил: “понеже дело властелское боятся люди труд подимше найма лишени будут”. Князь приказал “куны возити на телегах в комары Златых врат”, а на торгу возвестили, что за работу будут платить по ногате в день, “и бысть множество делающих” [М.А.Максимович. О построении и освящении киевской церкви св. Георгия. – Киевлянин, кн. III, М., 1850, стр. 66-67]. Перед нами свободные посадские ремесленники-строители, выполняющие работу по найму.
Дореволюционные исследователи при изучении русских древностей нередко рассматривали изделия бесспорно русского происхождения как предметы импорта, явно недооценивая собственные возможности древнерусского ремесла. Понятно, что в свете этих представлений никому не приходила мысль искать произведения русского ремесла в составе древнерусского экспорта, который обычно рассматривался лишь как вывоз рабов иди меда и мехов.
Попытка Б.А.Рыбакова изучить экспорт изделий русских мастеров в IX- XIII вв. воочию показала, что целый ряд изделий киевского ремесла имел достаточно широкий сбыт за пределами Древнерусского государства. В числе этих предметов, оказавшихся далеко за пределами Руси, и изделия из серебра с чернью, известные по находкам в Волжской Болгарии, и русские кольчуги, попадавшие к кочевникам южнорусских степей, и изящные поливные киевские писанки, находки которых на территории Польши и Швеции отмечались выше, и железные замки, называвшиеся в Чехии в XIV в. “русскими замками”, и разнообразные киевские ювелирные изделия, обнаруженные западнославянскими учеными среди археологических материалов в Чехии и Польше [Б.А.Рыбаков. Ремесло древней Руси, стр. 471 сл.].
Находки киевских литых крестов и энкполпионов в жилых кварталах Херсонеса и Мангупа известны давно, но лишь недавно они получили правильное истолкование.
Экспорт изделий киевского ремесла имел, разумеется, немаловажное значение для дальнейшего развития и укрепления самого ремесла. Вместе с тем замечательные русские изделия, попадавшие в страны Востока, Запада, Севера и Юга, далеко за пределы Руси распространяли славу русских “хитрецов” и “умельцев”. [с. 487]
Киев и монгольское нашествие
… Братья и чада наша в плен ведени быша; села наше лядиною поростоша, и величьство наша смирися; красота наша погыбе; богатство наше онемь в корысть бысть; труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменникомь в достояние бысть…
Серапион Владимирский. 13 в.
1. Вводные замечания
Вопрос о роли монгольского завоевания для последующих исторических судеб Среднего Поднепровья и стольного города разоренной Киевской земли, в частности, был поднят в нашей исторической пауке давно и с тех пор неоднократно вновь и вновь дебатировался в русской, украинской и польской историографии. Необходимо подчеркнуть, что проблема эта обсуждалась почти всякий раз в обстановке чрезвычайного политического накала. Вопрос, касающийся, казалось бы, очень отдаленного периода в жизни нашей родины, нередко становился плацдармом острых политических дискуссий и не раз использовался для “обоснования” различных, порой весьма далеко идущих политических концепций.
Более ста лет
тому назад, в
“Если б Нестор, – писал он, – и продолжатели его, киевские летописатели были малороссияне, то каким бы образом могло случиться, чтоб они не дали нигде приметить своего малороссийского происхождения? Каким бы образом могло случиться, чтоб они не обронили там-сям какого-нибудь малороссийского слова, не употребили малороссийского оборота, не вставили иной поговорки или удержались от междометия?” [там же, стр. 73].
Вывод Погодина был сформулирован им весьма решительно:
“… летописи принадлежат не малороссиянам, а какому-нибудь другому племени. Следовательно, и племя другое жило в Киеве, а не малороссияне” [там же].
Считая, что “в летописях господствует великороссийское наречие, а малороссийского нет”, Погодин подходил к дальнейшему, основному выводу: “…в Киеве жили до татар не малороссияне, а великороссияне” [там же].
Если к этим выводам Погодин приходил на основе филологических размышлений, то как историк он подкреплял их соответственной интерпретацией известных ему исторических фактов. Сравнение характера русских князей, характера военного сословия Киевской Руси, облика людей домонгольского Киева, их нравов, обычаев, жилища, одежды, пищи, одним словом, сравнение культуры древнерусской с украинской культурой позднейшего времени окончательно убеждало Погодина в правильности его филологических рассуждений. “Ведикороссияне, – заключал он, – древнейшие поселенцы, по крайней мере в Киеве и окрестностях. Малороссияне пришли в эту страну после татар” [там же, стр. 83]. Передвижение “великороссиян” на север Погодин связывал с результатами монгольского завоевания. Старое население покинуло после монгольского завоевания разоренную Киевскую землю, переселилось на север. Поэтому-то, как казалось Погодину, песни о Владимире и его витязях поются в Архангельске, Владимире, Костроме и Сибири, в то время как на Украине они давно забыты. Поэтому все то, что связано с периодом Киевской Руси, так близко сердцу “великороссиян” и так непохоже на последующую украинскую историю.
Освободившиеся земли в Среднем Поднепровьо были заселены, по мнению Погодина, новыми пришельцами. “Они пришли после татар от Карпатских гор и заняли Киевскую губернию, так, как потомки их в XVI ст. заняли Харьковскую, подвинулись к Воронежу и Курску” [там же, стр. 81]. Язык этих выходцев из запад[с. 489]ных украинских земель и выступает, по мнению Погодина, в поздних памятниках украинской письменности.
В нашу задачу отнюдь не входит разбор этой концепции по существу. Примитивность и ошибочность основных, исходных представлений в вопросах происхождения и истории украинского и древнерусского языков в концепции Погодина сейчас слишком очевидны и едва ли требуют разъяснений. К тому же выступление Погодина интересует нас в данном случае лишь как начало длительной дискуссии по вопросу, который для самого Погодина отнюдь не был основным, – о роли монгольского завоевания для последующих судеб древней столицы Киевской Руси – города Киева.
Вскоре после появления “Записки” М.П.Погодина с резкой критикой его основных положений выступили представители тогдашней украинской науки, в первую очередь М.А.Максимович [М.А.Максимович. О мнимом запустеиии Украины в нашествие Батыево и населении ее новопришлым народом. – Русская беседа, 1857, кн. IV, стр. 22-35 = Собр. соч., т. I, Киев, 1876, стр. 131-145. О филологической стороне спора с Погодиным см. также: Филологические, ответные и новые письма к Погодину. Собр. соч., т. III, стр. 183 и сл.] и А.А.Котляревский [А.А.Котляревский. Были ли мапоруссы исконными обитателями Полянской аемли, или пришли из-за Карпат в XIV веке? – “Основа”, 1862, кн. IX; см. также: Собр. соч., т. I, СПб., 1893, стр. 624-637]. Преодолевая, хотя и не без ошибок, филологическую часть доказательств Погодина, оба эти исследователя пытались со своих позиций объяснять поднятые Погодиным вопросы о сохранении былин киевского цикла на севере, о “национальном характере” исторических деятелей Киевской Руси, выдвигая в то же время и некоторые новые вопросы ддя защиты своих основных положений. Не входя в подробности этой длительной дискуссии [вопрос о роли монгольского завоевания для последующей истории Украины породил, как известно, значительную литературу, в основной части посвященную проблемам языка. История вопроса и библиография изложены в статье Пыпина “Спор южан и северян о малорусском языке”. (Вестник Европы, 1886, VI)], нередко обострявшейся постановкой больших национально-политических проблем, мы должны здесь все же подчеркнуть, что в борьбе с бесспорно ошибочной концепцией Погодина украинские историки и филологи 50-60-х годов прошлого века в полемическом задоре допускали и сами немало явных ошибок, в частности, они безусловно ошибались в решении интересующего нас вопроса.
Если М.П.Погодин для объяснения своего основного положения явно преувеличенно трактовал роль монгольского завоевания, то его оппоненты, особенно М.Максимович, впадали в обратную крайность – они доказывали, что роль монгольского завоевания для Украины была незначительна, что Киев не был разорен и разрушен, что на некоторое время лишь пало его значение, перешедшее к другим центрам и т.п.
С новой силой и политической заостренностью вопрос о роли монгольского завоевания был вновь поднят в трудах представителей украинской буржуазно-националистической историографии в последние десятилетия прошлого [19] века. [с. 490]
В начале [18]80-х годов в журнале “Киевская старина” была опубликована статья В.Б.Антоновича “Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие” [В.Б.Антонович. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие. – КС, т. I, Киев, 1882, январь, стр. 223-264. Позже эта же статья была переиздана автором в сборнике его статей “Монографии по истории западной и юго-западной России”, т. I (Киев, 1885, стр. 223-264). Все дальнейшие ссылки даются на последнее издание. Вскоре после выхода в свет названного сборника критический разбор основных положений В.Антоновича был сделан А.И.Соболевским в статье “К вопросу об исторических судьбах Киева” (Университетские известия, Киев, 1885, № 8, август, Критика и библ., стр. 281-292)].
“Одно из общих мест, установившихся с конца XVI столетия, – утверждал Антонович, – и вследствие частого повторения сделавшихся общепринятым историческим убеждением, составляет то мнение, будто после Батыева нашествия Киев был превращен в развалины. Киевская область совершепно опустела и перестала принимать какое-бы то ни было участие в политической и культурной жизни Руси” [В.Б.Антонович. Киев, его судьба и значение…, стр. 223].
По мнению Антоновича, мысль о запустении южной Руси с XIII по XVI в. – “не более, как исторический мираж” [там же, стр. 224].
“Батыево разорение, – утверждал он, – есть последнее постигшее Киев бедствие, записанное древними русскими летописями; затем после долгого перерыва, в XVI ст. путешественники, посещавшие Киев или писавшие о нем, – Герберштейн, Гваньини, Ляссота, Гейденштейн и пр. описывают развалины, загромоздившие нагорную часть Киева, и сожалеют об упадке величия этого некогда знаменитого города” [там же].
Антонович полагал, что еще в конце XVI в. появилось стремление связать записанное древними русскими летописцами известие о Батыевом нашествии с картиной разоренного города, открывавшейся перед глазами путешественников, как причину и следствие. С той поры и утвердилось ложное, по мнению Антоновича, убеждение о разорении Киева полчищами Батыя, тогда как в древних источниках о разрушении города нет никаких упоминаний, кроме известия о падении сводов Десятинной церкви [там же].
Собрав все немногочисленные летописные известия конца XIII-XIV в., упоминающие о Киево-Печерском монастыре и Киево-Софийском соборе в связи с различными событиями церковной истории, Антонович полагал, что этих фактов достаточно для того, чтобы устранить убеждение о запустении Киева в конце XIII-XIV.
С неменьшей, решительностью отстаивал эту же точку зрения признанный лидер украинской буржуазно-националистической историографии М.С.Грушевский [M.С.Грушевский. История Киевской земли от смерти Ярослава до конпа XIV столетия. – Киев, 1891, стр. 427-465]. Справедливо возражая против погодинской теории о передвижении старого населения Киевской Руси под натиском татар на северо-восток, спра[с. 491]ведливо протестуя против теорий, распространяемых в польской историографии (Грабовский, Шайноха), о полном запустении Украины после татарского разгрома и о последующей сплошной колонизации ее поляками, Грушевский в то же время не только всячески старался умалить значение татарского нашествия, но и рассматривал татарское завоевание как благоприятный для дальнейшего развития украинского народа фактор, способствовавший созданию на Украине нового, своеобразного, в некотором смысле бесклассового общественного строя, который Грушевский называл “общинным”.
“Я не могу признать за монгольским нашествием, – заявлял Грушевский, – решительного, фатального значения для состояния страны – я зато… придаю ему большое значение в другом отношении – в отношении перестройки политико-общественных отношений” [М.С.Грушевский, ук. соч., стр. 443].
В результате татарского погрома, по мнению Грушевского,
“население нивелировалось вследствие обеднения и эмиграции богатого класса. Такая нивелировка содействовала большей демократизации общественных отношений и обратно – находила себе опору в строе демократической общины” [там же, стр. 458-459. Анализ этой концепции Грушевского см.: акад. Б.Д. Греков и А.Ю.Якубовский. Золотая орда и ее падение. М.-Л., 1950, стр. 254-255] (разрядка наша, – М.К.).
В вопросе о роли монгольского завоевания для последующих судеб Киева Грушевский полностью разделял и поддерживал точку зрения Антоновича.
“Мы не имеем
твердых положительных оснований, – писал он, – для того, чтобы предполагать
поголовное избиение и совершенное разорение, запустение Киева. В ряду других
разорений, более или менее опустошительных, постигавших Киев, как разорения
1169, 1202, 1416, 1482 гг., и погром
Грушевский усматривал в древних известиях о разгроме Киева не более чем литературный прием летописца, который, по его мнению, “одевал свои известия в готовые, шаблонные формы, мало заботясь о том, насколько соответствовали они действительности” [там же, стр. 430]. Сохранившиеся, по словам Грушевского, “в целости” некоторые древние сооружения также приводили его к выводу о том, что “Киев не подвергся совершенному разорению” [там же]. В число этих “сохранившихся в целости” киевских памятников Грушевский называл Софийский собор, Выдубицкий, Михайловский Златоверхий и Печерский монастыри. Разорение Печерского монастыря, относимое летописцем XVII в. ко времени Бытыя, Грушевский связывал с разгромом Киева Едигеем [там же, стр. 431]. [с. 492]
Исследователи XIX в., обращавшиеся к вопросу о значении монгольского завоевания в истории Киева, вынуждены были решать его, основываясь исключительно на той или иной интерпретации довольпо скудных летописных текстов. Если некоторые историки и пытались порой привлечь к решению проблемы отдельные архитектурные памятники Киева, то пользовались ими лишь в качестве дополнительной иллюстрации к своим, сложившимся на анализе летописных известий представлениям. Неисчислимые богатства археологических источников по истории города оставались для историков XIX в. почти недоступными, несмотря на то, что археологическое изучение Киева широко развернулось уже во второй четверти XIX в. Мы уже неоднократно подчеркивали выше, что археологическое исследование Киева, развивавшееся до начала нашего века как замкнутое вещеведение, было оторвано от исторической науки.
Вскрытые в 1907-1908 гг. в центре древнего Киева остатки разрушенных княжеских дворцов, жилищ, ремесленных мастерских, древних погребений и пр. и пр. впервые вызвали живой интерес в широких кругах общественности и привлекли, наконец, и внимание историков дровней Руси к добытым раскопками новым материалам. Среди комплексов, раскрытых раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского, т.е. в непосредственной близости к развалинам Десятинной церкви, большой интерес представляла огромная коллективная могила, которую исследователь рассматривал как погребение погибших защитников Десятинной церкви [В.В.Хвойка. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена. – К., 1913, стр. 75]. Разрушение княжеского дворца и многочисленных жилищ и мастерских, находившихся возле Десятинной церкви, В.В.Хвойка относил к различному времени и с монгольским разгромом не связывал.
Основные
этапы исторического развития города, облик его яркой, своеобразной культуры с
исключительной убедительностью и полнотой, недостижимой ранее, при изучении
одних письменных источников, раскрылись в полной мере лишь в результате
исследований советских археологов. С изумительной и неожиданной яркостью в
результате раскопок последних двух десятилетий предстали трагические страницы
истории Киева, отобразившие ожесточенную битву за город в декабре
Еще в первые
годы работ Киевской археологической экспедиции АН СССР и АН УССР, начатых в
Раскопка
широкой площадью на территории бывш. Михайловского Златоверхого монастыря в
В противовес
этому в Киеве, где раскопки производятся в центре большого современного города,
под верхним мощным слоем, отражающим в основном очень позднюю историю города
XIX-XX вв., слоем, который отложился в результате бурной строительной и
планировочной деятельности, развернувшейся в середине XIX в., под этим слоем,
достигающим 1.5-
Весьма нередки случаи, когда поздние слои XIX в. перекрывают (или перерезают) отлично сохранившиеся остатки жилых и производственных сооружений, развалины каменных дворцов, храмов и пр. Лишь иногда, далеко не во всех районах древнего Киева, между слоем XIX в., отражающим жизнь или строительные работы современного города, и древними слоями XI-XIII вв. лежит прослойка, которая по составу находок может быть связана с Киевом XVII-XVIII вв.
На отдельных участках нам удавалось установить довольно мощные слои, относящиеся к XVII-XVIII вв., но необходимо подчеркнуть, что слои эти также лежали непосредственно на древних слоях домонгольского Киева, иногда отделенные от них лишь незначительной, почти стерильной прослойкой. Нередки случаи, когда предметы XVII в. попадаются в нижележащих древних слоях и, наоборот, предметы домонгодьского времени встречаются в слоях XVII-XVIII вв. благодаря “диффузии” этих смежных культурных пластов. Длительный период, отделяющий древний город XI-XIII вв. от города XVII-XVIII вв. (здесь, как и в других местах, имеется в виду лишь Верхний Киев – “Гора”, как обычно называли его древние летописцы), в культурно-исторической стратиграфии почти не представлен. Даже единичные находки XIV-XVI вв. представляют сравнительно редкое явление; что же касается остатков жилищ, мастерских, развалин каменных построек, то таковые в раскопках почти не встречаются.
Отметим,
наконец, что хорошо сохранившиеся древние слои Верхнего Киева лежат иногда на
весьма небольшой глубине. Отдельные жилища начала XIII в. на территории
Михайловского монастыря были открыты на глубине, не превышавшей
Под охарактеризованными выше поздними напластованиями XVII-XVIII и XIX вв. перед исследователем Киева открывается (разумеется, по условиям [с. 494] сохранности это бывает не везде) поразительная по своей яркости, по своей полноте и документальной убедительности картина. Руины каменных построек дворцового характера, развалины храмов, сгоревшие или разрушенные жилища и мастерские, хозяйственные помещения и потайные хранилища, коллективные могилы с сотнями похороненных – все это несет на себе отпечаток страшного, стихийного разрушения и гибели. Картина эта повторяется в различных районах Верхнего города, что исключает возможность видеть в этом узко локальные явления.
Как известно всем занимающимся археологическим изучением поселений, степень сохранности городища или селища определяется в значительной мере обстоятельствами прекращения жизни на данном поселении, или, если таковая не прекращалась, условиями смены эпох в его историческом развитии.
Известно
немалое количество поселений, жители которых покинули их, уйдя куда-то в другое
место, нередко при этом забрав с собой все свое основное имущество. Ярким
примером подобного рода поселений является известное Боршевское городище на
Дону, жители которого покинули его, оставив в своих жилищах только битую посуду
[П.П.Ефименко и П.Н.Третьяков. Древнерусские
поселения на Дону. – МИА СССР, №
Гораздо более распространенным типом поселений являются городища (города), жизнь которых непрерывно длится многие столетия. Культурные слои на этих поселениях нарастают постепенно, частично разрушая остатки предшествующих периодов, частично погребая их под собой. Минуя большие катастрофы или крупные, капитального характера перепланировки и реконструкции, город этого типа в стратиграфическом отношении представляет нередко сложнейшую картину перекрывающихся одно другим, часто переплетающихся между собой напластований. Классическими образцами подобного рода поселений являются Новгород, Старая Ладога и др.
Известен и третий тип поселений, представляющий для археолога наиболее заманчивый и увлекательный объект исследования. Жизнь этого типа поселений оборвалась катастрофически, единовременно или в очень короткий срок, после чего наступил период длительного запустения, превративший былой город в “городище”, село – в “селище”.
Всемирно известным образцом такого поселения является засыпанная извержением вулкана Помпея. Она потому и стала нарицательным именем городищ этого типа. Катастрофа такого города как бы запечатлевает последние дни или часы его существования. [с. 499]
Такого рода поселения есть и на Руси. К их числу относится в первую очередь раскопанное в 1929-1934 гг. городище Райки на Украине [Ф.М.Молчанівський. Райковецьке городище XI-XIII ст. – НЗІІМК АН УССР, кн. 5-6, 1935, стр. 125-178; В.К.Гончаров. 1) Райковецьке феодальне городище XI-XIII ст. – Вісник АН УРСР, 1948, № 7, стр. 39-51; 2) Райковецкое городище. – Киев, 1950]. Страшная катастрофа прервала жизнь этого небольшого городка в середине XIII в. Город был сожжен и разрушен. Жилища, крепостные стены, вся площадь городища покрыты сотнями человеческих скелетов. Раскопанная площадь городища представляла как бы сплошное поло битвы. Повсюду распростерты скелеты непогребенных людей с перерубленными руками и ногами, с железными наконечниками стрел, воткнувшимися в кости. Другую часть населения гибель настигла под завалом горящих домов, в мастерских и подвалах.
В развалинах городища найдено огромное количество разнообразных вещей, характеризующих быт и культуру населения. Заброшенный городок вскоре превратился в “городище”.
С номеныпей
яркостью аналогичная картина катастрофы, прервавшей а середине XIII в. мирную
жизнь маленького пограничного городка Киевской земли, раскрылась в результате
раскопок 1948-1952 гг. на городище возле с. Колодяжное (на среднем течении
р.Случь), представляющем руины древнего города Колодяжин, упомянутого в
Ипатьевской летописи под
Под обвалами
сгоревших жилищ и хозяйственных построек выявлены тысячп разнообразных
хозяйственных и бытовых предметов, обгорелые остатки запасов зерна, орудий
земледелия, инструментов ремесленников, оружие, украшения и пр. Под развалинами
построек найдены многочисленные скелеты погибших в
Итоги
археологических исследований последних лет в Киеве привели нас к убеждению, что
археологический облик древнего Киевского городища, раскрывающийся с каждым
годом все полнее и полное, во многих отношениях напоминает городища третьего
типа, в том числе обнаруживает много общего с судьбой городищ Райки и
Колодяжин. Все это позволяет, на наш взгляд, заново пересмотреть вопрос о
значении монгольского разгрома
2.
Памятники трагической борьбы за Киев
в декабре 1240 г .
Как подробно
рассказано выше, нашими раскопками
Весь раскрытый комплекс, состоявший из восьми полуземляночного типа жилищ и различных хозяйственных сооружений, в основном одновременен и относится, судя по инвентарю, к концу XII – началу XIII в. В пользу этой датировки говорит не только керамика, найденная в многочисленных фрагментах и целыми сосудами, но и ряд типичных для киевской культуры XII – XIII вв. находок.
Чрезвычайно
важно было установить, когда и при каких обстоятельствах перестал существовать
этот район города. Почти на всех раскопанных жилищах были видны следы большого
стихийного пожара, уничтожившего некоторые жилища даже в отсутствие хозяев.
Особенно ясна была картина пожара в наиболее хорошо сохранившейся землянке
VIII, замечательный инвентарь которой позволил дать ей название “жилища
художника”. Все деревянные предметы и деревянные части самой постройки,
сохранившиеся под обвалом, носили следы сильного огня. Действию огня
подверглись даже металлические предметы, найденные в этой землянке. Судя по
огромному количеству вещей, оставшихся под обвалом, среди которых, кроме
глиняной посуды, были и такие драгоценные вещи, как янтарь (сырье и
полуфабрикаты в количестве около
При изучении стратиграфии всего раскопанного участка бросалось в глаза, что над слоем XII – XIII вв. нет культурных напластований XIV – XVI вв. Заплывшие гумусом сгоревшие жилища, по-видимому, в течение долгого времени оставались нетронутыми. Они были перекрыты небольшим напластованием культурных слоев только в значительно более позднее время – в XVII – XVIII вв.
Еще в
предварительной публикации материалов из раскопок нами было высказано
предположение, что стихийный пожар в середине XIII в., прервавший на много столетий
кипучую жизнь этого района, был связан с разгромом Киева татарскими полчищами в
декабре
Открытые
нашими раскопками
На полу жилищ под обвалами сгоревших деревянных верхних частей найден разнообразный бытовой инвентарь, находившийся там в момент катастрофы. В жилищах обнаружены наряду с целыми сосудами многочисленные обломки глиняной посуды, разнообразные железные изделия, в том числе две косы, серп, безмен, замки, железные оковки заступов, цепь от конских пут, долото, сверло, скобель, несколько ножей. Найдены многочисленные фрагменты обуглившейся ткани, крест-энколпион с чернеными изображениями, хрустальные шаровидные бусы, множество обгоревших деревянных предметов, запасы разнообразных злаков и пр. Все вещи в обоих жилищах несли на себе следы действия огня.
Рис. 138.
Скелеты киевлян, погибших в битве с татарами. Раскопки
Наиболее неожиданной была находка, сделанная при зачистке пода глиняной печи в жилище II. В печи лежали на боку скелеты двух прижавшихся друг к другу девочек-подростков с поджатыми ногами (табл. XXXIX). На шее у одной из них сохранились два миниатюрных крестика – медный и янтарный. Необычная находка в печи раскрыла с изумительной образностью трагический характер гибели жилища. С не меньшей силой об этом свидетельствовало также значительное скопление человеческих скелетов, лежавших в два-три-четыре слоя, один над другим, на завале обгорелого дерева и пережженной глины в жилище I. Некоторые скелеты лежали ничком, нередко с широко раскинутыми руками и ногами (рис. 138). Среди скелетов два резко отличались от остальных характерным монгольским типом черепа.
Ниже мы попытаемся разобраться несколько подробнее в обстоятельствах гибели этих жилищ, расположенных в нескольких метрах одно от другого. Здесь отметим лишь, что жилища расположены внутри укреплений города Владимира, в непосредственной близости от земляного вала, в районе так называемых Батыевых ворот, соединявших город Владимира с городом Ярослава.
Не менее
ярким памятником трагической истории борьбы за Киев в декабре
Напомним лишь
в основных чертах результаты раскопок тайника. В западной части центрального
нефа развалин Десятинной церкви при зачистке уровня древнего пола была
обнаружена квадратная в плане яма, заполнение которой, [с. 498] начиная с
глубины 0.20-
На глубине
около
Ниже, на
глубине 1.40-
Начиная с этой глубины, находки вещей становились все более многочисленными. На различных горизонтах были найдены железный, сильно поржавевший и подвергшийся действию огня шлем (табл. XCVIII), бронзовый энколпион с изображением распятия на одной стороне и богоматери на другой (табл. XCIX), ажурная бронзовая подвеска типа игольников, бронзовый наперсток, железный топор с остатками обгорелой рукояти во втулке, глиняный горшок с двумя ушками, несколько железных ножей с костяными и деревянными рукоятями, железная дужка и обручи от деревянного ведра, стеклянный браслет, четыре ключа.
На глубине
4.40-
Около первого костяка обнаружено большое количество кожи и фрагменты ткани, среди которых лежало шесть серебряных медальонов с черневыми изображениями святых (табл. XCIX). Рядом лежала целая груда кусков кожи и тканей с нашитыми орнаментированными золотыми бляшками с нитями мелкого жемчуга (табл. С). Под тканями – плетеная серебряная гривна с пластинчатыми концами, серебряная позолоченная венецианская монета дожа Дандоло (1192-1205) с припаянным ушком для подвески, золотой перстень со сканью и драгоценными камнями (табл. XCIX), обломки серебряных трехбусинных аграфов, несколько крестиков-корсунчиков и любопытная ладонка, представляющая две тонких дощечки с вырубками по краям для перевязки их шнурком. Между дощечками хорошо сохранились высохшие листья растения, произрастающего лишь на далеком юге.
На том же уровне в углу лежали обгорелые, плетенные из лыка шнуры. Тут же найдены обгорелые фрагменты большого деревянного блюда, покрытого резным рисунком, и чаши на поддоне.
Еще ниже, в слое рыхлого лёсса, были обнаружены второй железный топор, железная дужка от второго ведра (рис. 139), несколько гвоздей и фрагменты маленького глиняного горшочка с линейным орнаментом по плечикам.
На глубине
|
Рис. 139. Железные оковки лопат,
топоры, обручи и дужки от деревянных ведер, найденные в тайнике под
Десятинной церковью. Раскоцки |
Рис. 140. Тайник под Десятинной
церковью. План и разрез. Раскопки |
Все
сооружение представляло вырытый в материковом лёссе почти квадратный в плане
тайник (рис. 140) глубиной около
Изучение этого загадочного сооружения привело нас к выводу, что раскопанный под развалинами Десятинной церкви погреб представляет древний тайник, служивший или для хранения драгоценностей, или же для каких-либо других целей [М.К.Каргер. Тайник под развалинами Десятинной церкви в Киеве, стр. 83-85]. Когда он был сооружен, установить невозможно, но во всяком случае это было уже после постройки церкви, так как до ее постройки территория эта была занята языческим курганным могильником.
Однако в данном случае нас интересует не столько дата сооружения тайника, сколько дата его гибели. Изучение многочисленного и разнообразного инвентаря, найденного в тайнике, не оставляет ни малейших сомнений, что все пере[с. 502]численные вещи относятся к XII-XIII вв., за исключением строительных материалов, которыми в основном был засыпан тайник. Строительные материалы происходили явно из самой Десятинной церкви, обвалом стен и сводов которой был завален тайник.
Трагическая картина гибели находившихся в тайнике людей, на наш взгляд, представляет одну из наиболее ярких иллюстраций, к летописному рассказу о последних часах обороны древнего Киева. К этому рассказу мы обратимся несколько позже.
Изучение обстоятельств обнаружения некоторых замечательных кладов, которыми столь богат и славен древний Киев, позволяет убедиться в том, что [с. 503] Десятинный тайник не был случайным или исключительным сооружением домонгольского Киева.
Почти за сто лет
до раскопок тайника под Десятинной церковью в непосредственном соседстве с ним
был обнаружен, по-видимому, совершенно аналогичный тайник, замечательный
инвентарь которого мог бы с успехом конкурировать с инвентарем Десятинного
тайника. Обстоятельства обнаружения этого тайника оставались неизвестными более
семидесяти лет. Лишь в
В
В настоящем контексте нас интересует, однако, не состав вещей этого клада, который, по словам очевидцев, с трудом поместился в двух больших мешках, – для нас сейчас гораздо важнее обстоятельства его находки. По словам слуги Анненкова, старика, рассказавшего много лет спустя историю этого замечательного клада, драгоценности были найдены в пещере, или, по его словам, в лёхе, напоминавшем собой погреб, вырытый отвесно в толще земли [там же, стр. 92].
В совершенно
аналогичных, по-видимому, условиях был обнаружен. 10 сентября
Подземное
сооружение аналогичного характера было обнаружено и на территории Софийского
заповедника нашими раскопками
К востоку от развалин Десятинной церкви раскопками В.В.Хвойки была обнаружена большая братская могила [В.В.Хвойка, ук. соч., стр. 75]. Она была расположена на том же [с. 504] месте, где были открыты остатки каменного княжеского дворца. К сожалению, стратиграфическое соотношение могилы и развалин дворца не было достаточна охарактеризовано исследователем. В могиле, по словам В.В.Хвойки,
“было
обнаружено огромное количество человеческих костяков обоих полов и разных
возрастов, начиная с младенческого. Некоторые черепа были рассечены и
разломаны; при некоторых покойниках у шеи оказались кресты, а на руках
нескольких детских костяков были надеты стеклянные браслеты. Над этой грудой
костяков на небольшом расстоянии от поверхности земли лежал скелет татарина,
характерный монгольский череп которого оказался рассеченным боевым топором. На
дне братской могилы, под костяками, на остатках древних фундаментов некогда
стоявшего здесь здания, был обнаружен в высшей степени интересный крест
греческой работы; длина его в продольном измерении
В.В.Хвойка высказывал предположение, что крест, найденный на дне братской могилы, являлся
“запрестольным крестом Десятинной церкви и был положен в братскую могилу последними защитниками Киева, оставшимися в живых, из опасения, чтобы почитаемая ими святыня не попала в руки неверных” [там же].
Недалеко от
описанной могилы в
“оказалась здесь потому, что монголы, избив киевлян в последний час борьбы и сняв с них одежду и все, что они при себе имели, снесли тела их в этот ров и присыпали землей” [там же, стр. 16].
Рис. 141. Братская могила киевлян в районе Десятинной церкви. Раскопки Д.В.Милеева. [с. 507]
По-видимому, продолжение этой же могилы было раскрыто раскопками Д.В.Милеева на углу Владимирской и Трехсвятительской улиц (рис. 141).
Огромная
братская могила, вмещавшая около 2 тысяч скелетов, была обнаружена в
Связана ли эта могила на Подоле с событиями татарского разгрома Киева, сказать с уверенностью нельзя. Хотя летописный рассказ об осаде и штурме Киева связывает основные моменты борьбы за город только с Верхним городом, участие жителей Подола в сражении за город более чем правдоподобно. Не исключена также возможность видеть в огромной братской могиле на Подоле результат расправы татар с горожанами уже после взятия города.
Картина страшной катастрофы, превратившей огромный цветущий город в дымящиеся развалины, раскрывающаяся с исключительной яркостью и документальной убедительностью в описанных выше комплексах, находит подтверждение и в целом ряде других фактов, установленных раскопкадяи в различных районах Киева.
Раскопками В.В.Хвойки в 1907-1908 гг., раскопками Д.В.Милеева в 1908-1914 гг., раскопками Института археологии АН УССР в 1936-1937 гг. и, наконец, нашими раскопками 1938-1952 гг. открыто значительное количество древних жилищ, мастерских, различных хозяйственных построек. Под развалинами мяогих из этих сооружений сохранился многочисленный и разнообразный инвентарь, находившийся в них в момент разрушения. Запасы зерна, муки, глиняная и деревянная посуда, нередко с остатками пшяи, разнообразные бытовые предметы, находимые в жилищах, свидетельствуют о том, что разрушение значительной части жилищ, раскопанных в Верхнем Киеве, произошло также в результате стихийной катастрофы, после которой разрушенные постройки не восстанавливались.
Характерной
чертой раскопанных в Киеве построек является обилие находимых в них и возле них
разнообразных орудий и инструментов ремесленного производства – различные
инструменты по обработке дерева, тигли для плавки металла, матрицы и
многочисленные литейные формочки для отливки разнообразных украшений – все это
встречается в развалинах жилищ и мастерских столь часто и в таком количестве,
что невольно возникает мысль о том, что владельцы этих предметов не только
вынуждены были бросить их вместе со своими жилищами на произвол судьбы, но и не
смогли вернуться на развалины своих жилищ за этими ценными для них вещами. Все
это убеждает в том, что значительная часть обнаруженных раскопками жилищ,
мастерских, развалин каменных дворцов и храмов, отличающихся хорошей
сохранностью и обилием находок, была разорена и заброшена после монгольского
разгрома
В главе, посвященной киевскому ремеслу, уже обращалось внимание на то, что значительная часть находок, обнаруживаемых раскопками в различных районах Киева, отличается исключительной близостью, порой тождественностью форм различных предметов данной категории. Это наблюдение касается кера[с. 506]мики, железных изделий, изделий из кости, различных орудий ремесленного производства и, в частности, весьма многочисленных литейных формочек. До недавнего времени многие материалы из киевских раскопок было принято датировать слишком широко – от ХІ до ХІІІ в. Более тщательное изучение как продукции, так и орудий производства киевского ремесла приводит к выводу, что в действительности значительная часть киевских находок относится к последней поре истории города и потому хронологически может быть определена в более узких границах – XII – середины XIII в.
3. Летописное повествование об осаде Киева в свете археологических источников
Летописное повествование о втором походе Бату на южную Русь отличается, как известно, краткостью и недостаточной определенностью в хронологии. Именно этим вызваны разноречивые даты взятия татарами Киева, отсутствие точной даты падения Чернигова, Переяславля и ряд других неясностей в изучении этих насыщенных событиями лет истории южной Руси.
Основные контуры исторических событий, предшествовавших падению Киева, на основе летописных известий обрисовываются, однако, достаточно отчетливо.
Разгромив в 1236-1238 гг. Болгарское царство, опустошив и разорив Рязанскую и Владимиро-Суздальскую земли, татарские полчища хана Бату (Батыя) повернули на юго-восток. Разбив войска половецкого хана Котяна, татары удалились за Волгу. Здесь, в половецких (кипчакских) степях, оставались они около года, очевидно, накапливая силы для нового и окончательного удара. Оттуда Бату посылал пока отдельные отряды в южную Русь (“оттуда же поча посылати на грады русьскые”) [Ипат. лет. 6745 (1237) г.]. Один из таких отрядов взял и разрушил Переяславль и Чернигов. Южнорусский летописец повествует об этом драматично, но не определяя точных дат событий:
“Взят град Переяславль копьемь изби всь и церковь архангела Михаила съкруши, и сосуды церьковныя бещисленыя златыа, и драгаго каменья взят, и епископа преподобнаго Семеона убиша” [там же].
Не менее трагична была судьба другого старейшего города южной Руси – Чернигова.
“В то же время посла на Чернигов обьступиша град в силе тяжце слышав же Мьстислав Глебовичь нападение на град иноплеменных приде на ны со всими вой бившемся им побежен бысть Мьстислав и множество от вой его избьеным бысть и град взяша и запалиша огньм епископа оставиша жива и ведоша и во Глухов” [там же].
По-видимому, во время этого набега на крупнейшие южнорусские города один из татарских отрядов под командованием хана Менгу – двоюродного брата Бату – подошел к самому Киеву. Царственная красота и величие древней сто[с. 508]лицы Руси произвели огромное впечатление на татар:
“Меньгуканови же пришедшу сглядат град Кыева, ставшу же ему на оной стране Днепра во градъка Песочнаго, видив град, удивися красоте его и величеству его” [Ипат. лет. 6745 (1237) г.].
Менгу-хан, по-видимому, не решился штурмовать огромный город, но сделал попытку “прельстити” киевлян и князя Михаила Всеволодовича, сидевшего тогда на киевском столе. Попытки не увенчались успехом: “не послушаша его”. Предложение о сдаче города было отвергнуто.
Смертельная опасность нависла над Киевом. Перед лицом наступавших грозных событий струсил незадачливый киевский князь Михаил, убежавший вскоре в Угры. После его бегства на киевский стол сел один из смоленских князей Ростислав Мстиславич, по-видимому, воспользовавшийся сложившейся обстановкой, может быть, не без участия самих киевлян, оказавшихся накануне надвигавшихся событий без военачальника.
Однако его пребывание на киевском столе было недолговременным. В Киев немедленно явился галицкий князь Даниил, схватил Ростислава, но сам в Киеве не остался, а посадил там тысяцкого Дмдтра, поручив ему “обьдержати противу иноплеменных язык безбожьных татаров” былую столицу древней Руси, судьбой которой сам Даниил был, по-видимому, не слишком озабочен.
Осенью
следующего,
Первый и основной удар был направлен на Киев. Поздней осенью полчища монголов подошли к Киеву, переправились через Днепр и окружили город. Современник-летописец кратко, но с потрясающей силой описал появление невиданного войска, расположившегося табором под стенами города в походных кибитках, с бесчисленными стадами ржущих коней и ревущих верблюдов:
“Приде Батый Кыеву в силе тяжьце многомь множьствомь силы своей и окружи град, и остолпи сила татарская, и бысть град в обьдержаньи велице. И бе Батый у города и отроци его обьседаху град, и не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревения вельблуд его и рьжания от гласа стад конь его и бе исполнена земля Руская ратных” [Ипат. лет. 6748 (1240) г.].
В этом красочном и правдивом описании осажденного Киева, а еще более в дальнейшем повествовании о штурме города слышится взволнованная речь современника-очевидца, если не участника событий. Топографическая конкретность повествования о штурме города делает этот летописный отрывок незаменимым источником не только для уяснения последовательности ожесточенной борьбы за город, но и для понимания результатов этой борьбы для дальнейшей судьбы Киева.
Затруднительно
установить, долго ли продолжалась осада города. Южнорусская летопись,
являющаяся основным источником, при отмеченной выше топографической
конкретности ведет рассказ, не приурочивая развертывающиеся события к
уточненным датам. По значительно более краткому сказанию, занесен[с. 509]ному в
Суздальскую летопись, взятие Киева “приключися до Рождества Господня на Николин
день” [Лавр. лет. 6748 (1240) г. Этаже дата
повторяется в более поздних Густынской, Софийской, IV Новгородской,
Воскресенской, Тверской и Никоновской летописях], т.е. 6 декабря
После рассказа о появлении татарского войска под Киевом летописец сообщает о захвате в плен татарина по имени Товрул, который “исповеда им всю силу их” (т.е. татар). От него киевляне узнали по именам важнейших “воевод” татарского войска, среди которых были знамоыитые монгольские полководцы Себедяй-богатур и Бурундай-богатур, “иже взя Болгарьскую землю и Суждальскую”, двоюродный брат Бату – хан Менгу “и инех бещисла”.
Наступил день штурма. Основной удар монгольские войска наносили с юга. “Постави же Батый порокы городу подъле врат Лядьскых ту бо беаху пришли дебри”. Лядские ворота, как известно, вели из Ярославова города в Крещатицкую долину, густо поросшую лесом (“дебри”). Прикрываясь сильно пересеченной и лесистой местностью, здесь и сосредоточились несметные полчища татаро-монгольского войска. Непрерывно, днем и ночью метательные орудия били огромными камнями по воротам и деревянным стенам, стоявшим на земляных валах Ярославова города: “… пороком же бес престани бьющим день и нощь; выбиша стены”. Когда стены были пробиты, киевляне продолжали отбиваться на остатках крепостных укреплений – “и возидоша горожаны на избыть стены”. Началась ожесточенная рукопашная схватка – “и ту беаше видити лом копейный и щет скепание, стрелы омрачиша свет побеженым”.
Руководивший обороной города тысяцкий Дмитр был ранен. Преодолев ожесточенное сопротивление, татары ворвались на стены Ярославова города. Главная оборонительная линия Киева была прорвана. Однако татарские полчища, утомленные отчаянным сопротивлением киевлян, вынуждены были временно прекратить дальнейшее наступление – “седоша того дне и нощи”.
Воспользовавшись небольшой передышкой, киевляне укрепились на новой, последней для них оборонительной линии: “Гражане же создаша пакы другий град около святое Богородице”. Едва ли правильно понимать эти слова летописного рассказа как известие о постройке вокруг Десятинной церкви наскоро какого-то временного укрепления [М.С.Грушевский, ук. соч., стр. 424]. Нужно вспомнить, что расширенная территория Ярославова города, выстроенного в 30-х годах XI в., примыкала к старым стенам и рвам Владимирова города, центром которого была упоминаемая летописным рассказом Десятинная церковь. Остатки этих внутренних го[с. 510]родских укреплений не только в виде вала и рва, но и каменных воротных башен, существовали вплоть до XVII в., когда были даже подновлены московскими воеводами. Именно эти старые укрепления, а отнюдь не какие-то выстроенные вновь за одну ночь, по-видимому, и были подготовлены к обороне в то время, пока отдыхали татары.
Наутро сражение возобновилось с все возраставшим ожесточением: “наутрея же придоша на не и бысть брань межи ими велика”. Вскоре и укрепления Владимирова города были взяты. Бой продолжался за стенами Владимирова города. Отступавшие горожане пытались использовать в качестве оборонительных рубежей каждую улицу, каждый дом.
Летописный
рассказ крайне скупо, лапидарно повествует о ходе ожесточенного сражения киевлян
за свой родной город. Тем большее значение приобретают результаты
археологических раскопок, проведенных на территории древнего Владимирова
города. Именно об этом этапе сражения рассказывают раскопки во дворе дома 4 по
Б. Житомирской ул. Жилища, раскопанные здесь в
Последние часы сопротивления киевлян южнорусский летописец связал с судьбой древнейшего храма Киева. В северо-западном углу Владимирова города стоял мощный каменный храм Богородицы Десятинной. В этом храме, как тремя годами ранее в Успенском соборе во Владимире, оборонялась последняя горстка оставшихся в живых защитников Киева. Храм был наполнен людьми, сбежавшимися сюда со своим имуществом:
“Людем же узбегшим и на церковь и на комары церковный и с товары своими. От тягости повалишася с ними стены церковныя и прият бысть град сице воими” [Ипат. лет. 6748 (1240) г.].
Едва ли летописец правильно объяснял причину катастрофы здания. Каменный сводчатый храм не упал бы от тяжести забравшихся на его своды людей. Использованная обороняющимися в качестве последней цитадели Десятинная церковь, вероятно, подверглась действию таких же “пороков”, которыми до этого уже были разбиты Лядские ворота и ворота Владимирова города, через которые татары прорвались к стенам Богородицы Десятинной.
Набившиеся в церковь люди, забравшиеся даже на “комары” церковные, естественно, использовали в качестве убежища и Десятинный тайник, описанный выше. О существовании его, конечно, знали далеко не все, и церковное духовенство могло предоставить его лишь наиболее избранной знати. Обилие драгоценностей – золота, серебра, тканей с золотыми нашивками, – найденных внизу тайника, не оставляет сомнения в том, кому был предоставлен тай[с. 511]ник в качестве убежища. Один из забравшихся в тайник спрятался вместе со своей собакой в нише, вырубленной в северо-восточном углу тайника.
Забравшиеся в тайник люди, по-видимому, имели безрассудную мысль прорубить под землей в лёссе выход из-под церкви к склону горы. При описании тайника выше было отмечено, что у самого дна его начинается ход под северную стену (т.е. к обрыву Киевской горы). Именно в этом же мэсте были найдены два воткнутых в землю заступа. Напомним, что на дне тайника были найдены, кроме того, два деревянных ведра с железными обручами и дужками и около одного из них целая куча плетенных из лыка веревок. По-видимому, с помощью этих приспособлений стоявшие вверху люди вытаскивали землю наверх. Рыхлый лёсс, лежавший на дне тайника, выбранный из бокового хода, не успели поднять из тайника наверх, так как в этот момент разразилась катастрофа. Не столько под влиянием тяжести огромного количества людей, забравшихся вмэсте со своим имуществом на комары церковные, сколько, по-видимому, от ударов стенобитных орудий осаждавших татар, здание рухнуло. Обвалившиеся своды и стены засыпали тайник доверху. Находившиеся внизу люди не успели осуществить свою безрассудную мысль пробиться к склону горы.
При описании
находок в тайнике было отмечено, что на глубине от 1.40 до
Тридцать
шесть фрагментов формочек, найденных в тайнике под развалинами храма вместе с
костяком хозяина, в одном отношении представляют для нас особый интерес.
Сопоставление одной из формочек из тайника с рядом других подобных формочек,
найденных раскопками разных лет на территории, окружающей Десятинную церковь,
позволило обнаружить различные части одних и тех же формочек. Одна из них,
найденная нашимя раскопкамз
Южнорусский летописец, последовательно обрисовавший важнейшие этапы ожесточенной борьбы за Киев, не обмолвился ни словом о том, как вели себя победители в захваченном городе. Это обстоятельство не раз использовали те [с. 512] исследователи, которые из разных побуждений стремились ослабить картину разорения и опустошения древнего Киева.
Однако самый
характер ожесточенной и затяжной борьбы за город едва ли свидетельствует о
благодушном отношении победителей к побежденному городу и его населению. В
значительно более кратком известии Суздальской летописи о киевских событиях
“Того же лета взяша Кыев татарове и святую Софью разграбиша, и монастыри все, и иконы и кресты, и вся узорочья церковная взяша, а люди от мала и до велика вся убиша мечем; си же злоба приключися до Рожества господня на Николин день” [Лавр. лет. 6748 (1240) г.].
Едва ли после изучения обстановки борьбы за город рассказ северного летописца покажется риторическим преувеличением или обыкновенным литературным шаблоном, как это казалось Антоновичу, Грушевскому и их последователям.
Достаточно сравнить рассказ северной летописи о взятии Киева с рассказом южной летописи о взятии Чернигова и Переяславля, чтобы убедиться в том, что рассказ о киевском разорении попал в Суздальскую летопись из достоверных источников (не даром же он сообщает и дату события!). Особенный скептицизм Антоновича и его единомышленников вызывала фраза летописца “а люди от мала и до велика вся убиша мечем”.
Поголовного истребления горожан действительно не было в Чернигове, если следовать летописному рассказу. В летописи говорится лишь о большом количестве убитых воинов. В летописных рассказах о хозяйничании татар в захваченных ими городах нельзя не обратить внимания на различное отношение победителей к различным городам в зависимости от степени сопротивления, оказанного данным городом. Быстро сдававшиеся города отделывались, по-видимому, разграблением населения и особенно богатых монастырей и храмов. Но такие города на Руси татары встречали редко.
Судьба Киева больше напоминает судьбу маленького городка Козельска, героическое население которого выдержало семинедельную осаду, после чего в жесточайшей рукопашной схватке козляне с мужеством отчаяния “ножи резахуся” с татарами и, истребив до четырех тысяч монгольских воинов, “сами же избьени быша”. Взяв город Козельск, Бату “изби вси и не пощаде от отрочат до сосущих млеко” [Ипат. лет. 6746 (1238) г.].
Татары, разыскивая после боя трупы своих трех “темников”, “не могоша их изнайти во множестве труп мертвых” [там же]. Летописец добавляет, что с той поры татары “не смеють его нарещи град Козлеск, но град злый, понеже бишася семь недель” [там же]. Неужели это тоже литературный шаблон?
Не менее ярко и правдиво описаны летописцем последствия татарского разгрома в городах Галицко-Волынской земли. Даниил с братом, услышав об уходе [с. 513] татар на Восток, возвращались из Польши в родную землю. Дойдя до города Берестья, они не могли продолжать свой путь к Владимиру:
“Не возмогоста ити в поле смрада ради и множьства избьеных, не бе бо на Володимере не остал живыи; церкви святой Богородицы исполнена трупья, иныа церкви наполнены быта трупиа и телес мертвых” [Ипат. лет. 6748 (1240) г.].
Вскоре после
разгрома Киева через южную Русь пробирался в ханскую ставку францисканец Плано
Карпини, возглавлявший миссию, снаряженную папой Иннокентием IV в
“… они (татары) произвели великое избиение в стране Руссии, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его и убили жителей города, отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле, ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве” [там же, стр. 25].
Захватив и
разорив Киев, Бату продолжал свой поход на Запад. Огнем и мечом прошли
татаро-монгольские полчища по Волынской и Галицкой землям, откуда направились в
Польшу, Венгрию и Чехию. Татаро-монгольское вторжение в Центральную Европу
повергло в ужас народы всей Западной Европы. Однако истощенные тяжелыми
кровопролитными боями на Руси, татары уже не смогли преодолеть сопротивления
чехов и их союзников и летом
Начался продолжительный период истории русского государства, названный К.Марксом “кровавым болотом монгольского ига”. Это иго, продолжавшееся более двух столетий, по словам К.Маркса, “не только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой” [К.Marx. Secret diplomatic history of the eighteenth century. – London, 1899].
Великая освободительная роль героической борьбы русского народа для исторических судеб народов Западной Европы уже давно была высоко оценена передовой русской общественной мыслью.
“России определено было великое предназначение, – писал А.С.Пушкин. – Ее необозримые равнины погло[с. 514]тили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего востока” [А.С.Пушкин, Полн. собр. соч., т. VI, 1936, стр. 209].
Много позже великий русский революционный демократ Н.Г.Чернышевский утверждал:
“Нет, не завоевателями и грабителями выступают в истории политической русские, как гунны и монголы, а спасителями от ига монголов, которое сдержали они на мощной вые своей, не допустив его до Европы, быв стеной ей” [Литературное наследство, т. II, 1928, стр. 44].
Татаро-монгольское
нашествие, обрушившееся на древнейшую столицу Руси, не только превратило в
руины этот величественный город. Значение Киева, заметно упавшее уже к середине
XII в. в связи с ростом экономического и политического влияния других центров
Руси и прежде всего Владимира на Клязьме, после
Только в
4. Киев после монгольского погрома
После
разгрома Киева в
Вскоре после ухода татарских войск в Венгрию в Киев вернулся князь Михаил. Летописец сообщает, что князь поселился, однако, не в самом городе, а “живяше под Киевом во острове” [Ипат. лет. 6748 (1240) г.]. А.И.Соболевский [А.И.Соболевский. К вопросу об исторических судьбах Киева, стр. 284], комментируя этот отрывок летописи, правильно, на наш взгляд, утверждал, что необходимость поселиться под Киевом была вызвана тем, что княжий двор и лучшие дома старого города лежали в развалинах.
В.Б.Антонович, стремившийся во что бы то ни стало доказать, что в XIII- XV вв. Киев не находился в “совершенном запустении”, приводил в доказательство этой мысли несколько известий конца XIII-XIV в. о продолжавшемся существовании в это время некоторых старых монастырей и храмов.
Так,
действительно, под
От конца XIV
в. сохранились известия о погребении в Киево-Печерском монастыре многих знатных
лиц – нареченного митрополита Дионисия (
Из всех
перечисленных выше фактов можно сделать лишь один неоспоримый вывод о том, что
в XIII – XIV вв. под Киевом продолжал существовать Киево-Печерский монастырь.
Но продолжающееся существование одного из многочисленных когда-то киевских
монастырей отнюдь не является свидетельством, опровергающим в какой-либо
степени нарисованной выше по летописным и археологическим источникам картины
полного разорения и опустошения Верхнего города, произведенного монголами в
Более того, существование в конце XIII-XIV вв. Киево-Печерского монастыря как церковной организации не говорит даже о том, в каком состоянии находились в это время его основные сооружения и, в частности, Успенская соборная церковь.
Среди
надгробий над погребенными в монастыре знатными лицами заслуживает внимания
надгробие князя Симеона Олельковича, погребенного 3 декабря
“Посетитель! Каким образом ты видишь это великое здание? Каким образом ты осматриваешь это художественно воздвигнутое сооружение? Двести тридцать три года тому назад здесь были одни только обломки камней, когда церкви Батыем лишены были своей красоты. Оно воздвигнуто было иждивением князя Симеона в честь Бога и Пречистой Его Матери” [Сборник материалов для исторической топографии Киева. Киев, 1874, отд. II, стр. 28-29].
Изучение
техники кладки Успенского собора уже исследователей конца XIX в. приводило к
выводу, что от здания XI в. в составе существующей постройки сохранились лишь
незначительные остатки. Исследование руин собора после взрыва его
немецко-фашистскими захватчиками в
Текст эпитафии, переведенной Кальнофойским на польский язык силлабическими стихами, был исполнен, по-видимому, одновременно с многими другими [с. 516] надгробиями значительно позже погребения, но возможно, что он в какой-то степени повторяет (по содержанию) текст древнего надгробия.
Мнение
В.Б.Антоновича [В.Б.Антонович. Киев, его судьба
и значение…, стр. 239], повторявшееся позже неоднократно, о том, что
разрушение Успенского храма, относимое в эпитафии ко временам разгрома Киева
Батыем, в действительности произошло в
В памяти
людей XV-XVII вв. события начала XV в., казалось бы, должны сохраниться лучше,
чем события начала XIII в., однако и текст эпитафии, и Синопсис, и
свидетельства путешественников XVI-XVII вв. связывают разрушение Печерского
монастыря с разгромом Киева в
Несколько раз
северные летописи сообщают о различных событиях, происходивших в конце XIII-XIV
в. в Киево-Софийском соборе. Так, в
Все эти факты говорят о том, что Софийский собор в Киеве после монгольского разгрома и расхищения оставался все же пригодным для богослужения и в течение указанного периода продолжал оставаться городским действующим храмом. Как свидетельствуют путешественники конца XVI-XVII в., несмотря на крайнюю степень разрушения, до которой этот храм был доведен к началу XVII в., он все же и тогда наряду с собором Михайловского Златоверхого монастыря оставался действующим храмом, переходя от православных к униатам и обратно.
Значительный интерес для изучения состояния Верхнего Киева представляют известия иностранных путешественников, посещавших Киев в XVI-XVII вв.
В записках и донесениях С.Герберштейна, А.Гванъини, Э.Ляссоты, Р.Гейденштейна с восхищением повествуется о царственном величии руин, укреплений храмов и монастырей древнего города, расположенных “на соседних горах”. Чтобы понять эти топографические указания, нужно иметь в виду, что в литовский и польский периоды жизнь города была сосредоточена в основном на Подоле. Киево-Подол в послемонгольское время стал синонимом Киева; вот почему развалины старого (Верхнего) Киева, его церквей и монастырей описываются как находящиеся на соседних горах. [с. 517]
Когда
московские воеводы с кн.Федором Куракиным во главе в
В течение второй половины XVII в. древние укрепления Верхнего города обновлялись неоднократно. В это же время появились в Верхнем городе сооружения, необходимые для обеспечения московского гарнизона, разместившегося в обновленной великокняжеской крепости. В это же время начались работы по восстановлению отдельных наиболее сохранившихся древних храмов.
В начале XVIII в. древние киевские укрепления, обновленные московскими воеводами, были вновь и окончательно заброшены. Петр I выстроил новую Киевскую крепость на Печерске. Территория Верхнего Киева вновь опустела, гарнизон был переведен на Печерск, укрепления постепенно разрушались.
Как место для “загородных” прогулок среди пустынных романтических руин древних укреплений описывают Верхний Киев по воспоминаниям юности еще киевские старожилы второй половины XIX в. [П.Г.Лебединцев. К материалам для исторической топографии Киева. – Чтения в Церковно-археологическом обществе при Киевской дух. акад., вып. X, 1910, стр. 1-26; И.Д.Богатинов. Воспоминания. – Русский архив, 1899, № 3, стр. 422-425] Только в 40-х годах XIX в. реконструкция города по вновь утвержденному плану стерла с лица земли последние остатки древних укреплений, а многочисленные руины древних княжеских дворцов, храмов и монастырей оказались под вновь проложенными улицами и, жилыми кварталами нового города. [с. 518]
Заключение
1. Находки 1 тыс. н. э.
Древнейший период истории Киева носил полулегендарный характер до тех пор, пока историки пользовались лишь сведениями, почерпнутыми из летописей и некоторых других письменных источников, игнорируя или не умея использовать в качестве исторических источников археологические памятники.
Сказочный туман легенд, которым долгое время была овеяна древнейшая история Киева, в результате археологических исследований на территории города и его окрестности, широко развернувшихся начиная с первых десятилетий нашего века, постепенно развеивается, позволяя восстановить основные исторические этапы формирования древнейшей столицы Русского государства.
Более полувека назад А.А.Спицын, характеризуя известные в ту пору археологические памятники, связанные с территорией Киева, утверждал, что лишь два предмета могут быть отнесены ко времени II-IV вв., считая при этом, что местное происхождение и этих двух предметов сомнительно. Подробно охарактеризованные в первой главе настоящего исследования серии разнообразных памятников первой половины I тысячелетия н.э., обнаруженные в разное время на территории Киева, – керамика как зарубинецко-корчеватовского, так и черняховского типов, многочисленные клады римских монет, различные случайные вещи, а также несколько погребений корчеватовского и черняховского типов неоспоримо свидетельствуют о существовании на территории будущей столицы Древнерусского государства значительно более древних поселений. Время их возникновения в настоящее время не может быть уточнено. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что они существовали уже в первые века нашей эры, возникнув, по-видимому, еще в конце предшествующего тысячелетия.
Поскольку находки кладов римских монет долгое время связывались преимущественно с Подолом, давно возникла мысль, что поселение первых веков [с. 519] нашей эры было расположено в Подольской части Киева, где-то в устье Почайны. Эту мысль особенно энергично отстаивал в конце XIX в. В.Б.Антонович.
Топография известных ныне кладов, случайных находок и нескольких погребений этой поры дает основание решительно отвергнуть это предположение. Находки, относящиеся к первой половине I тысячелетия н.э., обнаружены, как это видно на сводном плане археологических находок, в нескольких, весьма удаленных один от другого районах современного города.
Наиболее богатые по своему составу и наиболее древние клады римских монет найдены в Верхнем нагорном Киеве в районе Львовских ворот, т.е. в северо-западной части города Ярослава.
В северо-западной части Верхнего Киева, на Андреевской горе, на территории, где в IX-Хвв. располагалось городище, в дальнейшем сыгравшее решающую роль в сложении Киева, обнаружены остатки древнейшего некрополя типа полей погребений. Несмотря на немногочисленность открытых здесь захоронений, есть основание утверждать, что могильник этот существовал длительное время. Напомним, что погребения, раскопанные на Андреевской горе, относятся как к раннему (корчеватовско-зарубинецкому), так и к более позднему (черняховскому) типу культуры полей погребений.
Значительная группа кладов римских монет III-IV вв. и ряд отдельных находок связаны с Подолом, что и послужило основанием широко распространенного и долго державшегося убеждения, что именно здесь, в устье р.Почайны, следует искать древнейшее поселение – зародыш будущего города.
Достаточно многочисленные фрагменты керамики как корчеватовского, так и черняховского типов обнаружены на различных участках горы Киселевки. Там же известны несколько случайных находок римских монет. Характер керамических находок на Киселевке свидетельствует о существовании здесь поселения, а не некрополя.
Клад римских монет и несколько случайных находок обнаружены на Печерске и на прилегающей к нему территории.
Итак, клады, случайные находки и погребения первых веков нашей эры локализуются в основном в пяти районах Киева, порой весьма отдаленных один от другого.
Следует также напомнить, что недалеко за современной городской чертой, южнее древних пригородных киевских монастырей Печерского и Выдубицкого, расположен известный Корчеватовский могильник.
Разумеется, грубейшей ошибкой следует признать попытки рассматривать упомянутые выше памятники как свидетельство существования на территории будущего города какого-то огромного поселения, превосходившего по площади не только Киев XI-XIII вв., но и современный город. Именно эту ошибку допускал в свое время Ляскоронский, пытавшийся связать разбросанные по огромной территории современного Киева клады римских монет первых веков нашей эры с хозяйственной жизнью и исторической топографией позднейшего княжеского Киева. Рассматривая поселение первых веков нашей эры не только [с. 520] как единый, крупнейший по размерам город, и к тому же как город, топография которого в основном предопределила историческую топографию Киева XI- XIII вв., Ляскоронский не учитывал то, что даже в городе конца Х в. и тем более в поселениях конца VIII-Х в., существовавших на территории будущего Киева, еще далеко не определились черты исторической топографии города XI-XIII вв. В этих ошибочных сопоставлениях нельзя не усматривать отголосок широко распространенной некогда теории о существовании на месте Киева большого “Днепровского города” – мифической столицы готской империи Эрманарика.
Случайный, эпизодичный характер большей части находок, связанных с поселениями первых веков нашей эры, на территории Киева не позволяет дать развернутую социально-экономическую характеристику этих поселений. Несомненна связь упомянутых выше разнообразных памятников с культурой полей погребений как с зарубинецко-корчеватовским, так и с черняховским ее этапами. Как известно, интерпретация социальных и этнических основ этой культуры связана со многими, до сих пор не преодоленными трудностями, вызванными прежде всего совершенно недостаточной степенью изученности памятников.
Существенной особенностью ранних поселений на территории Киева являются развитые связи их населения с периферией римского мира. Об этом свидетельствуют многочисленные находки римских монет как отдельными экземплярами, так и в виде крупных кладов, а также находки различных изделий римского происхождения (светильник, камея, фибула и пр.).
Характер этих связей в трудах, посвященных изучению культуры полей погребений, трактовался, как известно, весьма различно, так же как весьма несходны между собой выдвигавшиеся за последние полтора десятилетия общие исторические концепции этого периода. Разбирать их здесь в связи с историей древнейших поселений на территории Киева, разумеется, нет необходимости. Углубленное изучение этого периода в истории Восточной Европы, требующее прежде всего новых систематических раскопок хорошо сохранившихся поселений и могильников этой поры, позволит уточнить историческое значение и тех древнейших поселений на территории Киева, случайные остатки которых, при самом тщательном их собирании и изучении, не позволяют реконструировать социально-экономический характер этих поселений с желаемой полнотой и убедительностью.
Клады римских монет и другие памятники, связанные с культурой полей погребений на территории Киева, не переходят за грань середины V в. Длительный период от середины V до второй половины VIІІ в. является, как известно, наиболее темным в истории Восточной Европы. Сказанное вполне подтверждается и историей Киева. Среди многочисленных археологических памятников, найденных на территории города, к этому периоду можно отнести лишь несколько случайных находок ювелирных изделий, исчерпывающе перечисленных и коротко охарактеризованных в первой главе настоящего исследования.
На[с. 521]ходки эти, несмотря на эпизодический характер их, несомненно свидетельствуют о том, что в VI-VIII вв. на территории Киева существовали какие-то славянские поселения, преемственная связь которых с поселениями эпохи полей погребений пока отнюдь не может считаться бесспорно доказанной. Характер поселений VI – начала VIII в. на территории Киева, о самом существовании которых мы можем лишь догадываться по нескольким случайным находкам ювелирных изделий, остается до настоящего времени загадочным.
Даже общий облик материальной культуры поселений этого времени, в частности тип жилищ, керамика, орудия производства, пока неизвестны. Попытку отнести к этому периоду лепную керамику, обнаруженную раскопками на горе Киселевка, нельзя признать обоснованной. Сказанное о поселениях VI – VIII вв. на территории Киева может быть почти полностью отнесено и к другим поселениям лесостепной полосы Восточной Европы этого периода, самый факт существования которых порой подвергался сомнению.
2. Древнейшие городища 9 в.
В конце VIII, а особенно в IX – Х вв. исторический путь развития города становится значительно более ясным и конкретным благодаря замечательным по своей убедительности археологическим источникам, добытым раскопками последних десятилетий.
До недавнего времени было широко распространено убеждение, что первоначальным ядром Киева был так называемый “город Владимира”, т.е. город, который при князе Владимире Святославиче был укреплен земляным валом и рвом.
Археологическими раскопками на территории Владимирова города было із несомненностью доказано, что этот “город” не может быть признан древнейшим ядром Киева. Раскопками был обнаружен глубокий ров, являющийся остатком значительно более древних оборонительных сооружений Киевского городища, расположенного на северо-западной оконечности Андреевской горы, защищенной с запада и с севера крутым обрывом этой горы. Этот ров и находившийся за ним земляной вал ограждали Киев VIII-Х вв., территория которого была значительно меньше территории города Владимира.
В центре этого маленького, но прекрасно укрепленного городка раскопками В.В.Хвойки были обнаружены развалины языческого капища-жертвенника, сложенного из глыб неотесанного камня, возле которого были найдены многочисленные обломки костей жертвенных животных и фрагменты лепной керамики. За рвом древнейшего городища, вплотную примыкая к нему, был расположен древний языческий курганный могильник, изучение которого дало исключительно ценные материалы для характеристики Киева в IX-Х вв.
Археологическими исследованиями установлено, что на территории современного города в конце VIII – первой половине Х в., помимо городища на Андреевской горе, существовало еще не менее двух укрепленные поселений. Первое [с. 522] из них, расположенное на горе над Иорданской церковью, привлекло к себе внимание киевских археологов еще в 70-х годах прошлого века. В.Б.Антонович, связывая это городище с летописным названием горы Хоревицы, считал, что здесь в IX-Х вв. был “многолюдный торговый центр”. К сожалению, все внимание археологов 1870-х годов было привлечено к погребениям и кладам, открытым в этом же районе, городище же осталось совершенно неисследованным. Не подвергнул это городище серьезному археологическому исследованию и В.В.Хвойка, занимавшийся в 1870-х годах обследованием этого района Киева. Городище к этому времени было уже сильно разрушено оползнями. Как показало новое обследование этого района, в настоящее время от городища почти ничего не сохранилось.
От третьего славянского поселения VIII-Х вв., расположенного на северо-западном склоне горы Киселевки, сохранилась лишь незначительная часть, большая часть его была уничтожена, по-видимому, в XIV в. при устройстве северного въезда в замок, разместившийся на горе в период литовского владычества. Раскопками 1932 и 1940 гг. здесь обнаружены многочисленные фрагменты лепной и гончарной керамики, костяных изделий и остатки двух плохо сохранившихся жилищ IX-Х вв.
Таким образом, наряду с городищем на Андреевской горе, охарактеризованным выше, и ныне полностью разрушившимся городищем над Иорданской церковью городище на Киселевке являлось одним из трех известных ныне поселений конца VIII-Х в. на территории будущего города. Было бы ошибкой, опираясь на совпадение количества городищ, случайно уцелевших поныне на территории Киева, с числом братьев, упомянутых в легенде об основателях города, рассматривать это совпадение как прямое подтверждение народной легенды, сохраненной летописцем.
Вместе с тем несомненно, что легенда о трех братьях – основателях города отражает реальный исторический факт существования на территории Киева нескольких самостоятельных поселений, лишь позже (по-видимому, в конце Х в.) слившихся в один большой город. Следует подчеркнуть, что преемственная связь этих поселений с поселениями VI – VIII вв. на территории Киева пока также не доказана, как не доказана преемственная связь поселений VI – VIII вв. с поселениями первых веков нашей эры, остатки которых подробно охарактеризованы выше. Изучение исторической топографии целого ряда древнейших русских городов позволило установить, что многие из них также сформировались в конце IX-Х в. из нескольких самостоятельных укрепленных городищ, одно из которых стало ядром детинца нового города, а другие либо вошли в состав городского посада, либо постепенно запустели.
3. Некрополи 9 – 10 вв.
Остатки трех городищ конца VIII – Х в., одно из которых в Х в. становится детинцем столицы Древнерусского государства, весьма незначительны и не дают возможности с желательной полнотой реконструировать социально-эко[с. 523]номический облик этих поселений – прямых предшественников исторического Киева. Тем большее значение для изучения исторических судеб Киева в IX – Х вв. представляют замечательные материалы древнего киевского некрополя.
Подобно некрополям Чернигова и Смоленска, погребальные комплексы которых уже давно привлекли к себе внимание археологов, киевский некрополь в результате исследований последних лет выступил в качестве одного из важнейших исторических источников для изучения древнейшего периода истории города.
Обнаруженные на территории Киева многочисленные погребения IX-Х вв., несмотря на хронологическую близость их между собой, отнюдь нельзя рассматривать как части какого-то единого грандиозного могильника. Большую часть погребений IX-Х вв., открытых раскопками разных лет, несомненно следует рассматривать как древний могильник у городища на Андреевской горе. Основная часть этого могильника была расположена к юго-востоку от земляного вала и рва, ограждавших это городище. Вплоть до последних десятилетий Х в., когда по инициативе князя Владимира Святославича здесь началось строительство Десятинной церкви и каменных княжеских дворов, весьма значительная площадь, примыкавшая к земляному валу древнего городища, была сплошь занята сотнями больших и малых курганов. Восточную границу этого могильника установить трудно, но, судя по находкам отдельных погребений, древний могильник располагался почти по всей площади, которая в конце Х в. вошла в границы Владимирова города.
Вплоть до
30-х годов XI в., т.е. до начала строительства нового грандиозного
архитектурного ансамбля Ярославова города, к югу и юго-западу от границ
Владимирова города было расположено “поле вне града”, на котором высились
огромные курганы, один из которых “Дирова могила”, по словам летописца,
сохранился “за святою Ориною” даже и тогда, когда вырос архитектурный ансамбль
Ярославова города. Находка богатых погребений на Софийском дворе и богатейшее
погребение дружинника, случайно обнаруженное в
Несколько весьма значительных курганных групп IX-Х вв. хорошо сохранилось вплоть до настоящего века на взгорьях вдоль Кирилловской ул. (ныне ул.Фрунзе). Значительная часть их разновременно была подвергнута раскопкам. Могильник на Кирилловских взгорьях, по-видимому, примыкал к городищу, расположенному некогда над Иорданской церковью. Однако трудно сказать, следует ли связывать с этим городищем все многочисленные курганные группы, расположенные вдоль Кирилловской ул., начиная от Верхней Юрковицы и вплоть до Кирилловского монастыря. Очень возможно, что наибо[с. 524]лее удаленные из них являлись частью самостоятельного могильника, примыкавшего к какому-то неизвестному нам поселению в районе Дорогожичей.
Погребальные комплексы обоих киевских могильников распадаются на две группы, резко различающиеся между собой по богатству инвентаря и большей или меньшей сложности погребального обряда. К первой группе мы относим многочисленные погребения с простым, но устойчивым обрядом захоронения и несложным, бедным инвентарем. В составе этой группы можно выделить погребения с трупоположением (ингумацией) и погребения с трупосожжением (кремацией). По характеру инвентаря обе эти разновидности погребений не отличаются.
Ко второй группе отнесены значительно менее многочисленные погребения, встречающиеся в обоих могильниках, с исключительно богатым и разнообразным инвентарем и сложным устройством могильных сооружений в виде деревянных камер различных конструкций. В качестве самостоятельной подгруппы и в этом случае необходимо рассматривать погребения с сожжением, богатый инвентарь которых очень близок к инвентарю богатых погребений с трупоположениями.
Несмотря на то, что рядовые погребения с бедным инвентарем, не привлекая к себе внимание, нередко разрушались без научной регистрации, соотношение между богатыми погребениями со сложным обрядом и скромными рядовыми погребениями отнюдь не подтверждает мысль об аристократическом характере могильников IX-Х вв., расположенных у древнерусских городов, нередко изображавшихся как кладбища дружинной знати.
Рядовые захоронения киевского некрополя характеризуются в основном устойчивым обрядом погребения и, в частности, устройством могилы. В то же время следует отметить и некоторые отличительные особенности. Так, среди массовых захоронений с трупоположением зарегистрированы случаи захоронений, где скелеты были окружены железными гвоздями, воткнутыми в землю на небольшом расстоянии один от другого, что свидетельствовало о замене деревянного гроба покрытием покойника какой-то тканью или рогожей.
Известны в киевском некрополе случаи посыпания покойника золой и углями, что несомненно следует рассматривать как пережиток обряда трупосожжения. Отголоском еще более древних представлений является обряд посыпания покойника зерном (пшеницей, просом, льняным семенем).
Как уже сказано выше, погребальный инвентарь в рядовых захоронениях киевского некрополя очень несложен и незначителен по количеству. В мужских захоронениях этой группы встречаются железные ножи с костяной рукоятью, кресало и кремень для высекания огня, оселок для заточки ножа или стрел, костяной гребень в футляре, костяные роговые поделки в виде тупого острия, кабаньи клыки. Несколько богаче по инвентарю рядовые женские погребения, для которых характерны ожерелья, височные кольца, серьги, очень редки перстни, совсем не встречены металлические браслеты. Нередка в рядовых погребениях киевского некрополя глиняная посуда или в виде целых сосудов, по-[с. 525]видимому с пищей, или в виде обломков, может быть, представляющих остатки погребальной тризны. Погребальный инвентарь массовых захоронений киевского некрополя не отличается от изделий, известных по находкам на городищах той же поры, и, за исключением привозных бус, является продукцией местного ремесла, процесс выделения которого форсированно протекал именно в эту пору.
Среди массовых захоронений киевского некрополя заслуживают особого упоминания несколько погребений рядовых дружинников, составлявших основную массу княжеской дружины. Судя по характеру погребального инвентаря и особенно погребального обряда, эта группа княжой дружины по своему социальному положению резко выделялась от обособляющейся аристократической верхушки дружины. Особняком среди захоронений киевского некрополя стоит единственное погребение купца, возле скелета которого лежали медные чашки от весов, складное коромысло к ним, 9 гирек и одна золотая византийская монета (913-959 гг.).
Наличие в киевском некрополе двух различных погребальных обрядов, что характерно не только для массовых захоронений, но и для богатых погребений киевской знати, известно не только в Киеве IX-Х ст. Сосуществование погребальных обрядов ингумации и кремации типично и для могильников Чернигова, причем материалы и киевского и черниговского некрополей свидетельствуют об одновременности обоих обрядов. Сосуществование погребальных обрядов ингумации и кремации, как известно, было характерно еще для полей погребений. В.В.Хвойка считал, что славяне VIII-Х вв. унаследовали эту черту именно оттуда. Однако простой ссылкой на более древнюю традицию происхождение самого явления объяснить нельзя. Только глубокое и всестороннее изучение общего процесса формирования восточного славянства позволит когда-нибудь подойти к обоснованному решению и интересующего нас частного вопроса о сосуществовании двух различных погребальных обрядов в некоторых русских городских некрополях IX-Х вв.
Наряду с массовыми погребениями в составе киевского некрополя давно уже обратила на себя внимание гораздо менее значительная по количеству группа богатых по инвентарю погребений с гораздо более сложным устройством могильных сооружений. Богатое вооружение, пышные одежды и драгоценные украшения, скелет коня и роскошная конская упряжь, находимые в погребениях этой группы, свидетельствуют о том, что это погребения знатных представителей княжеской дружины. В нескольких случаях погребенного сопровождает женщина, по-видимому, убитая рабыня. К числу богатых погребений знати относится также несколько погребений с кремацией покойников, по характеру погребального инвентаря не отличающихся от погребений в срубах.
Погребениям знатных дружинников по богатству инвентаря не уступали и погребения знатных женщин той же поры, хотя по устройству могильных сооружений эти погребения несколько проще.
В составе погребального инвентаря киевского некрополя наряду с многочисленными местными изделиями, характеризующими растущее городское [с. 526] ремесло, нельзя не заметить и ряда вещей, несомненно привезенных в Киев издалека, свидетельствующих о многообразных связях верхушки киевского общества,
Вопреки широко распространенному взгляду о большом значении Византии в сложении древнерусской культуры и, в частности, о крупной роли византийского импорта, следует подчеркнуть, что вещей византийского и, в частности, херсонесского происхождения в погребальном инвентаре киевского некрополя почти нет, если не считать четырех византийских монет Х в. и одного местного подражания византийской монете IX в., а также херсонесского ключика, найденного в одном из погребений.
Связи с Халифатом в инвентаре киевского некрополя отражены довольно многочисленными диргемами Х в., превращенными в подвески, пастовыми (“глазчатыми”) бусами, как известно, в огромном количестве ввозившимися не только в Восточную Европу, но и в Скандинавию и на Запад, и отдельными предметами художественного ремесла (бронзовая курильница, поливная керамика). Связи Киева с Халифатом отражены, помимо вещей погребального инвентаря, также и в материалах нескольких нумизматических и вещевых кладов, найденных на территории Киева.
О связях с северо-восточными районами Восточной Европы свидетельствует кресало с фигурной бронзовой ручкой в виде двух хищных птиц, клюющих в голову человека, найденное в большом кургане на Кирилловских взгорьях. Близкие аналогии этого изделия известны среди древностей Прикамья.
Из числа изделий, ввозившихся в Киев из Западной Европы, можно отметить только франкские мечи, найденные в нескольких богатых погребениях. Особый и явно преувеличенный интерес издавна вызывали вещи скандинавского происхождения. В составе погребального инвентаря киевского некрополя есть ряд вещей несомненно скандинавского происхождения (несколько скорлупообразных и кольцевых бронзовых фибул и две круглые серебряные фибулы, украшенные филигранью и зернью). Вещи скандинавского происхождения, найденные в составе погребальных комплексов киевского некрополя, и отдельные случайные находки этого же рода, обнаруженные на территории города, неоспоримо свидетельствуют о крайне незначительной роли их даже в жизни социальных верхов киевского общества IX-Х вв., не говоря уже о массах городского населения, в культурном облике которого нет ни одной черты, которую можно было бы отнести за счет норманского влияния.
Наличие в киевском некрополе, как и в ряде других городских могильников Среднего Поднепровья, наряду с широко известными дружинными погребениями с кремацией покойников дружинных же погребений с трупоположением в срубных гробницах вызывало различные попытки истолкования этой двойственности погребального обряда. Ни одно из предлагавшихся решений, однако, нельзя признать удовлетворительным. Погребальный инвентарь и некоторые особенности погребального обряда, характерные для обеих групп, с несомненностью свидетельствуют об общности социальных признаков тех и других погре[с. 527]бений.
Однако общность социальных черт, присущих погребениям различных типов, отнюдь не позволяет игнорировать весьма существенных отличий в обряде погребения в срубной гробнице от обряда кремации, тем более, что, как уже отмечалось выше, эти отличия в обряде погребения были в ту пору присущи и массовым погребениям горожан. Причины этих отличий следует, по-видимому, искать в неоднородности этнографического состава населения крупнейших древнерусских городов Среднего Поднепровья.
Для окончательного решения вопроса об этнической принадлежности срубных гробниц киевского некрополя необходимо не только изучение всех срубных гробниц Среднего Поднепровья и Поросья, но и глубокое исследование проблемы двойственности обрядов погребения в различные периоды истории восточного славянства.
4. Укрепления конца 10 – 11 вв.
В конце Х в.
старое, наиболее укрепленное городище на Андреевской горе, очевидно, уже
оказалось недостаточным для роли детинца быстро растущего города. Князь Владимир
Святославич сооружает новые укрепления, значительно расширив территорию
древнего городища. Древний ров и вал, оказавшиеся внутри новых укреплений, были
уничтожены, а языческие курганы старого могильника, расположенные теперь в
центре нового детинца, были снесены. В
Ставшая центром нового детинца, площадь могильника в Х-XI вв. застраивается княжескими дворцами и хоромами знати, а на территории древнего городища и на трассе засыпанного рва возникают жилища-мастерские княжеских холопов-ремесленников.
Границы не дошедших до нашего времени укреплений Владимирова города достаточно точно устанавливаются по письменным и графическим источникам значительно более позднего времени. Единственным реальным остатком Владимирова города являются развалины каменной воротной башни, известной под более поздним названием “Батыевых ворот”, обнаруженные раскопками на углу Владимирской и Б.Житомирской улиц.
Укрепления
Киевского детинца, созданные в конце Х в. князем Владимиром Святославичем,
охватывали территорию, значительно большую по сравнению с территорией древнего
городища на Андреевской горе, на месте которого они возникли. Однако в
результате быстро возраставшего в конце Х-начале XI в. экономического и
политического значения Киева как столицы Древнерусского государства уже вскоре
появилась необходимость нового значительного расширения территории детинца и
создания новой более мощной системы оборонительных сооружений. Строительство
новых укреплений, начатое по инициативе Ярослава Мудрого в конце 30-х годов XI
в., продолжалось, по-видимому, [с. 528] ряд лет. Киевские летописцы крайне
скупо освещают грандиозные работы по строительству оборонительных сооружений. В
сообщении о закладке Ярославом в
Надолго
заброшенные после татаро-монгольского разгрома укрепления Ярославова города
вновь привлекли к себе внимание лишь в середине XVII в. С первых дней воссоединения
Украины с Русским государством московское правительство проявляло чрезвычайную
заботу об укреплении обороноспособности Киева. Московские воеводы, прибывшие в
Киев в феврале
Несмотря на ряд позднейших ремонтов и перестроек, проводившихся в XVII-XVIII вв., древние укрепления Ярославова города в значительной степени сохранялись вплоть до 30-х годов XIX в., когда в связи с перепланировкой города их начали постепенно сносить. Значительные части древних валов на различных участках города сохранились до наших дней.
Чрезвычайно ценным источником для изучения древних укреплений Ярославова города являются многочисленные планы Киева XVII-первой половины XIX в. и несколько “росписных списков” XVII-XVIII вв., несмотря на то, что все эти планы и описания фиксируют состояние киевских укреплений, разумеется, уже после восстановления их московскими воеводами.
Еще в конце
XIX в. П.Лебединцев, опираясь на эти источники, в противовес широко
распространенной в ту пору ошибочной реконструкции плана Ярославовых
укреплений, в которой за древнюю восточную границу укреплений принимался вал,
выстроенный в
Подробные описания оборонительных сооружений в “росписях” XVII – начала XVIII в., а также планы Киева XVIII – начала XIX в. позволяют с уве[с. 529]ренностыо восстановить план мощных укреплений Ярославова города. От Золотых ворот Ярославов вал шел на запад параллельно современной улице Ворошилова (бывш. Б.Подвальная иди Ярославов вал), по краю нагорья, круто обрывающегося к долине среднего течения р.Лыбеди. В районе Сенного базара (Львовская площадь) находились Жидовские ворота. Далее вал поворачивал на восток, проходя по обрывистому краю нагорья над Кожемяцким ущельем и Гончарами, параллельно современной Б.Житомирской ул., и примыкал к более древним укреплениям Владимирова города, вблизи от Софийских (Батыевых) ворот. Восточная половина Ярославова города может быть реконструирована столь же уверенно. От Золотых ворот, пересекая современную Владимирскую ул., вал тянулся до пересечения М.Подвальной ул. и Михайловского переулка и спускался в Крещатацкую долину, в район современной площади Калинина, где находились в древности Лядские ворота. Оттуда вдоль современной Костельной ул. вал поднимался к Михайловскому Златоверхому монастырю, охватывая его вдоль обрыва Владимирской горки.
До недавнего
времени было широко распространено мнение о том, что древние оборонительные
сооружения Ярославова города в результате огромных работ по перепланировке
Киева, проведенных в середине XIX в., полностью исчезли, за исключением
развалин Золотых ворот. При различных земляных работах, проводившихся на
территории Верхнего города, изредка удавалось проследить лишь отдельные
элементы деревянных конструкций, сохранившихся внутри земляных валов и особенно
у их основания. Исключительный интерес представляют результаты археологических
раскопок восточной части Ярославова вала, проведенных Институтом археологии в
Важнейшим
результатом этих раскопок было обнаружение на довольно значительном участке
хорошо сохранившихся остатков деревянных, плотно забитых землей клетей,
составлявших внутривальную конструкцию оборонительных сооружений. Разумеется,
не только деревянные стены, стоявшие некогда на валу, но и верхняя часть самого
вала не сохранились. Лишь гипотетически удалось представить высоту древнего
вала, превышавшую на изученном участке
Раскопки
Лишь случайно при изложении различных событий военной истории города киевские летописцы упоминают оборонительные сооружения Подола. В результате многократных перестроек в позднейшие периоды истории города, от древних сооружений, оборонявших городской посад Киева, до наших дней, по-видимому, не сохранилось каких-либо значительных остатков. [с. 530]
5. Княжеские и боярские дворы
Письменные источники и в первую очередь летописи сообщают немало сведений о многочисленных дворах князей и именитых бояр, расположенных в различных концах города и в его окрестностях.
Княж двор являлся одним из важнейших центров политической, административной и хозяйственной жизни древнего Киева. Уже в наиболее древних известиях о Киеве летописцы упоминают и о княжих дворах как важнейших центрах города.
Воссоздавая облик древнейшего Киева и повествуя о княжеских дворах и теремах, летописец стремился уточнить их местоположение ссылками на существовавшие в его время, по-видимому, известные всем киевлянам крупные боярские дворы.
Однако историки и археологи XVIII – XIX вв., обратившиеся к летописному тексту как к единственному в то время источнику для реконструкции исторической топографии города, оказались в значительно более трудном положении, ибо одно неизвестное приходилось определять другим неизвестным. По вопросам топографии древнейших княжих дворов в Киеве высказано огромное количество взаимоисключающих догадок и предположений, число которых увеличивается и поныне. Уточненное определение территории древнейших княжеских дворов в Киеве на основе интерпретации кратких летописных известий, на наш взгляд, является задачей невыполнимой.
Огромный интерес представляют результаты археологических поисков остатков княжих дворов, но следует подчеркнуть, что и эта задача связана с весьма существенными трудностями. Необходимо учитывать прежде всего, что территория княжих дворов в Киеве на протяжении IX – XIII вв. далеко не была постоянной. Нужно помнить также, что княж двор представлял во все периоды его существования чрезвычайно сложный комплекс, состоявший отнюдь не только из дворцовых построек, хотя до настоящего времени наиболее бесспорными вехами в археологическом изучении этой проблемы являются развалины нескольких древнейших дворцовых построек (гридниц).
Крайняя лаконичность летописных известий о древнейших княжеских дворах в Киеве лишает возможности ответить на вопрос, чем было обусловлено наличие в Киеве в эту пору двух княжеских дворов, один из которых к тому же находился “вне града”. Затруднительно решить, почему на этом дворе “вне града”, т.е. расположенном вне городских укреплений, а не на княжом дворе в городе, развертываются в середине и второй половине Х в. наиболее крупные события государственной важности.
Из весьма лаконичных упоминаний княжого двора в событиях второй половины XI в. можно уловить существенные новые черты, которые приобрел княж двор в это время. Главным зданием княжого двора, в котором происходят основные события, становятся сени. Оттуда находящийся со своей дружиной князь ведет переговоры со стоящими внизу на дворе восставшими киевлянами. [с. 531]
В середине
XII в. на страницах киевской летописи появляется новое наименование княжа двора
– “Ярославль двор”, иногда с эпитетом “Великий”. Впервые это название
встречается в летописном рассказе о бурных событиях
Наименование старого княжеского двора “Ярославовым”, появившееся в середине XII в., имело несомненно политическое значение. Оно появилось в ту пору, когда значение киевских князей в политической жизни Киева сильно упало, когда князья, занимая княжеский стол, были обязаны не только считаться с мнением киевского веча, но иногда именно от него получать княжение, когда киевский стол стал переходить из рук в руки в результате междоусобной борьбы различных обособившихся княжеских династий. В эту пору прививающееся наименование княжого двора в Киеве “Ярославовым” должно было в известной мере способствовать поднятию упавшего авторитета киевских князей, как в их собственных глазах, так и в глазах киевского городского населения.
В 90-х годах XII в. Киевская летопись дважды упоминает о существовании еще одного княжеского двора в Киеве, который в отличие от Ярославова Великого двора называется “Новым”. Местоположение этого двора остается спорным.
Некоторые исследователи рассматривали Новый двор как княжеский двор, возникший вместо древнего Ярославова двора на прежнем месте или по соседству с ним; другие, опираясь на летописный рассказ о последних днях жизни кн. Святослава, готовы были локализовать этот двор в районе Кирилловского монастыря. Неясен и характер этого двора. Нет никаких оснований считать его фамильным загородным двором Ольговичей, как это делал Д.Иловайский.
Наряду с
основным княжеским двором в городе, являвшимся официальной резиденцией князей,
сидевших на киевском столе, с начала XI в. и вплоть до середины XII в. в
письменных источниках встречаются упоминания о существовании княжеского двора
на Берестове, выступающего также в качестве официальной резиденции киевских
князей. Этот двор, упомянутый в роли княжеской резиденции впервые под
Летописные
известия, упоминающие еще один княжеский двор, находившийся также вне города,
“под Угорским”, т.е. где-то между Берестовым и Верхним городом, слишком эпизодичны
и потому не дают возможности уточнить ни местоположение этого двора, ни его
функции. На этом дворе в
Наряду с официальными княжескими резиденциями в городе и на Берестове в Киеве с XI в. известен целый ряд других дворов либо принадлежавших князьям, не занимавшим в данное время киевский стол, либо являвшихся фамильными вотчинами тех или иных княжеских фамилий.
К югу от Киева, на Выдубицком холме, находился Красный двор Всеволода Ярославича, возникший, по-видимому, еще до вокняжения Всеволода на киевском столе.
К числу
княжеских дворов, возможно, принадлежал Брячиславль двор, бывший двором
полоцких князей. В непосредственном соседстве с Великим Ярославовым двором
располагался Мстиславль двор, на котором во время грозных событий
Имел свой
“Красный двор” в Киеве и Юрий Долгорукий, многие годы боровшийся за киевский
стол и трижды сидевший на нем. После смерти Юрия в
Наряду с
княжескими дворами, игравшими огромную роль в политической жизни Киева, в
XI-XIII вв. в городе приобретают большое значение многочисленные дворы бояр,
дружинников и других представителей феодальной знати. Рост местной феодальной
знати в Киеве наглядно отражается в увеличении боярских дворов в самом городе,
не говоря уже о сельских боярских вотчинах. Уже на первых страницах летописи
упомянут Олмин двор на горе в Угорском, существовавший во времена летописца. К
числу древнейших упоминаний о боярских владениях в Киеве можно отнести и
наименование “Боричев взвоз”, происходящее, по-видимому, от имени Борича,
упомянутого в числе послов кн.Игоря, участвовавших в
В летописном
рассказе под
Крупнейшим
представителем киевского боярства был и Коснячко, двор которого упомянут
летописцем в рассказе о киевском восстании
Значительно
более часто упоминают киевские летописцы о боярских дворах в Киеве в связи с
различными событиями политической жизни города XII в. Во время киевского
восстания
Под
В событиях
Под
Дворы
наиболее знатных бояр располагались в Верхнем Киеве, однако в летописных
рассказах изредка фигурируют и боярские дворы на Подоле. Таков двор Радслава,
зажженный половцами, прорвавшимися в
Отрывочный характер упоминаний о боярских дворах в Киеве не позволяет восстановить даже в самых общих чертах архитектурно-планировочный облик этих дворов. Судя по отдельным репликам летописца, это были огороженные высокими заборами, достаточно сильно укрепленные крупные внутригородские усадьбы, заставляющие вспомнить термин “хоромы”, известный по одной из статей древнейшей Правды. По интерпретации Б.Д.Грекова, в “хоромах” Русской Правды следует видеть укрепленные места – дворы, находившиеся в черте городских укреплений.
О расточительной роскоши боярских теремов, о богатых запасах, хранившихся на боярских дворах, образно рассказывают произведения древнерусской литературы. К сожалению, до настоящего времени боярский двор ни разу не был успешно разрешенной задачей археологического исследования.
6. Рядовые жилища
Представления о многих древнерусских городах связаны прежде всего с монументальными памятниками каменного зодчества. Не избежал этой судьбы и Киев. Вплоть до начала нашего века столица Древнерусского государства изображалась исключительно как город парадных каменных храмов, дворцов и крепостных сооружений. О рядовых жилищах горожан приходилось обычно умал[с. 534]чивать по той причине, что археологическими раскопками, достаточно широко проводившимися в Киеве уже с 20-х годов XIX в. вплоть до начала нашего века, не было обнаружено ни одного рядового городского жилища. Нетрудно понять, что единственным объяснением этого положения является то, что раскопки жилищ, требующие особенно совершенной методики археологического исследования, были не под силу археологам-дилетантам, в руках которых в основном находилось в ту пору изучение Киева.
Впервые в 1907-1908 гг. раскопками В.В.Хвойки в усадьбе Петровского было открыто несколько жилищ-мастерских. При всем несовершенстве методики работ В.В.Хвойки, открытые им жилища позволили поставить вопрос об архитектурном облике массовых жилищ домонгольского Киева на реальную почву археологически документированных фактов. Отбрасывая некоторые неясности в характеристике отдельных особенностей открытых В.В.Хвойкой жилищ-мастерских, можно с уверенностью утверждать, что все они принадлежали к типу полуземляночных построек, известных ранее по материалам раскопок на других городищах Х-XIII вв. Среднего Поднепровья.
Раскопками В.В.Хвойки в деле изучения рядовых жилищ Киева были сделаны лишь первые шаги. Широкое и более углубленное изучение их является заслугой советской археологии.
Отдельные
жилища Х – XIII вв. были обнаружены раскопками Всеукраинского археологического
комитета на горе Детинке (
В работах Киевской археологической экспедиции АН СССР и АН УССР, проводившихся в 1938, 1939, 1946, 1948 и 1949 гг. на различных участках города, изучению массовых городских жилищ уделялось основное внимание.
Тщательно
исследованные новые памятники позволяют ныне глубже и увереннее решить основные
вопросы реконструкции древнего облика массовых жилищ горожан домонгольского
Киева. Остатки жилищ, открытые в Киеве, неоспоримо свидетельствуют о том, что
основным типом массового городского жилища здесь, как и в других городских центрах
Среднего Приднепровья, вплоть до XII – XIII вв. была полуземляночная постройка,
нижняя часть которой представляла прямоугольное углубление, вырытое в грунте.
Верхняя наземная часть постройки состояла из глинобитных стен, деревянный
каркас которых представлял несколько вертикальных столбов, врытых в землю и
соединенных между собой немногочисленными деревянными перевязями,
переплетенными тонкими прутьями. Следует подчеркнуть, что углубление нижней
части жилища в землю делалось обычно довольно незначительным (от 0.3 до
Пол и стенки вырытого в грунте углубления обычно бывают покрыты глиняной обмазкой. Вырезанные в плотном материковом грунте ступени входа [с. 535] в жилище также обычно обмазывались глиной. В отдельных случаях вместо глиняной обмазки стенки углубленной части жилища бывают обложены досками, укрепленными в пазах угловых столбов.
План полуземляночных жилищ всегда прямоугольный, чаще всего квадратный. Размеры построек незначительны, колебания в размерах невелики. Иногда попадались жилища, состоявшие из двух или трех вплотную примыкающих одно к другому помещений.
Расстановка столбов в жилищах позволяет предположить обычно двускатную кровлю, хотя устройство кровли, как и других наземных частей жилища, можно реконструировать лишь сугубо предположительно.
Устойчивым
компонентом жилищ является глинобитная печь, конструктивной основой которой
обычно служит каркас из прутьев или в редких случаях деревянные колья. Печь
обычно устраивалась на невысоком возвышении, поднимавшемся над уровнем пола на
20-
Среди киевских жилищ, относящихся к середине XII в., раскопанных за последние годы, дважды были встречены иечи, сложенные из брусковых кирпичей с продольными бороздками на постельной части. Применение этого типа кирпича до недавней поры обычно связывали с более поздней порой. В действительности этот тип кирпича в Киеве начали применять еще в первой половине XIII в., накануне монгольского нашествия. Лишь однажды в киевских жилищах встречена печь, сложенная из камня. Все обнаруженные в киевских жилищах печи топились по-черному.
Характерной особенностью киевских жилищ является наличие во многих из них подпольных ям, служивших для хранения различных запасов. Предпечная яма служила обычно для выгребания из печи золы и угля.
Ямы различных размеров для хранения продуктов и различных хозяйственных предметов нередко устраивались также возле жилищ, иногда примыкая к ним вплотную. Внутренняя поверхность ям часто бывает обмазана обожженной глиной. Сверху они, очевидно, прикрывались деревянными навесами или крышками.
Среди
раскопанных в Киеве жилищ только очень немногие могут быть отнесены к XI – XII
вв., большая часть их несет на себе печать монгольского разгрома Киева в
декабре
Ограниченность участков, доступных для раскопок, не позволяет до настоящего времени изучить вопрос о характере планировки отдельных городских усадеб, улиц и площадей. Даже в тех редких случаях, когда удавалось раскопать более или менее значительную группу жилищ, решать вопросы их взаимосвязи было крайне затруднительно. Некоторые жилища оказывались несомненно [с. 536] связанными между собой. Обращает внимание устойчивая ориентация жилищ по странам света.
Для многих жилищ характерен устойчивый состав бытового инвентаря, отражающий личный быт городского ремесленника XII-XIII вв. с его скудным достатком и чрезвычайно непритязательными условиями существования. Эти особенности быта горожан приобретали особую остроту социальных контрастов, когда убогие полуземляночные жилища оказывались в непосредственной близости от преисполненных расточительным богатством и сказочной роскошью каменных храмов и дворцов.
Жилища-мастерские
полуземляночного типа с глинобитными на деревянном каркасе стенами, открытые
раскопками в Киеве, по их внешнему облику и конструктивной схеме не отличаются
от жилищ Х – XIII вв., раскопанных в ряде других южнорусских городов. Жилища
этого типа были обнаружены на многочисленных городищах Среднего Поднепровья
значительно раньше, чем в Киеве. Еще раскопками Н.Ф.Беляшевского на городище
Княжа гора (1891-1892 гг.) и В.В.Хвойки на городищах Шаргород (
Несмотря на некоторые отличительные особенности, характерные для южнорусских жилищ различных районов, многочисленные остатки массовых жилищ свидетельствуют о широком и повсеместном для южной Руси распространении типа полуземляночных жилищ с глинобитными стенами на деревянном каркасе. Именно этот тип жилищ, судя по многочисленным неоспоримым фактам, добытым археологическими раскопками, являлся основным для архитектурного облика этих городов в Х – XIII вв.
Разумеется, сказанное ни в коей мере не исключает того, что наряду с массовым типом жилья в тех же городах существовали деревянные срубные хоромы знати и богатых людей, нередко упоминаемые в письменных источниках. В дальнейшем они безусловно будут обнаружены и археологами.
Массовые жилища Киева, так же как и городские и сельские жилища Киевской, Черниговской, Переяславской и Галицко-Волынской земель в XI – XIII вв. представляют дальнейшее развитие восточнославянских дерево-глинобитных жилищ полу земляночного типа, повсеместно распространенных в лесостепной полосе Восточной Европы в VIII – Х вв.
7. Ремесленные мастерские
Многочисленные остатки рядовых жилищ древнего Киева, открытые раскопками, убедительно свидетельствуют о том, что почти каждый дом этого крупнейшего города древней Руси являлся в то же время и ремесленной мастерской. [с. 537] Об этом наглядно рассказывают разнообразные орудия производства, заготовки, полуфабрикаты, а также отходы различных производств, обнаруживаемые внутри жилищ или возле них. Увеличиваются с каждым годом и находки специальных производственных сооружений – гончарные, стекловарные и литейные горны, не связанные непосредственно с жилищами.
Чем шире и глубже развертываются археологические исследования Киева, тем отчетливее становится значение этого города в качестве крупнейшего центра древнерусского ремесла. Многие изделия ремесленного производства, известные еще недавно только по случайным находкам и потому истолковывавшиеся как предметы заморского импорта, обнаружены теперь в мастерских в различных стадиях производства, нередко наряду с орудиями производства этих предметов.
Археологические открытия последних десятилетий убедительно показали, сколь явно недооценивалась роль Киева как крупнейшего центра древнерусского ремесла теми исследователями, которые вынуждены были опираться в своих построениях почти исключительно на письменные источники.
Широкое привлечение археологических материалов для характеристики городского ремесла, характерное для исторической науки последних десятилетий, породило некоторые увлечения, иногда подрывавшие доверие к этому виду источников. Следует решительно подчеркнуть, что отнюдь не всякая находка предмета, связанного с тем или иным ремесленным производством, может быть истолкована как свидетельство о наличии в данном жилище или близ него ремесленной мастерской. Нельзя не согласиться со справедливой критикой, которой Б.А.Рыбаков подверг выводы А.А.Мансурова, по единичным находкам тех или иных изделий в развалинах жилищ Старой Рязани делавшего ложные выводы о множественности ремесленных производств почти в каждом жилище. Не менее поспешные выводы о различных видах ремесленного производства в Киеве характерны для некоторых работ В.А.Богусевича.
Изучение киевского ремесла настоятельно требует преодоления еще одной традиции, уже давно укоренившейся среди исследователей древнего Киева. Продукцию киевских ремесленников и даже те или иные конкретные мастерские, открытые раскопками, до последнего времени было принято датировать слишком обобщенно Х – XIII вв. Наряду с этой чрезмерно обобщенной датировкой отдельными исследователями порой выдвигались уточненные, но ничем не подтвержденные даты.
Тщательное
изучение обстоятельств гибели многочисленных мастерских, обнаруженных
раскопками на различных участках древнего Киева, привело нас к выводу, что
основная масса этих мастерских была разрушена и прекратила свое существование в
результате разгрома Верхнего Киева татаро-монгольскими полчищами в декабре
Изделия киевских ремесленников XI – первой половины XII в. встречаются значительно реже и потому известны значительно хуже.
Продукция киевских ремесленников, изготовлявших все необходимое, от простой глиняной посуды и до утонченных художественных изделий из серебра и золота, не только удовлетворяла основные потребности всех слоев городского населения, но в значительной мере и вывозилась далеко за пределы города.
Киевские кузнецы изготовляли все основные разновидности изделий из железа и стали – разнообразные орудия труда, оружие, ремесленные инструменты, конскую сбрую, домашнюю утварь и принадлежности костюма, известные по находкам на древнерусских городищах IX-XIII вв. Б.А.Колчин, составивший список изделий древнерусских кузнецов, насчитывал более 150 отдельных видов железных изделий. Он насчитывал в древнерусском кузнечном деле до шестнадцати обособившихся специальностей. Многочисленные железные изделия, обнаруженные раскопками в Киеве, позволяют думать, что среди киевских кузнецов были представлены все эти специальности.
Исключительного совершенства и утонченного мастерства достигли киевские ремесленники, занятые обработкой цветных и благородных металлов, владевшие всеми техническими приемами, известными в ту пору мастерам наиболее передовых стран средневекового мира.
Ремеслу, связанному с обработкой цветных и благородных металлов, несомненно была присуша не меньшая дифференциация, чем та, что отмечалась в кузнечном деле, однако многие “златокузнецы” выполняли в своих мастерских работы, связанные с различной техникой.
Одним из важнейших способов обработки меди, серебра и их сплавов было литье. Киевские литейщики владели многими разновидностями этой техники, умея изготовлять самые разнообразные предметы, от мелких медных крестиков до церковных колоколов достаточно крупного размера.
В середине XIII в. киевские ювелиры-литейщики вводят новую технику оловянных и свинцовых отливок, представлявших имитации драгоценных золотых и серебряных изделий. Отливки эти выполнялись в резных каменных формочках, в большом количестве обнаруженных при раскопках киевских жилищ-мастерских.
Наряду с литьем широкое распространение имела обработка цветных и благородных металлов в технике ковки и чекана, применявшейся для самых различных изделий. Усовершенствованием и механизацией техники чекана была техника тиснения. Новшество заключалось в применении медных штампов-матриц, при помощи которых на тонких, предварительно хорошо прокованных листах металла оттискивался рельефный рисунок. В технике тиснения киевские “златокузнецы” выполняли разнообразные изысканные ювелирные изделия из серебра и золота – колты, подвески, нашивные бляшки, полые бусы, басму для икон и т.п. Техника тиснения по сравнению с чеканом убыстряла [с. 539] процесе производства. Затратив труд на производство штампа-матрицы, мастер мог пользоваться ею достаточно длительный период.
Одним из наиболее распространенных видов ювелирной техники были изделия из медной, серебряной и золотой проволоки. Киевские “златокузнецы” изготовляли в этой технике разнообразнейшие изделия от простейшего перстня или височного кольца и до сложнейших филиграней, нередко сочетавшихся с перегородчатой эмалью, зернью, чернью и другими приемами. Широкое применение в киевской ювелирной технике имела скань, или филигрань, зернь и тернь.
Наивысшим достижением киевских ювелиров XI – XIII вв. несомненно была техника перегородчатой эмали. В разнообразных золотых изделиях, украшенных перегородчатой эмалью, киевские ремесленники достигли высот подлинного большого искусства. Ассортимент изделий, украшавшихся перегородчатой эмалью, был разнообразен: киевские эмальеры изготовляли колты, диадемы, цепи из полых бляшек, детали книжных переплётов и т.д. Освоение киевскими ремесленниками техники перегородчатой эмали произошло, по-видимому, в середине XI в. Развитие эмальерной техники в Киеве обеспечивалось собственным производством стеклянной массы. Наряду с драгоценной перегородчатой эмалью в киевских мастерских изготовлялись и более дешевые бронзовые изделия, украшенные выемчатой эмалью.
Широчайшее развитие в Киеве имело стекловарение. Киевские ремесленники в XI-XIII вв. изготовляли разнообразный ассортимент стеклянных изделий, в первую очередь браслеты, перстни и различную посуду. Необходимо подчеркнуть массовый характер этой продукции, широко распространявшейся в самых различных социальных прослойках древнерусских городов. В огромном количестве изготовлялось оконное стекло для каменных построек и мозаичная смальта различных цветов и оттенков.
Наиболее массовой продукцией были изделия киевских гончаров. Они изготовляли разнообразную глиняную посуду и некоторые бытовые предметы: горшки для варки пищи, рукомойники, кувшины, ковши, огромные сосуды для хранения зерна, амфоры-корчаги и небольшие корчажцы для вина, светильники, фонари. Наряду с простой глиняной посудой, служившей как для варки и хранения пищи, так и в качестве столовой посуды, киевские гончары изготовляли поливную и расписную посуду. Специализированной отраслью производства поливной керамики было изготовление яиц-писанок, имевших очень широкий сбыт, в том числе и за пределами Руси.
С конца Х в. в Киеве чрезвычайно широко развивается производство различных видов строительных материалов, в первую очередь кирпича – плинфы. В этом производстве наряду с приезжими мастерами (греками) уже с Х в. несомненно участвовали та. местные мастера. Кроме кирпича, киевские “плинфотворители” изготовляли черепицу и терракотовые плитки. Киевские гончары, связанные с производством строительных материалов, изготовляли также узкогорлые сосуды-голосники, применявшиеся в кладке сводов и куполов. [с. 540]
Несмотря на то, что в южнорусских городах дерево в качестве строительного материала имело несомненно меньшее значение, чем на севере Руси, деревянные постройки и здесь были очень многочисленны. О значении “древоделей” в Киеве достаточно свидетельствует грандиозный размах плотничьих работ, связанных со строительством оборонительных укреплений при Ярославе. Об участии “древоделей” в церковном строительстве свидетельствуют письменные источники (летописи, Сказание и Чтения о Борисе и Глебе). Ремесло, связанное с обработкой дерева, разумеется, не ограничивалось строительным делом. Разнообразные изделия из дерева были широко распространены в быту горожан. Только плохой сохранностью дерева в условиях киевской почвы объясняется незначительное количество деревянных изделий, находимых при раскопках.
Весьма широкое распространение имело в Киеве ремесло костерезов, изготовлявших гребни, уховертки, рукоятки ножей, пуговицы, стрелы и пр. В косторезных мастерских применялся набор различных инструментов. Несомненно, что киевские костерезы, как и столяры, пользовались токарным станком.
Ремесло по обработке камня уже в XI – XII вв. несомненно членилось на ряд самостоятельных специальностей. Огромный размах каменного строительства определял развитие специальности камнетесов и резчиков по камню. По-видимому, в самостоятельную группу рано выделились мастера, изготовлявшие каменные гробницы. Особой отраслью каменосечного дела было изготовление ручных жерновов. Широко были распространены специальности по изготовлению мелких каменных изделий: бус, крестиков, икон, литейных формочек и т.д.
Некоторые разновидности киевского ремесла засвидетельствованы только отдельными находками или случайными упоминаниями в письменных источниках. К их числу относится ремесло кожевников, ткачей и портняжное дело.
О высокой духовной культуре Киевской Руси свидетельствуют дошедшие до нас памятники “книжного строения” – роскошные рукописи, украшенные миниатюрами и заставками. Еще более выразительными свидетельствами этой культуры являются произведения станковой и монументальной живописи, созданные киевскими художниками.
Характерной чертой киевского ремесла во многих его разновидностях является непрерывный рост его технической зрелости, усовершенствование старых технических приемов, разработка и освоение новых.
Важнейшее значение имеет вопрос о роли различных форм ремесленного производства в историческом развитии крупнейшего города древней Руси, каковым был Киев в течение ряда столетий. Необходимо подчеркнуть, что изучение городского ремесла требует расчленения ремесленников на две, хотя и не вполне разобщенные, но все же резко отличные по своей социальной природе группы – ремесленников, входивших в состав княжеских, боярских или монастырских феодальных вотчин, и свободных городских ремесленников, составлявших основное население городского посада.
Вследствие того, что основные археологические работы в Киеве проводились до сих пор на территориях, связанных или с княжеским двором, или с мона[с. 541]стырскими дворами, вопросы вотчинного ремесла изучены более полно, чем в каком-либо другом городе древней Руси. Наоборот, в изучении ремесленников городского посада сделаны лишь первые шаги.
Труд ремесленников княжого двора несомненно был трудом подневольным, но рассматривать этот труд, следуя за А.С.Гущиным, как рабский, нет решительно никаких оснований. Подневольность эта выражалась в интересующую нас эпоху в формах феодальной зависимости, а отнюдь не в формах рабства.
Мастера, работавшие на княжом дворе, не ограничивали свою деятельность только удовлетворением потребностей самого княжеского хозяйства. В тех же мастерских, где выполнялись изысканные золотые изделия с перегородчатой эмалью, изготовляли и стеклянные браслеты, которые несомненно шли на городской рынок. Несомненно, для широкого городского рынка предназначались оловянные отливки, изготовлявшиеся в каменных “имитационных” формочках. Даже простая гончарная посуда, изготовлявшаяся в мастерских княжого двора, по-видимому, иногда шла на городской рынок.
Материалы для социальной характеристики свободного городского ремесла в Киеве пока весьма отрывочны и случайны. Наблюдения по вопросу о сбыте отдельных видов продукции свободных городских ремесленников позволяют предположить наличие достаточно широкого рынка, отнюдь не ограниченного территорией городского посада самого Киева. Замечательные изделия киевских ремесленников распространялись не только в городах и селах Киевского государства, но нередко попадали и далеко за пределы Руси, распространяя там славу русских “хитрецов” и “умельцев”.
8. Гибель Киева от нашествия монголов
Археологические
исследования с исключительной убедительностью и полнотой, недоступной ранее при
изучении одних письменных источников, позволили раскрыть основные этапы исторического
развития Киева, облик его высокой самобытной культуры. С поразительной и
неожиданной яркостью в результате раскопок последних десятилетий предстали
трагические страницы истории Киева, отобразившие героическую эпопею борьбы с
татаро-монгольскими полчищами, ворвавшимися в город в декабре
Под развалинами жилищ и мастерских почти повсюду сохранился многочисленный и разнообразный инвентарь, находившийся в них в момент катастрофы. Запасы зерна, муки, глиняная и деревянная посуда, нередко с остатками пищи, разнообразные бытовые предметы, в изобилии находимые в жилищах, открытых раскопками, свидетельствуют о том, что разрушение их про[с. 542]изошло в результате какой-то катастрофы, после которой постройки не восстанавливались.
Еще более характерной особенностью раскопанных в Киеве массовых жилищ-мастерских является обилие находимых в них и возле них разнообразных орудий ремесленного производства. Многочисленность этих находок может быть объяснима только тем, что владельцы этих предметов не только вынуждены были бросить их вместе со своими жилищами, но и не смогли вернуться на развалины своих жилищ за этими ценными для них вещами.
Многие из
найденных на этих пепелищах предметов позволяют уверенно отнести дату
катастрофы к середине XIII в. и связать ее с татаро-монгольским разгромом Киева
в декабре
Красочное и правдивое летописное повествование об осаде и штурме Киева татаро-монгольскими полчищами в сопоставлении с фактами, установленными раскопками, не оставляет сомнений в том, как далеки от истины были историки Киева, усматривавшие в повествовании о разгроме Киева не более чем литературный прием летописца, который “одевал свои известия в готовые шаблонные формы, мало заботясь о том, насколько они соответствовали действительности” (М.Грушевский). Эта антиисторическая трактовка событий нужна была М.Грушевскому, очевидно, для того, чтобы оправдать его глубоко ошибочный антиисторический вывод, согласно которому татарское завоевание было благоприятным для дальнейшего развития украинского народа фактором, способствовавшим созданию на Украине нового, своеобразного, в некотором смысле бесклассового общественного строя, который признанный лидер украинской буржуазно-националистической историографии называл “общинным”.
Многочисленные и весьма разнообразные памятники, открытые и исследованные в Киеве за последние десятилетия, убедительно свидетельствуют о том, какие огромные новые перспективы открывают археологические раскопки древнего Киева. Глубокое, всестороннее освещение вопросов древней истории Киева, изучение основных проблем истории культуры Киевской Руси в настоящее время немыслимо без широкого привлечения в качестве исторических источников разнообразных археологических памятников. Материалы, добытые археологическими раскопками позволили по-новому поставить, а отчасти и решить ряд важнейших вопросов древнейшей истории Киева.
Археологическое изучение Киева еще далеко не закончено. Можно с уверенностью сказать, что дальнейшие систематические исследования позволят осветить многие наиболее трудные, до сих пор не решенные вопросы истории-Киева – древнейшей столицы Русского государства. [с. 543]
Список сокращений
АА СССР- Академия архитектуры СССР.
АА УССР – Академия архитектуры УССР.
АИЗ – Археологические известия и заметки.
АК – Археологическая комиссия.
АЛЮР – Археологическая летопись южной России.
АН СССР – Академия наук СССР.
АРУ- Архітектура Радянської України.
АЮЗР – Акты юго-западной России.
ВАИ – Вестник археологии и истории.
ВДИ – Вестник древней истории.
ВИВ – Военно-исторический вестник.
Воскр. лет. – Летопись по Воскресенскому списку. ПСРЛ, VII.
ВУАК – Всеукраииский археологический комитет.
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры.
ГИИИ – Государственный институт истории искусств.
ГИМ – Государственный исторический музей.
ГРМ – Государственный Русский музей.
Густ. лет. – Густынская летопись. ПСРЛ, II.
ГЭ – Государственный Эрмитаж.
ДАН СССР – Доклады Академии наук СССР.
ДТМАО – Древности. Труды Московского археологического общества.
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения.
ЗАО – Записки Археологического общества.
ЗВО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества.
ЗІФВ УАН – Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук.
ЗОРСА – Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества.
ЗРАО – Записки Русского археологического общества.
ЗТОИДР – Записки и труды Общества истории и древностей российских.
ЗУНТК – Записки Українського наукового товариства в Києві
ИА АН УССР – Институт археологии Академии наук УССР.
ИАИ РАНИОН – Институт археологии и искусствознания Российской ассоциации научных институтов общественных наук.
ИАК – Известия Археологической комиссии. [с. 544]
ИАН СССР – Известия Академии наук СССР.
ИГАИМК – Известия Государственной академии истории материальной культуры.
ИЖ – Исторический журнал.
ИИМК – Институт истории материальной культуры Академии наук СССР.
ИОЛЕАЭ – Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
ИОНЛ – Историческое общество Нестора летописца.
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.
Ипат. лет. – Ипатьевская летопись. ПСРЛ, II.
ИРАИМК – Известия Российской академии истории материальной культуры.
ИРАО – Известия Русского археологического общества.
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии.
КДА – Киевская духовная академия.
КЕВ – Киевские епархиальные ведомости.
КИМ – Киевский государственный исторический музей.
КС – Киевская старина.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР.
Лавр. лет. – Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1897.
ЛГУ – Ленинградский государственный университет.
ЛОИИМК – Ленинградское отделение Института истории материальной культуры.
МАО – Московское археологическое общество.
MAP – Материалы по археологии России.
МГУ – Московский государственный университет.
МИА СССР – Материалы и исследования по археологии СССР.
HЗIIMK – Наукові записки Інституту історіі матеріальної культури Академії наук УРСР.
Ник. лет. – Летописный сборник, именуемый патриаршею или Никоновской летописью. ПСРЛ, тт. 9 – 13.
OAK – Отчеты Археологической комиссии.
ОЛДП – Общество любителей древней письменности.
ОРЯС – Отделение русского языка и словесности Академии наук СССР.
ПИДО – Проблемы истории докапиталистических обществ.
РАИМК – Российская академия истории материальной культуры (позже – ГАИМК).
РАО – Русское археологическое общество.
СА – Советская археология.
СЭ – Советская этнография.
ТГИМ – Труды Государственного исторического музея.
ТЗОИДР – Труды и записки Общества истории и древностей российских.
ТКДА – Труды Киевской духовной академии.
ТЛОИДР- Труды и летописи Общества истории и древностей российских.
ТМНО – Труды Московского нумизматического общества.
Тр…. АС – Труды І-XV археологических съездов.
ХАМ – Хроніка археології та мистецтва.
ЦГВИА – Центральный государственный военно-исторический архив. Москва.
ЦГИАЛ – Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора летописца.
ЧОИДР – Чтения в Московском обществе истории и древностей российских.
ЧЦАО при КДА – Чтения в Церковио-археологическом обществе при Киевской духовной академии. [с. 545]
Именной указатель
Каргер М.К.
А
Абегян М. X. – 66
Абрамович Д. И. – 476
Абу-Джафар аль-Мансур, халиф аббасидский – 210, 224
Авдусин Д. А. – 161, 162, 201, 214
Агапит, архимандрит печерский – 515
Агеев, домовладелец – 266
Адриан, император римский – 75, 77-79
Айналов Д. В. – 51, 53
Александр Македонский – 70
Александр Север, император римский – 79
Алексей Комнин, император византийский – 303
Алексей Михайлович, царь – 234, 517
Алеппский Павел – 25
Амин, халиф аббасидский – 122
Анастасий I, император византийский – 96
Андрей, апостол – 36, 66
Андрей Юрьевич Боголюбский, в. князь владимирский – 200, 278
Андриевский А. – 27
Анненков А. С. – 39, 40, 162, 163, 285, 504
Антоний Печерский – 16
Антонин Пий, император римский – 75, 77
Антонович В. Б. – 46, 47, 71, 73-76, 89, 92, 112, 121, 123-126, 154, 159, 164, 166, 189, 190, 211, 213, 216, 224, 227, 265, 266, 271, 452, 491, 505, 512, 514, 515, 519, 522
Арбман Х. – 204, 212, 215
Аристов Н. – 403, 409, 411, 412
Арне Т. – 138, 206, 208, 210, 211, 213, 215, 219, 220, 228, 448
Артамонов М. И. – 164, 203, 308, 448
Арциховский А. В. – 215, 407, 408. 448, 464
Асеев Ю. С. – 60, 61
Аскольд, князь киевский – 12, 18, 135, 280
Аттила – 69, 70
Ахилл – 26
Ахмед Ибн Исмаил, эмир саманидский – 176, 180, 205, 223, 224
Б
Багалей Д. И. – 390, 403
Багреев, домовладелец – 130, 156, 164, 225
де Бай И. – 92, 129, 208, 220
Байер Г.З. – 65, 67
Бакмейстер И. – 47
Балтин Аверкий – 238
Барсов Е. В. – 27, 116
Батый, (Бату), хан – 233, 491, 493, 507-509, 513, 516
Беляшевский Н. Ф. – 46, 73, 74, 117-121, 124, 125, 191, 193, 194, 350, 354, 355, 416, 446
Бередников Я. И. – 67
Березовец Д. Т. – 95, 368
Берлинский М. Ф. – 11, 30-33, 37-39, 50, 244, 250, 265, 271, 275
Бернштам А. Н. – 424
Бернякович К. В. – 368
Бибиков Д. Г., генерал-губернатор-41-43
Блифельд Д. И. – 174, 218, 229, 367
Блуд, воевода киевский – 12
Богар, славянское солнечное божество – 108
Богатинов И. Д. – 517
Богданов, архитектор – 246 [с. 546]
Богусевич В. А. – 60, 115, 254, 260, 348, 349, 361, 364-366, 371, 372, 404-406, 420, 537
Болсуновский К. В. – 74, 106-108, 155, 159, 448
Болтин И. М. – 64, 65
Болховитинов Евгений – 34-36, 38-40
Боняк, хан половецкий – 274
Боплан В., военный инженер – 25, 27, 234, 241
Борис Владимирович, князь, сын в. князя Владимира Святославича – 14
Борис Всеволодович, князь городенский – 233
Борис Юрьевич, князь, сын Юрия Долгорукого – 277
Борислав, боярин киевский – 282, 533
Борич, посол в. князя Игоря – 280, 532
Бороздин К. М. – 29, 30, 244
де Боскет Д., полковник – 243
Брайчевский М. Ю. – 95, 358
Бранденбург Н. Е. – 159, 218
Браун Ф. Г. – 71
Бродский Л. И., домовладелец – 125
Броссе М., академик – 119, 120
Брун Ф. К. – 68
Бурундай-богатур, полководец монгольский – 509
Брунов Н. И. – 108, 109, 251
Брячислав Изяславич, князь полоцкий – 276, 277, 532
Быков А. А. – 143, 146, 176, 180, 208
В
Валукинский Н. В. – 452
Варганов А. Д. – 115, 462
Василий I, император византийский – 125, 206, 225
Василий II, император византийский – 125, 225
Василько Ростиславич, князь теребовльский – 268
Василько Юрьевич, князь, сын Юрия Долгорукого – 277
Вельмин С. П. – 55, 56, 98, 101, 102, 143- 145, 147, 164, 174-176, 202, 203, 206, 222, 223
Веспасиан, император римский – 75
Вигфуссон Г. – 68-72
Владимир Андреевич, князь дорогобужский – 167
Владимир Василькович, князь волынский – 514, 515
Владимир Мономах, в. князь киевский – 274, 282, 378, 531
Владимир Мстиславич, князь дорогобужский – 276
Владимир Ольгердович, князь киевский – 515
Владимир Святославич, в. князь киевский – 12-14, 18, 20, 35, 43, 111, 134, 202, 264, 265, 267, 271, 274, 277, 278, 372, 454, 521, 523, 527, 531
Владимир Ярославич, князь новгородский – 281
Воеводский М. В. – 367, 415
Волков В. П. – 66
Волконский Ф. Ф., князь – 234, 235
Володимирко Володаревич, князь галицкий – 277, 532
Волошинский Я. – 44, 45, 127, 128
Волусиан, император римский – 74, 76, 79
Воронин Н. Н. – 251, 386, 448, 451
Воротислав, боярин киевский – 14, 19, 264, 280, 532, 533
Востоков А. – 33
Всеволод Ольгович, в. князь киевский – 268, 274, 282, 531, 533
Всеволод Яроелавич, в. князь киевский – 274, 275, 531, 532
Всеслав Брячиславич, князь полоцкий – 268, 2Г6, 277
Выговский Д. – 238
Вышата, воевода киевский – 281, 533
Вяземский П. А., поэт – 33
Вятко, легендарный родоначальник племени вятичей – 116
Вячеслав Владимирович, князь туровский – 233, 268, 269, 274, 532
Г
Гайдукевич В. Ф. – 462
Галларт, генерал – 242, 243
Галлиен, император римский – 74
Гальнбек И. А. – 392
Гампель И. – 172
Гамченко С. С. – 58, 132, 139, 147-150, 157, 177, 187, 213, 221, 449
Гваньини Александр – 23, 26, 491, 516
Гезе В. Е. – 169, 170, 224, 355, 378
Гейденштейн Рейнольд, секретарь королевский – 24, 25, 234, 491, 516
Гейдрек, король готский – 68
Гектор – 26
Герасимов М. М. – 88
Гербини Иоанн – 26 [с. 547]
Герберштейи Сигизмунд-23, 491, 516
Гизель Иннокентий, архимандрит – 26
Гиферик, король готский – 69
Глаголев А. – 246, 248
Глак Зеноб, историк армянский – 66
Глеб Владимирович, князь муромский – 14
Глеб (Улеб), тысяцкий киевский – 233, 282, 533
Голубев С. Т. – 48-50, 241
Голубева Л. А. – 130, 133-135, 222-224
Гончаров В. К. – 60, 97, 198, 349, 350, 357-359, 361, 364, 368, 408, 449, 496
Гордиан III, император римский – 76
Гордон Патрик, генерал – 239
Гордята, боярин киевский – 14, 19, 280, 532, 533
Городпов В. А. – 359, 360, 363, 473
Готье Ю. В. – 33
Грабовский – 492
Греков Б. Д., академик-6, 283, 372, 479, 492, 533
Грибоедов А. С. – 34
Григорий, дьякон – 477
Григорьев В. В. – 117, 122
Гримм Я. – 68
Грушевский М. С. – 58, 68, 276, 277, 491-493, 509, 512, 542
Гущин А. С. – 212, 376, 385, 394, 481, 541
Д
Давид, архимандрит печерский – 515
Давид Игоревич, князь владимиро-волынский – 268, 281
Дажьбог – 108
Даль Л. – 50
Дандоло, дож – 502
Даниил Романович, князь галипко-волын-ский – 283, 379, 411, 508
Данилович В. Е. – 58, 74, 121, 125, 359
Дашкевич Н. П. – 67, 70, 71
Державин Г. Р. – 34
Державин Н. С. – 232
Депий Траян, император римский – 65, 74
Динпес Л. А. – 108, 112, 452
Дионисий, митрополит – 515
Дир, князь киевский – 12, 18, 135
Длугош Я., летописец польский – 66
Дмитр, тысяцкий киевский – 508, 509
Дмитрий Иванович Донской, в. князь московский – 516
Дмитриевская А. – 358
Добровольский Л. – 250, 253
Довженок В. И. – 357, 358, 366, 367, 407
Довнар-Запольский М. В. – 372
Догматырский, домовладелец – 77
Додина К. П. – 232
Долгорукий Н. М. – 35
Домициан, император римский – 75
Дубинин А. Ф. – 364
Е
Едигей, князь Ногайской орды – 493, 516
Екатерина II, императрица – 28
Еремеев, составитель плана Киева
Ермолаев А. И. – 29
Есикорский М., домовладелец – 194, 270
Ефименко П. П. – 158, 204, 260, 367, 405, 495
Ефимов, архитектор – 38, 41
Ж
Жук Б. Б. – 446
З
Забава Путятишна, былинная – 282
Забелин И. Е. – 271, 278
Забелло С. – 232
Завитневич В. 3. – 213
Закревский Н. – 48-50, 247, 250, 271-273, 276, 378
Зарембский, домовладелец – 130
Захарченко А. – 135
Звенигородский А. В. – 266
Зивал, домовладелец – 130, 156, 164, 225
Зноско-Боровский Е. А. – 101
И
Иаков, єпископ владимирский – 516
Иван Войтишич, боярин киевский – 233, 282
Иванишев Н. Д. – 43, 44, 124
Иванов, художник-рисовальщик – 29
Игорь, в. князь киевский – 12, 18, 38, 112, 280, 532
Игорь Ольгович, князь черниговский – 233, 265, 268, 274, 276, 278, 282, 532
Изяслав Мстиславич, в. князь киевский – 233, 268, 269, 274, 276-278, 378, 532
Изяслав Ярославич, в. князь киевский – 14, 18, 267-269, 274, 468, 531
Иконников В. С. – 71, 89, 92, 239
Иларион, митрополит киевский – 16, 17, 21, 22, 98, 231, 274
Иловайский Д. И. – 63, 272, 531
Ильинский Г. – 65
Иннокентий IV, папа римский – 513
Иоанн І Цимисхий, император византийский – 124
Ионе Г. И. – 462 [с. 548]
Иордан – 69
Исмаил ибн Ахмед, эмир саманидский – 143, 146, 171, 180, 222-224
Истахри, географ арабский – 123
К
Кальнофойский Афанасий – 26, 241, 515
Канишка, царь кушанский – 79
Карамзин Н. М. – 33, 62, 65, 515
Каргер М. К. – 40, 57, 59-61, 73, 80, 83, 85, 86, 96, 103, 104, 132, 133, 153, 154, 182, 187, 201, 229, 250, 271, 298-316, 320- 348, 361, 363, 374, 378, 380, 383, 387, 388, 393, 416, 417, 420, 426, 456, 462, 468, 473, 474, 498, 500-504, 511
Кене Б. В. – 73
Кеппен П. Н. – 32
Кибальчич Т. В. – 46, 80, 129, 155, 161, 167
Кий, легендарный князь – 14, 63-65
Киприан, митрополит – 516
Кирик, дьякон новгородский – 408
Кирилл, митрополит – 516
Кисель Адам, воевода – 235
Климович, домовладелец – 266
Книве, король готский – 65
Козловская В. – 58, 187, 200, 293, 367, 374, 417, 421, 444, 452
Колчин Б. А. – 373-375, 538
Коммод, император римский – 73, 75, 77, 79
Кондаков Н. П., академик – 51, 53, 54, 271, 376, 398, 401, 403, 416, 418, 470
Констант, император римский – 79
Константин, сын императора византийского Василия I – 125, 206, 225
Константин, сын императора византийского Романа І – 210, 226
Константин VII Багрянородный, император византийский – 125, 155, 161, 210, 226
Константин VIII, император византийский – 125, 225
Константин Великий, император – 74-76
Константин Острожский, князь – 517
Констанций II, император римский- 74, 76
Копылов Ф. В. – 208
Корзухина Г. Ф. – 80-82, 92, 93, 194, 205, 212, 219, 226, 227, 286, 316-320, 376, 377, 381, 386, 388, 390-392, 394, 400, 402, 486
Корнелия Сапонина, жена императора римского Галлиена – 75
Королев, домовладелец – 41, 273
Коснячко, воевода киевский – 267, 281, 533
Коссов Сильвестр, митрополит киевский – 236, 237, 517
Косцюшко-Валюжинич К. К. – 347
Котляревский А. А. – 123, 157, 166, 167, 490
Котян, хан половецкий – 507
Крачковская В. А. – 427
Кресальный Н. О. – 60, 61
Кривцов Я., домовладелец-130, 134, 150, 151, 163, 221, 266, 378, 403, 410, 418, 449, 452, 505
Кропоткин В. В. – 73, 408
Куар, легендарный основатель Киева – 66
Кулаковский Ю. – 71
Куник А. А. – 68
Куракин Ф. С., воевода московский – 234, 235, 248, 517
Л
Лавровский П. А. – 488
Ламм – 410
Ласковский Ф. – 232, 239, 240, 243
Лашкарев П. А. – 51
Лебединцев П. Г. – 46, 51, 157, 166, 167, 243, 247, 251, 252, 517, 528
Лев VI, император византийский – 198, 225
Левин, владелец завода – 154, 191
Левицкий О. И. – 42, 44
Лейбович Л. И. – 264
Леопардов Н. А. – 75, 76, 92
Линка-Геппенер Н. В. – 212
Лихачев Д. С. – 15, 16, 21, 66, 116, 27S
Ломоносов М. В. – 63
Лохвицкий К. А. – 35-39, 41, 43, 50, 198, 200, 285, 378
Лурье, владелец завода – 154, 191
Лутковский – 232
Лыбедь, сестра легендарного князя Кия – 64, 65
Львов Никита – 239
Люций Вер, император римский – 78
Люцилла, жена римского императора Люция Вера – 75
Лявданский А. Н. – 423, 451
Ляпушкин И. И. – 212, 360, 367, 368, 495
Ляскоронский В. Г. – 57, 73-79, 89, 90, 241, 425, 504, 519, 520
Ляссота Эрих – 23, 24, 233, 491, 516
Лященко А. И. – 65
М
Магура С. – 58, 59, 86, 113, 294, 393
Магурин, домовладелец – 74, 77
Мазепа, гетман – 27, 116, 239
Макаренко Н. Е. – 367, 446
Макарий, патриарх антиохийский – 25 [с. 549]
Максим, митрополит – 516
Максимин II Даза, император римский – 74
Максимович М. А. – 39, 44, 47-50, 231, 248, 250, 265, 270, 487, 490
Максютин П. С., архитектор – 29, 270
Малеин А. И. – 513
Мансур ибн Нух, эмир саманвдский – 205, 208, 223
аль Мансур, халиф аббасидский – 118
Мансуров А. А. – 363, 371, 473, 537
Марк Аврелий, император римский – 75, 77
Маркович Яков – 243
Марков А. К. -117, 119-121, 225
Маркс К. – 5, 479, 514
Марр, владелец завода – 112, 121, 128, 154, 164, 190, 210, 211, 224
Марр Н. Я., академик – 66
Махно Е. В. – 80.
Меленский А. И. – 244
Меллер Иван – 244
Мельник Е. Н. – 212, 213
Менгу, хан – 118, 507-509
Ментей, легендарный основатель Киева – 66
Меншиков А. Д. – 239
Мерван II, халиф омейядский – 119, 120
Микыфор Кыянин – см. Никифор Кыянин
Милеев Д. В. – 53-58, 79, 80, 83, 98, 100- 103, 131,-132, 138-147, 163, 164, 172-174, 189, 202, 205, 222-224, 292, 293, 352, 413, 505, 506
Миллер В. – 282
Миллер Г. Ф. – 65, 67
Миних, граф – 240
Миславский Самуил, митрополит – 28
Михаил Всеволодович, князь киевский – 276, 508, 514, 532
Мишуков Ф. Я. – 392
Моисей киянин, писец – 477
Молчановский Ф. М. – 132, 182, 220, 357, 449, 496
Монгайт А. Л. – 363, 408, 451
Монтелиус О. – 219
Моргилевский И. В. – 60
Москаленко А. Н. – 367
Мстислав Владимирович, в. князь киевский – 276, 532
Мстислав Владимирович, князь черниговский и тмутороканский – 19
Мстислав Глебович, князь черниговский – 507
Мурзакевич Н. Н. – 39
Мясоедов В. К. – 51
Наср ибн Ахмед, эмир саманидский,- 121, 171, 180, 224
Неклюдов М. К. – 451
Некрасов А. И. – 411
Немиров А., дьяк – 234, 235
Нерман Б. – 219
Нестор, летописец – 15, 17, 22, 66, 374, 489
Нидерле Л. – 108, 286
Никифор Кыянин, боярин киевский – 14, 19, 264, 280, 532, 533
Никифор, митрополит киевский – 125
Никифор Фока, император византийский – 125
Николаев В. Н., архитектор – 47, 189, 190
Николай I, император – 34, 43
Никон Печерский, летописец – 11, 17, 19-22
О
Оборин В. В. – 216
Оглоблин Н. Н. – 247
Одоевский В. Ф. – 34
Октавиан-Август, император римский – 73
Окунев Н. А. – 51
Олег, в. князь киевский – 12, 18, 112
Олег Святославич, князь древлянский – 18, 21, 22
Олизар, граф – 42
Олма, киевлянин – 12, 18, 280
Ольга, княгиня – 14, 18, 19, 263-265, 271
Ольгерд Гедиминович, в. князь литовский – 515
Орлов Б. А. – 504
Остромир, посадник – 477
П
Палей Иван, ученик киевского городового архитектора – 244
Пальм Ф. – 108
Пантелеев М. Н. – 77
Пастернак Я. – 251, 362, 409, 448
Перовский, граф – 45
Перун, славянское божество – 112, 450
Петр I, император – 116, 117, 239-242, 517
Петров Н. И. – 48-50, 71, 92, 241, 243, 266, 271, 273, 274, 277, 278
Петровский М. М. – 52-54, 98, 100, 102-104, 131, 157, 162, 285, 286, 288-292, 329, 351, 372, 383, 389, 390, 398, 403, 404, 410, 470, 482, 492, 533
Писарев А. – 275
Писарев С. П. – 451
Пискарев А. – 73
Плано Карпини Иоанн – 513 [с. 550]
Погодин А. – 7
Погодин М. П. – 30, 35, 232, 488-490
Покрышкин П. П. – 57, 88
Полевой П. – 135, 136
Поленов Д. В. – 30
Полонская Н. Д. – 356, 466
Порфиридов Н. Г. – 232
Прахов А. В. – 270
Пресняков А. Е. – 226
Приам – 26
Приселков М. Д. – 15-17, 19-21, 410
Прокопий, император римский – 74
Прохоров В. – 50, 271
Путята Вышатич, тысяцкий киевский – 281, 533
Путятин Путятович, былинный – 282
Пушкин А. С. – 33, 513, 514
Пыпин А. Н. – 68, 490
Р
Равдоникас В. И. – 205
Радим, легендарный родоначальник племени радимичей – 116
Радьслав, боярин киевский – 282, 533
Райнегс И. – 65
Раппопорт П. А. – 60, 254-260, 378
Ратич А. А. – 361, 362
Ратия Ш. Е. – 232
Ратыпа, тиун киевский – 282, 533
Редедя, косожский князь – 19
Редин Е. К. – 51
Ржига В. Ф. – 277, 278, 416, 424, 427
Риккерт, владелец завода – 12, 208, 217
Рогнеда, жена князя киевского Владимира Святославича – 14, 19
Рогович А. – 164, 190
Роженепкий С. – 72
Роман I, император византийский – 125, 210, 226
Роман II, император византийский – 125
Роман Мстиславич, князь галицкий – 233
Романович-Славитинский А. В. – 42, 43
Ростислав Мстиславич, в. князь киевский – 233, 269, 276, 508
Ротмистрова Н. Г. – 77, 78
Роте В. – 125, 210
Румянцев Н. П., граф – 31, 33, 35
Рыбаков Б. А. – 81, 82, 93, 94, 158, 160, 203, 204, 212-215, 228, 230, 368, 371, 376, 378, 379, 381, 383-385, 392-397, 399, 402, 406, 407, 409, 412, 414, 418, 421, 422, 424, 448, 452, 454, 455, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 482-487, 537
Рюрик, легендарный князь новгородский – 116
Рюрик Ростиславич, князь черниговский, позднее в. князь киевский – 233, 270, 272
С
Сабина, жена императора римского Адриана – 75
Савельев П. С. – 117-119, 123
Самойловский И. М. – 73, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 254, 414
Самоквасов Д. Я. – 161, 203, 213, 215, 227, 407
Сарницкий Станислав – 26
Световид, славянское солнечное божество – 107, 108
Святополк Владимирович (“Окаянный”), князь – 18
Святополк Изяславич, в. князь киевский – 17, 89, 268, 281, 282, 294, 444
Святослав Всеволодович, в. князь киевский – 270-273, 531
Святослав (Святоша) Давыдович, князь городецкий – 281
Святослав Игоревич, в. князь киевский – 18, 20, 37, 112, 226
Святослав Ольгович, князь черниговский – 278
Святослав Ярославич, князь киевский – 274, 531
Святославский, домовладелец-88, 130, 156, 165
Себедей-богатур, полководец монгольский – 509
Сенковский О. – 67
Септимий Гета, император римский – 73
Серапион Владимирский – 488
Сизов В. Н. – 215, 218
Сикорский И. А. – 121, 122
Симеон, епископ переяславский – 507
Симеон Олелькович, князь киевский – 515
Симзен-Сычевский А. – 250
Симони П. К. – 402
Синеус, легендарный князь – 116
Скиргайло Ольгердович, князь киевский – 515, 516
Славин В. – 72
Слюсаревский, домовладелец – 58, 86, 100-102, 104
Смирнов Козьма, прапорщик – 243
Смишко М. Ю. – 361
Смоличев П. И. – 214, 215, 227
Соболевский А. И. – 71, 421, 514
Солнцев Ф. Г., академик – 42, 43 [с. 551]
Соловьева Г. Ф. – 408
Спицын А. А. – 88, 94, 138, 161, 205, 213, 215, 216, 218, 219, 286, 518
Срезневский И. И., академик – 278, 284, 488
Ставровский А. И. – 41-45, 285
Станкевич Я. В. – 162, 215, 218, 227
Старчук И. Д. – 352, 362, 363, 448
Стасов В. П. – 54
Стеллецкий И. – 72
Стефан, сын императора византийского Романа І – 210, 226
Страшкевич К. – 119, 120, 123
Строев Б. Н. – 32
Струков Д. М. – 242
Стрыйковский – 32, 64, 66
Т
Талицкий М. В. – 204
Тараканова С. А. – 215
Тарасий, епископ ростовский – 516
Татищев В. Н. – 28, 32, 64, 369
Темир-Кутлук, хан татарский – 515
Теофил, монах – 402
Терещенко Е. М. – 93
Тизенгаузен В. Г. – 118, 119, 121
Тимковский Ф. – 200
Титов Ф. И. – 47
Тихомиров М. Н., академик – 6, 279, 280, 282, 374, 424
Тихонович А. М. – 246, 251, 252, 528
Ткаченко Н. Н. – 246, 251, 252, 528
Товрул, татарин – 509
Толстой В. А. – 253
Траян, император римский – 75
Третьяков П. Н. – 97, 115, 116, 158, 204, 229, 367, 495
Трубецкой, домовладелец – 54, 55, 58, 128, 132, 134, 137, 144, 147-150, 157, 160, 167, 177, 187, 221, 266, 383, 391, 449
Трувор, легендарный князь – 116
Тудор, тиун вышгородский – 282
Тукы, боярин киевский – 280
Турчанинова А. – 33, 35, 285
У
Ушаков, подполковник – 241, 242
Ф
Фармаковский Б. В. – 54, 202
Фасмер Р. Р. – 122
Фаустина Младшая, жена императора римского Марка Аврелия – 73
Фаустина Старшая, жена императора римского Антонина Пия – 75
Федоровский А. – 360
Феодосии II, император римский – 65
Феодосии печерский – 17, 374
Феттих Н. – 174
Фехнер М. В. – 408
Филипп Араб, император римский – 74, 75
Филиппов А. В. – 466, 467
Фома, наместник митрополита киевского – 516
Фремерсдорф Ф. – 80
Френ X. – 117
Фундуклей И. – 48, 118, 119, 124, 250
Фурман, домовладелец – 169
Х
Хованский Петр, воевода киевский – 241, 242
Ханенко Б. Н. – 81, 172, 200, 241, 410
Ханенко В. И. – 81, 172, 200, 241, 410
Ханзен Г. – 219
Хвойка В. В. – 52-54, 56, 75, 79, 81-83, 104-112, 125, 130, 138, 155-157, 159, 162, 164, 187, 195, 200, 213, 225, 285-293, 323, 350, 351, 356, 357, 359, 370, 372, 389, 390, 394, 398, 403, 409, 410, 446, 448, 449, 452, 455, 464-466, 470, 472, 480, 493, 504-506, 521, 522, 525, 533, 534, 536
Хереан, легендарный основатель Киева – 66
Хмельницкий Богдан – 337
Хойновский И. А. – 46, 82, 92-94, 130, 132, 150, 159, 163, 167, 168, 221, 285, 378, 403, 409. 410, 418, 450, 452, 505
Холостенко Н. В. – 61
Хорив, легендарный основатель Киева – 63-66
Хряков, владелец завода – 189
Целларий Андрей – 26
Черкаский М., князь – 239, 248, 250
Чернышевский Н. Г. – 514
Чудин Микула, боярин – 14, 19, 280, 532, 533
Чудновский Д. Н. – 121
Шайноха – 492
Шахматов А. А., академик-15-17, 19, 21, 264
Шевченко Т. Г. – 43
Шелковников Б. А. – 446, 447
Шереметев В. – 238-240
Шероцкий К. – 72, 173, 241, 262, 271
Шимановский В. – 353
Шлецер А. – 66, 67 [с. 552]
Шлиман Г. – 450
Шмигельский – 246
Шовкопляс А. М. – 453, 471
Шовкопляс И. Г. – 366, 405
Шувалов А. – 244
Щ
Щек, легендарный основатель Киева – 63-66
Щербатов М., князь – 64
Щербина В. – 33
Э
Эдинг Б. – 92
Энгельс Ф. – 5, 479
Эрманарик, король готский – 69-72, 90, 520
Эртель А. Д. – 450
Ю
Юзефович – 119
Юрий Владимирович (Долгорукий), князь суздальский, позднее в. князь киевский – 88, 268, 269, 277, 532
Юстиниан I, император византийский – 96
Я
Якобсон А. Л. – 423, 462
Якубовский А. Ю. – 492
Ян Вышатич, воевода киевский – 281
Янин В. Л. – 474
Ярила, славянское солнечное божество – 108
Ярополк Святославич, в. князь киевский – 12, 21, 267, 277
Ярослав Владимирович (Мудрый), в. князь киевский – 11, 16, 37, 232, 272-274, 281, 402, 484, 487, 528, 540
Ярослав Осмомысл, князь галицкий – 409
Яроцкий В. Я. – 213
Ячменев Н. И. – 132, 182, 220 [с. 553]
Географический указатель (общий)
А
Аль Аббасия, г. – 118, 119
Андераба, г. – 119, 121
Антиохия, г. – 74, 76
Аркона, г. – 108, 109
Б
Багдад, г. – 118, 119
Бакожинское городище – 423
Балх, г. – 119, 121
Белая Вежа (Саркел), городище – 203, 380, 407, 448, 454
Белгород, г. – 253, 274, 356, 410, 444, 448, 465, 466, 485, 532, 536
Белозерск, г. – 406, 468
Бердаа, г. – 119
Берестье, г. – 513
Бирка, могильник – 212, 215
Болгар, г. на Волге – 119, 123, 408, 487, 506, 509
Болгария Дунайская – 454
Борисполь, г. – 60
Боршевское городище – 158, 204, 215, 367, 495
Буки, с., городище – 449
Булгар – см. Болгар
Буромка озеро, городище – 367
Бухара, г. – 118
В
Васильков, г. – 43
Венгрия – 513, 514
Верхне-Салтовский могильник – 137
Верхняя Волга, могильники – 218
Вильно, г. – 23
Владимир-Волынский, г. – 466, 513
Владимир на Клязьме, г. – 510, 514
Владимиро-Суздальская земля – 451, 506
Владимиро-Суздальская земля, могильники – 218
Волынская земля – 513
Волынцево, с., городище – 368
Вщиж, г. – 160
Вышгород, г. – 14, 18, 28, 31, 33, 43, 60, 269, 277, 280, 313, 357, 358, 366, 393-395, 409, 410, 444, 448, 466, 468, 485
Г
Галич, г. – 283, 293, 361, 362, 407, 409, 448
Галицко-Волынская земля – 512, 513
Глухов, г. – 506
Гнездовский могильник под Смоленском – 161, 165, 201, 213, 215, 218, 228, 414, 446, 523
Гнезно, г. – 448
Городница, с., Станиславская обл., городище – 361
Городск, городище – 358, 364
Готланд, остров – 448
Гочевское городище – 158, 212
Григоровка, с.. Киевская обл. – 381
Гродно, г. – 386, 448
Д
“Девичь-гора”, городище у с. Сахновки – 355, 378, 394
Донецкое городище – 359, 360
Дрогичин, г. – 407
Ж
Житомирский могильник – 213
З
Запасека, селище – 368
Заречьск, г. – 281
Зарубский монастырь – 60
Золотая орда – 513 [с. 554]
И
Игорево сельцо – 278
Искоростень, г. – 18, 364
Искоростеньский могильник – 213
Истахр, г. – 122
К
Кальдус, с. в Поморье – 448
Канев, г. – 444
Киев, г. – см. отдельный указатель
Княжа гора, городище – 97, 219, 313, 350, 354, 355, 378, 380, 386, 393, 394, 446, 485, 486, 536
Ковшаровское городище – 423
Козельск, г. – 512
Колодяжин, городище – 358, 408, 495
Кононча, с., городище – 356, 536
Константинополь (Царьград), г. – 16, 281, 402, 410, 533
Коростень, г. – 358
Корсунь, г. – 13, 18, 20, 347, 403, 454, 462, 487
Коршив, с., Волынская обл., городище – 361
Корчеватовский могильник – 87, 519
Кострома, г. – 408
Курган, с., городище – 367
Куфа, г. – 121, 210, 224
Л
Липлява, с., городище – 444
Литва – 514
Лука Райковецкая, селище – 368
Лучьск (Луцк), г. – 281
Любеч, г. – 12, 360, 361, 449
М
Мадара, с. (Болгария) – 462
Мангуп, г. – 487
Марьина гора, городище – 355
Max аль-Куфа (Хамадан), г. – 118, 119
Мерв, г. – 119, 121, 180, 224
Метрополь, г. – 71
Мингечаур – 462
Минск, г. – 281
Михайловский могильник, близ Ярославля – 162, 221
Монастырище, городище – 367
Москва, г. – 26, 516
Муром, г. – 26, 516
аль-Мухаммедия, г. – 118
Н
Нисабур, г. – 121, 122
Ницаха, с., Харьковская обл., городище – 360
Новгород, г. – 12, 26, 215, 232, 374, 392, 407, 408, 414, 448, 451, 464, 468, 469, 494, 495, 513
Новотроицкое городище – 212, 367
О
Овруч, г. – 18, 21, 22, 43
Опошнянское городище – 367, 495
Очаков, городище у д. Набутово – 378
П
Пастерское городище – 92, 97
Пенджхир, г. – 121
Пересопницкий могильник – 212
Переяславль Залесский, г. – 516
Переяславль Русский (ныне Переяслав Хмельницкий), г. – 274, 275, 361, 374, 380, 410, 506, 507, 512, 532
Песочный ров, с., городище – 367
Петровское, с., городище – 204, 367
Печора – 26
Плеснеск, городище – 293, 352, 362, 363, 448
Полоцк, г. – 464
Полтава, г. – 360
Польша – 513, 514
Прикамье – 526
Псков, г. – 18, 215, 232, 494
Путивль, г. – 278
Р
Райковецкое городище – 357, 364, 386, 394, 449, 469, 470, 485, 495
Речицкий могильник – 213
Рязанская земля – 507
С
Сабур, г. – 122
Самарканд, г. – 119, 121, 122, 146, 171, 180, 224
Саркел, г. – см. Белая Вежа
Святополчь, г. -355, 536
Седнев, могильник – 161, 213
Сигтуна, г. – 448
Сирия – 403
Скандинавия – 526
Смоленск, г. – 12, 26, 115, 133, 414
Смоленск, могильник – см. Гнездовский могильник
Снепород, городище – 378
Старая Ладога, городище – 12, 406, 407, 468, 494, 495
Старая Рязань, городище-363, 364, 371, 407, 408, 423, 448
Суздаль, г. – 115, 364, 392, 492
Суздальская земля – 509
Т
Табаристан – 123
Тверь, г. – 115
Тиверцев города (на Днестре) – 18
Тимеревский могильник (близ Ярославля) – 162
Тмуторокань, г. – 18-21, 406
Тупга, г. – 122
Толсте, с. (близ Скалата), городище – 448
Треполь, г. (ныне с. Триполье) – 75, "126
Троя, г. – 26, 450
Туркестан – 123 [с. 555]
У
Ужгород, г. – 367, 368
Ф
Фарс – 120
Х
Херсонес – см. Корсунь
Холм, г. – 378, 411
Ц
Царьград – см. Константинополь
Ч
Чернигов, г. – 26, 115, 361, 414, 507, 512
Черниговский могильник – 115, 133, 165, 201, 203, 204, 213-215, 221, 226-229, 406, 407, 414, 523, 525
Чехия – 513
Чигирин, г. – 239, 248, 250
Ш
Шаргород, городище – 356, 536
аш-Шаш, г. – 119, 121, 122, 171, 176, 202, 223, 224
Шестовицкий могильник – 194, 213-215, 219, 221, 227, 228, 415
Ю
Южное Приладожье, могильники – 218
Географический указатель (Киев)
Каргер М.К.
Древние урочища и районы города
Андреевская гора – 37, 86, 98, 102, 104, 105, 111, 162, 414, 519, 527
Аскольдова могила – 11, 18, 118, 280
Бабин торжок – 265, 268, 276
Батыева гора (могила) – 45, 87, 128
Берестово, село – 19, 273, 274, 370
Боричев взвоз – 14, 19, 218, 264, 280, 532
Верхний (Старый) город – 23-25, 28, 32, 39, 52, 76, 77, 88, 90, 93, 94, 120, 135, 172, 231, 240-243, 248, 250, 252, 264, 267, 271, 281, 282, 366, 452, 491, 506, 515-517, 519, 536
Верхняя Юрковица-129, 135, 154, 155, 191, 216, 523
Выдубицкий холм – 275, 532
Глубочица, ручей – 74-76, 79, 112, 129
Гончары, урочище – 270, 414, 529
Город Владимира – 90, 100, 134, 135, 162, 218, 221, 241, 242, 247, 267, 270, 271, 281, 282, 349, 370, 414, 482, 498, 504, 509, 510, 517, 521, 527, 529, 531
Город Ярослава – 89, 90, 124, 135, 221, 231, 232, 235, 236, 238, 241, 242, 246-262, 267, 270, 275, 281, 282, 370, 450, 498, 509, 517, 523, 528, 529, 533
Городище на Андреевской горе – 54, 55, 57,62,98-112, 115, 134, 135, 250, 251, 519, 521, 527
Городище над Иорданской церковью – 90, 91, 112, 115, 135, 521-523
Городище на Киселевке – 90, 91, 112-115, 522
Детинка, гора – 58, 293, 352, 374, 444
Дирова могила – 11, 12, 18, 37, 135, 523
Дорогожичи – 12, 135, 524
“Жидове” – 89
Иорданское кладбище – 155
Киянка, ручей – 112
Киселевка (Флорова гора) – 25, 58-60, 79, 86, 91, 96, 113-115, 122, 125, 234, 235, 294, 348, 349, 365, 380, 384, 414, 417, 452, 453, 471, 482, 519, 521, 522
Кожемяки, урочище – 102, 124, 294, 370, 474, 529
Козаре, урочище – 13, 18
Козье болото – 248
Копырев конец – 233, 370
Крещатицкая долина (овраг) – 40, 162, 242, 247, 252, 255, 509, 529
Крещатицкий базар – 248
Кудрявец – 246, 378
Лукьяновка – 79, 80, 128, 246, 418, 444
Лыбедь, река – 14, 28, 90, 128, 247, 254, 529
Могильник на Андреевской горе – 103, 130-134, 138-154, 162-188, 195-200, 205-208
Могильник на Кирилловской ул. – 112, 129, 135, 154-156, 162, 164, 165, 189-194, 208-211, 523
Оболонь (“Болонье”) – 74
Олегова могила – 12, 18
“Пасынча беседа”, урочище – 13, 18
Перевесище – 248, 264
Перунов холм – 13, 265, 266
Песочный городок – 507
Печерск – 27, 32, 71, 76, 88, 90, 91, 116-118, 124, 240, 242, 370, 517, 519
Печерская часть Ярославова города – 242, 248, 250
Плоская часть – 74, 128, 154
Подол – 13, 23, 25, 28, 32, 60, 71, 74-76, 88-91, 120, 121, 217, 231, 233, 240-242, 265, 348, 365, 366, 370, 444, 452, 505, 506, 516, 518, 519, 529, 533
“Поле вне града” – 14, 89, 135, 221, 523
Предславино сельцо – 14, 19
Ручей (“Ручай”) – 13
Софийская слобода – 236, 517 [с. 556]
Теремец у Киева (хутор Теремки на Васильковокой дороге) – 277, 532
Торговище – 267
Труханов остров – 277
Угорское – 11, 12, 19, 233, 279, 532
Хоревица, гора – 112
Церковщина, урочище под Киевом – 450
Щековица, гора – 12, 93, 94, 115
Оборонительные сооружения
Верхнего (Старого) города – 28, 54, 55, 60, 98-103, 233-262, 517, 528-530;
Батыевы (Софийские) ворота – 242, 247, 498, 510, 527, 529;
Жидовские (Львовские) ворота – 89, 90, 233, 242, 282, 519, 528, 529, 533;
Золотые ворота – 58, 90, 232, 233, 238, 242, 247, 248, 250, 252-254, 256, 275, 282, 425, 487, 528, 529, 533;
Киевские ворота – 242;
Лядские (Печерские) ворота – 90, 233, 242, 248, 252, 262, 275, 509, 528, 529;
Михайловские ворота – 242, 252
Киселевка – 25, 235, 236, 517, 522, 528
Печерска – 242-244, 547;
Угорские ворота – 275
Подола – 13, 18, 28, 233, 235, 243, 282;
Подольские ворота – 233
Дворы княжеские
Берестовский – 273, 274, 282, 529
Брячиславль – 275, 281, 532
Васильков – 277
Княж “в городе” – 14, 19, 52, 53, 55, 56, 103, 145, 147, 263-268, 271, 281, 383, 530
Красный на Выдубицком холме – 275, 532
Красный (Юрия Долгорукого) – 277, 532
Мстиславль – 268, 278, 350, 480, 532
Новый – 270, 272, 273, 529
на Острове – 276, 532
“Рай” (Юрия Долгорукого) – 277, 532
Теремной “вне града” – 14, 19, 264-267
Угорский – 269, 274, 275, 532
Ярославов Великий – 268-273, 276, 278, 280, 281, 531
Дворы боярские
Бориславль – 233, 282, 533
Варяга – 19
Воротиславль – 14, 19, 264, 265, 277, 280, 532
Глебов – 282, 533
Гордятин – 14, 19, 264
Коснячков – 281, 532
Никифоров – 14, 19, 264, 265, 280, 532, 533
Олмин – 12, 18, 19, 279, 532
Путятин – 89, 281, 282, 533
Радьславль – 233, 282, 533
Ратьшин – 282, 533
Чудин – 14, 19, 264, 265, 280, 532, 533
Дворы прочие
Деместиков – 14, 19, 264
Лихачев попов – 233, 282
Митрополичий – 483, 484
Монастыри
Андреевский (Янчин) – 130
Выдубицкий (Всеволож) – 28, 50, 60, 79, 275, 492, 519
Георгия – 232, 484, 487
Дмитриевский (Изяславль) – 40, 41
Кирилловский – 50, 61, 135, 272, 523
Михайловской Златоверхий – 24, 28, 29, 35, 40, 50, 79, 236, 241, 248, 250, 252, 492, 516, 528, 529
Печерский – 11, 16, 17, 28, 30, 35, 50, 60, 190, 234, 239-241, 491, 492, 515, 519
Пустынно-Никольский – 274
Софийский – 235, 236
Федоровский (Вотч) – 42, 273, 276, 350
Церкви
Андреевская – 36, 47, 265, 266
Апостолов в Берестове – 273, 274
Благовещения на Золотых воротах – 232, 233
Богородицы (Десятинная) – 13, 14, 19-22, 25, 27, 30, 35, 36, 39-41, 43, 56, 100, 103, 133, 161, 172, 174, 182, 202, 203, 207, 221, 223, 224, 236, 264, 265, 271, 336, 390, 391, 410, 417, 469, 491, 498, 500-504, 509, 510, 511, 527
Василия, деревянная – 25, 29, 41, 50, 265, 531
Василия на Новом дворе – 270, 272
Василия (Трехсвятительская) на Ярославо-вом Великом дворе – 40, 252, 265, 266, 270, 271, 273, 278 [с. 557]
Десятинная – см. ц. Богородицы
Екатерины – 24
Ильи – 13, 18, 38
Иоанна Предтечи в Печерском монастыре – 50
Иорданская – 112, 123, 129, 154, 189, 190, 217, 522
Ирины – 11, 12, 18, 37, 43, 56, 135, 232, 523
Крестовоздвиженская – 36, 121
Николы на Аскольдовой могиле – 12, 18, 280
Петра в Михайловском Златоверхом монастыре – 41
Руины в усадьбе Киевского художественного института – 426
Руины в усадьбе Митрополичьего дома – 54, 56, 79
Руины над Иорданским ручьем – 38
Софии собор – 11, 14, 24, 25, 28-31, 35, 50, 51, 58, 60, 135, 232, 248, 268-270, 380, 392, 414, 420, 449, 458, 464, 491, 492, 512, 516
Спаса на Брестове – 30, 50, 57, 88
Трехсвятительская – см. Василия ц. на Ярославовом Великом дворе
Турова божница – 282, 533
Успения на Подоле – 50
Успенский собор Печерской лавры – 47, 50, 405, 410, 515, 516
Улицы, переулки, площади
Александровская ул. (ныне ул. Кирова) – 73
Андреевский спуск – 100, 280, 298
Б. Дорогожицкая ул. – 161, 226
Б. Житомирская ул. – 41, 80, 134, 185, 187, 200, 218, 221, 247, 349, 374, 498, 510, 527, 529
Б. Подвальная или Ярославов вал (ныне ул. Ворошилова) – 247, 253
Баггаутовская ул. на Лукьяновке (ныне ул. 9 января) – 80
Бессарабская пл. – 125
Богословский пер. – 129
Боричев ток – 280
Владимирская горка – 79, 252, 529
Владимирская ул. – 41, 80, 134, 139, 167, 198, 218, 247, 252, 265, 266, 505, 527, 529
Воздвиженская ул. – 75
Ворошилова ул. – см. Б. Подвальная или Ярославов вал
Георгиевский пер. – 54
Героев Перекопа пл. (бывш. Софийская пл.) – 120
Десятинный пер. – 102
Екатерининская ул. (ныне ул. Р. Люксембург) – 125
Елисаветинская ул. (ныне Пушкинская ул.) – 135, 136
Жертв революции ул. – см. Трехсвятительская ул.
Иорданский пер. – 129
Калинина пл. (бывш. Крещатицкая пл.) – 248, 250, 252, 255, 527
Караваевская ул. (ныне ул. Льва Толстого) – 79, 80
Кецховели Ладо ул. (ныне ул. Чкалова) – 253
Кирилловская ул. (ныне ул. Фрунзе) – 112, 129, 130, 135, 140, 154-157, 162, 164, 165, 189, 213, 226, 452, 505, 523, 526
Костельная ул. (ныне ул. Челюскинцев) – 252, 529
Крутая гора – 129
Ленина ул. (бывш. Фундуклеевская) – 135
Львовская пл. (бывш. Сенная пл. и базар) – 88, 89, 247, 529
М. Владимирская ул. (ныне ул. Чкалова) – 125, 135, 172, 198, 214, 222, 223, 254, 523
М. Житомирская ул. – 92, 94
М. Подвальная ул. – 252, 255, 529
Михайловская пл. (ныне Правительственная пл.) – 252
Михайловский пер. – 252, 529
Некрасовская ул. – 77, 78
Овручская ул. на Лукьяновке – 79
Прорезная ул. (ныне ул. Свердлова) – 135, 136
Пушкинская ул. – см. Елисаветинская ул.
Рейтарская ул. – 135, 172, 198, 214, 222, 223, 523
Сенная пл. и базар – см. Львовская пл.
Софийская ул. (ныне ул. Калинина) – 248
Толстого Льва ул. – см. Караваевская ул.
Трехсвятительская ул. (ул. Жертв революции, ныне – Героев революции) – 151, 320, 504, 505
Франка ул. (бывш. Нестеровская ул.) – 254
Фрунзе ул. – см. Кирилловская ул.
Фундуклеевская ул. – см. ул. Ленина
Хорева ул. на Подоле – 378
Царский сад (ныне Парк Ватутина) – 73
Чкалова ул. – см. М. Владимирская ул.
Ярославов вал – см. Б. Подвальная ул. [с. 558]
Усадьбы — места раскопок и отдельных находок
Агеева, Трехсвятительская ул. – 266
Багреева, Кирилловская ул., д. 61 – 130, 156, 164, 225
Беляшевского Н. Ф., М. Владимирская ул. – 125
Б. Житомирская ул., д. 4 – 134, 185, 221, 226, 328-340, 352, 391, 416, 510
Бродского Л. И., Екатерининская ул., д. 9 – 125
Владимирская ул., д. 7/9 – 198, 349, 350
Десятинной церкви (ныне Киевского исторического музея) – 55, 56, 78, 83, 86, 100,102,139-147,159, 160, 164,172-174, 182, 189, 200, 201, 204, 205, 292, 378, 383, 393
Догматырского, Сенная пл. – 77
Есикорского М., Троицкий (Рыльский) пер. – 194, 270
Зарембских, Кирилловская ул., д. 71 – 130
Зивала, Кирилловская ул., д. 59-130, 156, 164, 225
Иванипіева Н. Д., Подол – 124
Кибальчича Т. В., Б. Дорогожицкая ул. – 155, 161
Киевского исторического музея, Владимирская ул., д. 2-104, 154, 340-348, 352, 387, 390, 416, 449
Кирпичного завода – 76
Климовича, Владимирская ул. – 266
Королева, Владимирская ул. – 41, 273
Крестьянского банка (ныне Киевского телеграфа, Владимирская ул., д. 10) – 55, 102, 139, 143, 144
Кривцова, Трехсвятительская ул. (ул. Жертв революции) – 130, 134, 150, 151, 163, 221, 266, 378, 403, 410, 418, 450, 452, 505
Лурье и Левина, Верхняя Юрковица – 154, 191
Магурияа, Подол – 74, 77
Марра, Кирилловская ул. – 112, 121, 128, 154, 164, 190, 210, 211, 224
Михайловского Златоверхого монастыря – 59, 134, 162, 298-328, 352, 367, 370, 386, 391, 416, 420, 422, 483, 493-497
Некрасовская ул., д. 16 – 78
Орлова Б. А., Трехсвятительская ул. (ул. Жертв революции) – 504
Петровского М. М., Владимирская ул., д. 2 (ныне усадьба Киевского исторического музея) – 52-54, 98, 100, 102-104, 131, 157, 162, 285, 286, 288-292, 329, 351, 372, 383, 389, 390, 398, 403, 404, 410, 470, 482, 492, 533
Пивоваренного завода Риккерта, Кирилловская ул. – 12, 208, 217
Пивоваренного завода Хрякова, Кирилловская ул. – 189
Реального училища – 217
Святославского, Кирилловская ул., д. 81 – 88, 130, 156, 165
Сикорского И. А., Б. Подвальная ул., д. 15 – 121, 122
Слюсаревского, Десятинный пер., д. 4 – 59, 86, 100-102, 104
Софийского архитектурно-исторического заповедника (бывш. ус. Митрополичьего дома, Владимирская ул., д. 24)-54, 57, 60, 135, 157, 158, 166, 195, 198, 222, 227, 271, 292, 352, 420, 452, 504, 523
Старокиевской аптеки, Владимирская ул. – 41
Телевизионного центра, М. Подвальная ул., д. 13 – 255
Трубецкого, Владимирская ул., д. 1 – 54, 55, 58, 128, 132, 134, 137, 144, 147-150, 157, 160, 167, 177, 187, 221, 266, 383, 391, 449
Фурмана, уг. Рейтарской и М. Владимирской ул., ныне ул. Чкалова – 169
Художественной школы (бывш. усадьба Петровского, ныне уйадьба Киевского исторического музея. Владимирская ул., д. 2) – 59, 82, 83, 86, 100, 101, 151, 152, 206, 295, 400 [с. 559]
Указатель археологических учреждений, архивов, музеев, выставок и коллекций древностей
А
Антропологическая выставка в Москве -129
Археологическая комиссия, Спб. – 53, 54, 57, 99-103, 122, 125, 130, 131, 139-147, 163, 164, 172, 174, 175, 189, 205, 208, 224, 292, 293, 413, 506
Археологические съезды, III (в Киеве) – 46. 50;
IX (в Вильне) – 77;
XI (в Киеве) – 47, 87, 137, 155, 211;
XIV (в Чернигове) – 106
Архив Военно-топографического депо при Главном штабе – 243
Архив Главного военно-инженерного управления – 243
Архив ИА АН УССР – 42, 83, 100-102, 110, 132, 149, 150, 151, 153, 178, 182, 196, 208, 255, 470
Архив ИИМК АН СССР -:53, 54, 56, 57, 92, 101, 120, 122, 125, 154, 174, 208, 255, 286, 378, 384, 404, 416. 420
Архив Инженерного департамента – 243
Архив Киевского Горсовета – 243
Архив Министерства иностранных дел – 242
Архив Софийского архитектурного-исторического заповедника АА УССР – 244
В
Временный комитет изыскания древностей в Киеве – 39-43, 162, 163
Всеукраинский археологический комитет (ВУАК) – 57, 58, 132, 139, 147-150, 177, 187, 293, 534
Г
Государственная (ранее Российская) академия истории материальной культуры – 57, 139
Государственная публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, Лгр. – 30, 244, 246
Государственный исторический музей (ГИМ), Москва – 130, 208, 209
Государственный Эрмитаж – 75, 120, 122, 141, 146, 147, 206, 225
Д
Дерптский музей – 119
И
Институт археологии (ИА) АН УССР – 7, 59, 60, 83, 86, 88, 96, 100, 101, 104, 109, 110, 112, 132, 133, 151, 178-180, 182, 196, 198, 206, 218, 224, 254-261, 295-298, 316- 320, 348-350, 366, 377, 378, 388-390, 400, 412, 506, 529, 534
Институт живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств СССР – 7
Институт истории материальной культуры (ИИМК) АН СССР – 7, 59, 60, 83, 85, 86, 100, 102, 104, 132, 133, 152-154, 182-187, 298-316, 320-348, 377, 387, 413, 493, 494, 506, 534
Институт истории материальной культуры (ИИМК) АН УССР – см. Институт археологии АН УССР
Историческое общество Нестора летописца, Киев – 166
К
Киевская комиссия для разбора древних актов – 41-45. 128, 242, 252 [с. 560]
Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (ранее Киевский университет св. Владимира) – 7, 44-46, 127, 128
Киевский исторический музей (КИМ) – 7, 58, 59, 79-82, 86, 88, 92, 106, 112, 113, 120, 131, 137, 156, 163, 166, 170, 172, 182, 211, 217, 218, 294, 295, 381, 389, 410, 412, 416, 420, 453, 471, 534
Киевский музей древностей и искусств – 93
Киевское общество древностей и искусств – 93
Коллекция древностей Б. Н. и В.И.Ха-ненко – 172, 200, 410
Коллекция древностей В. Гезе – 170
Коллекция древностей И.А.Хойновского – 92-94
Коллекция древностей Тарновского – 378
Коллекция нумизматическая Юзефовича – 119
Л
Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова – 7
Ленинградское отделение Института истории материальной культуры АН СССР (ЛОИИМК) – см. Институт истории материальной культуры АН СССР
М
Музей древностей при Киевском университете св. Владимира – 39, 40, 42, 44-46, 120, 128, 129, 163, 166, 211
Музей западного и восточного искусства, Киев – 422
Музей Русского археологического общества, СПб. – 119
Мюнц-кабинет Киевского университета св. Владимира – см. Музей древностей при Киевском университете св. Владимира
Н
Нумизматический кабинет Азиатского музея, СПб. – 117
Р
Русское археологическое общество, СПб. – 119
С
Софийский архитектурно-исторический заповедник Академии архитектуры УССР – 60, 61, 271, 425, 458-461
Х
Харьковский исторический музей – 141, 146, 206
Ц
Церковно-археологический музей при Киевской духовной академии – 75, 92, 121, 124, 243, 378
Центральный государственный архив древних актов СССР (ЦГАДА) – 241, 242
Центральный государственный военно-исторический архив СССР (ЦГВИА) – 243, 244
Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (ЦГИАЛ) – 243, 244, 246
Центральный государственный исторический архив УССР – 390 [с. 561]
Список рисунков
Каргер М.К.
1. Римский светильник, найденный на территории Киева
2. Погребение III-IV вв. Усадьба
Художественной школы (ныне усадьба Киевского исторического музея). Раскопки
3. Глиняный сосуд из погребения
III-IV вв. Раскопки
4. Инвентарь погребений III-IV
вв. Раскопки
5. Пара серебряных браслетов с расширяющимися полыми концами. Случайная находка на территории Старого города. Коллекция И.А.Хойновского
6. Пять серебряных браслетов с расширяющимися полыми концами. Случайная находка
7. Профиль рва древнейшего
Киевского городища. Раскопки
8. Разрез рва древнейшего Киевского
городища. Раскопки
9. План жилища с лепной
керамикой. Усадьба Киевского исторического музея (бывш.усадьба Художественной
школы). Раскопки
10. Печь из жилища с лепной керамикой
11. Глиняная обмазка с отпечатками прутьев
12. Капище. Раскопки
13. Капище. Макет. Киевский исторический музей
14. Капище. Общий вид. Раскопки
15. Два фрагмента греческих амфор с клеймами, найденные в могильнике на Прорезной ул.
16. Глинчный сосуд салтовского типа
17. Общий вид погребения 85 и разрез могильной ямы
18. Общий вид погребения 86
19. Общий вид погребения 87
20. Священный дуб с засаженными в него кабаньими клыками
21. Наконечники стрел из колчана (погребение 105)
22. Погребальный инвентарь (погребение 106)
23. Боевой топор (погребение 108)
24. План раскопок восточной части Десятинной церкви (под южной апсидой – сруб погребения 109)
25. Погребальный инвентарь (погребение 109)
26. Могильная камера (погребение 110)
27. Орнаментированные астрагалы и “битки” (погребение 110) [с. 562]
28. Общий вид погребения 111 179
29. Наконечник копья, боевой топорик, удила, стремена, железные пряжки, бронзовые бляшки и серебряная накладка (погребение 113) 181
30. Фрагмент глиняного сосуда (погребение 113) 188
31. Семь бронзовых бляшек от конской сбруи и одна серебряная прорезная накладка (погребение 113) 184
32. Стрелы, железные обломки колчана, куски кожи (погребение 113) 184-186
33. Железные обручи и дужка от деревянного ведра (погребение 113) 185
34. Общий вид погребения 114 186
35. Бронзовые украшения конскоґо убора и подвеска из песчаника (погребение 115) 187
36. Кольцевая бронзовая фибула (погребение 116) 189
37. Общий вид кургана в процессе раскопок (погребение 118) 191
38. Шпоры, пряжка, бронзовое кольцо, пастовые бусы, миниатюрный стеклянный сосудик, серебряная оковка деревянной чаши (погребение 118) 192
39. 1-2 – бронзовая ручка от кресала (погребение 118); 3-4 – аналогии из Прикамья 198
40. Костяная пластина из распиленного лосиного рога (погребение 118) 395
41. Бронзовая курильница (погребение 119) 196
42. Костяные орнаментированные пластинки (погребение 120) 197
43. Бронзовые литые бляшки, наконечник ремня, пряжка, бубенчик, сердоликовая, костяная и пастовая бусы, глиняное пряслице, два астрагала для игры и обломки железных предметов (погребение 120) 199
44. План и разрез могильного сруба (погребение 123) 207
45. Две скорлупообразные фибулы (погребение 124) 209
46. Меч, найденный на Подоле 217
47. План Киева,
48. План-реконструкция Старого Киева М. Максимовича 249
49. План-реконструкция Ярославова города А. Тихонович и Н. Ткаченко 261
50. План внутривальных клетей
Ярославова города. Раскопки
51. Деталь рубки клетей
Ярославова города. Раскопки
52. Торцы бревен клетей
Ярославова города (деталь). Раскопки
53. План и разрез деревянной
конструкции перед лицевой стенкой срубов Ярославова города. Раскопки
54. Поперечный разрез вала
Ярославова города. Раскопки
55. Рисунки киевских жилищ, раскопанных В. Хвойкой 287
56. План жилища в усадьбе
митрополичьего дома. Раскопки
57. Жилище в усадьбе
Художественной школы. Забивка пода печи. Раскопки
58. План жилищ и хозяйственных
сооружений. Усадьба Михайловского Златоверхого монастыря. Раскопки
59. План жилищ I и II и лестницы
в подземное помещение. Раскопки
60. План жилищ III-V и
хозяйственных ям. Раскопки
61. План жилищ IV-VII и
хозяйственных ям. Раскопки
62. Жилище VII. Аксонометрия.
Раскопки
63. Жилище VII. Лестница, у
нижней ступеньки – два обломка жернова. Раскопки
64. “Жилище художника”.
Аксонометрия. Раскопки
65. План жилищ I и II. Усадьба
Михайловского Златоверхого монастыря. Раскопки
66. Жилище II. Печь. Раскопки
67. Общий вид жилища. Усадьба Михайловского
Златоверхого монастыря. Раскопки
68. План жилища. Раскопки
69. Разрезы жилища. Раскопки
70. План жилищ I и II. Б.
Житомирская ул., д. 4. Раскопки
71. Разрезы жилища I. Раскопки
72. Жилище I. План и разрез
печи. Раскопки
73. Жилище I. Печь. Раскопки
74. Помещение со столбовой
конструкцией под полом жилища I. Раскопки
75. Разрез жилища II. Раскопки
76. План раскопок 1948-1949 гг. в усадьбе Киевского исторического музея 341
77. Раскоп
78. Раскоп
79. План жилища. Раскопки
80. План жилища. Раскопки
81. Бронзовая лампада, найденная
в “жилище художника”. Раскопки
82. Боевая гиря и булавы. Раскопки 1936-1937 и 1938 гг. 380
83. Глиняные формы для отливки кистеня (?) 381
84. Бронзовый хорос, найденный на Хоревой ул. 382
85. Фрагменты бронзового хороса
из Киевской Софии. Раскопки
86. Формочки с надписями. Раскопки 1937 и 1940 гг. 385
87. Свинцовые колт (1) и наруч (З) из раскопок в усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря и формочка для наруча (2) 387
88. Бронзовые изделия, найденные
в мастерской литейщика. Раскопки
89. Круглая свинцовая подушка,
обтянутая железным кольцом, раскопки
90. Медный жгут-заготовка для изготовления шейных гривен. Случайная находка 397
91. Инструменты для производства колтов с перегородчатой эмалью. Раскопки В.В.Хвойки 399
92. Обломки тигельков для плавки золота, серебра, меди и эмали. Раскопки 1937г. 401
93. Тигельки для плавки стекла.
Раскопки
94. Фрагмент толстостенного
стеклянного сосуда с налепными жгутами. Раскопки
95. Глиняный сосуд Х в. Раскопки
96. Горшок из “жилища
художника”, раскопки
97. Горшок, в котором был найден
клад
98. Горшок-рукомойник из “жилища художника” (J) и горшок-рукомойник из тайника под Десятинной церковью (2) 419
99. Фрагмент узкогорлого
кувшина, раскопки Д.В.Милеева (1); узкогорлый кувшин, найденный в
100. Сосуд для хранения зерна,
найденный в “жилище художника”. Раскопки
101. Сосуд, найденный под
древним полом Софии. Раскопки
102. Сосуд для хранения зерна.
Раскопки
103. Обломок корчаги с надписью,
найденный в
104. Миниатюра Радзивилловской летописи 424
105. Фрагменты амфор-корчаг.
Усадьба Софийского заповедника. Раскопки
106. Фрагмент амфоры с арабской
надписью. Раскопки
107. Метки собственников сосудов на амфорах 427
108. Клейма на донцах сосудов 428
109. Клейма на донцах сосудов 429 [с. 564]
110. Клейма на донцах сосудов
111. Клейма на донцах сосудов
112. Клейма на донцах сосудов
113. Клейма на донцах сосудов
114. Клейма на донцах сосудов
115. Клейма на донцах сосудов
116. Клейма на донцах сосудов
117. Клейма на донцах сосудов
118. Клейма на донцах сосудов
119. Клейма-на донцах сосудов
120. Клейма на донцах сосудов
121. Клейма на донцах сосудов
122. Клейма на донцах сосудов
123. Клейма на донцах сосудов
124. Клейма на донцах сосудов
125. Днище большого сосуда с изображением княжеского знака. Раскопки В.А.Богусевича на Подоле
126. Печь для обжига кирпича. План.
Раскопки
127. Печь для обжига киопича.
Деталь. Раскопки
128. Печь для обжига кирпича.
Деталь. Раскопки
129. Черепица из развалин
Десятинной церкви. Раскопки
130. Голосники из собора Михайловского Златоверхого монастыря
131. Клейма на голосниках из
Софийского собора. Раскопки
132. Тигли для эмали
133. Деревянные изделия из
“жилища художника”. Раскопки
134. Набор инструментов по
обработке дерева из “жилища художника”. Раскопки
135. Каменные жернова из жилища.
Усадьба Михайловского Златоверхого монастыря. Раскопки
136. Остатки производства
янтарных изделий в “жилище художника”. Раскопки
137. Горшочки с красками из
“жилища художника”. Раскопки
138. Скелеты киевлян, погибших в
битве с татарами. Раскопки
139. Железные оковки лопат,
топоры, обручи и дужки от деревянных ведер, найденные в тайнике под Десятинной
церковью. Раскопки
140. Тайник под Десятинной церковью.
План и разрез. Раскопки
141. Братская могила киевлян в районе Десятинной церкви. Раскопки Д.В.Милеева [с. 565]
Таблицы
(1) 2 3 4
План Киева в целом
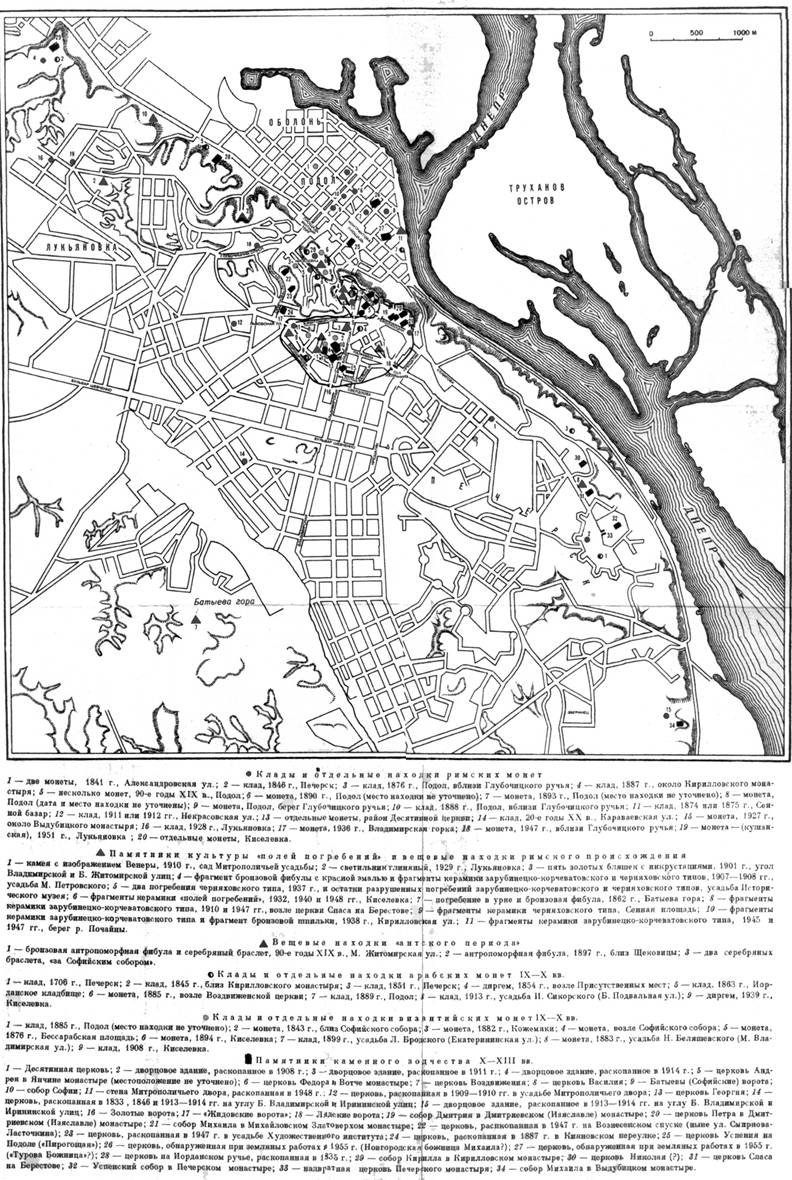
Клады и отдельные находки римских монет
1 – две монеты,
2 – клад,
3 – клад,
4 – клад,
5 – несколько монет, 90-е годы XIX в., Подол;
6 – монета,
7 – монета,
8 – монета, Подол (дата и место находки не уточнены);
9 – монета, Подол, берег Глубочицкого ручья;
10 – клад,
11 – клад, 1874 или
12 – клад, 1911 или 1912 гг., Некрасовская ул.;
13 – отдельные монеты, район Десятинной церкви;
14 – клад, 20-е гг. 20 в., Караваевская ул.;
15 – монета,
16 – клад,
17 – монета,
18 – монета,
19 – монета (кушанская),
20 – отдельные монеты, Киселевка;
Памятники культуры “полей погребений” и вещевые находки римского происхождения
1 – камея с изображением Венеры,
2 – светильник глиняный,
3 – 5 золотых бляшек с
инкрустацией,
4 – фрагмент бронзовой фибулы с красной эмалью и фрагменты керамики зарубинецко-корчеватовского и черняховского типов, 1907 – 1908 гг., усадьба М.Петровского;
5 – два погребения черняховского
типа,
6 – фрагменты керамики “полей погребений”, 1932, 1940 и 1948 гг., Киселевка;
7 – погребение в урне и
бронзовая фибула,
8 – фрагменты керамики зарубинецко-корчеватовского типа, 1910 и 1947 гг., возле церкви Спаса на Берестове;
9 – фрагменты керамики черняховского типа, Сенная площадь;
10 – фрагменты керамики
зарубинецко-корчеватовского типа и фрагмент бронзовой шпильки,
11 – фрагменты керамики зарубинецко-корчеватовского типа , 1945 и 1947 гг., берег р. Почайны.
Вещевые находки “антского периода”
1 – бронзовая антропоморфная фибула и серебряный браслет, 90-е годы XIX в., М. Житомирская браслета,
2 – антропоморфная фибула,
3 – два серебряных браслета, “за Софийским собором”.
Клады и отдельные находки арабских монет 9 – 10 вв.
1 – клад,
2 – клад,
3 – клад,
4 – диргем,
5 – клад,
6 – монета,
7 – клад,
8 – клад,
9 – диргем,
Клады и отдельные находки византийских монет 9 – 10 вв.
1 – клад,
2 – монета,
3 – монета,
4 – монета, возле Софийского собора;
5 – монета,
6 – монета,
7 – клад,
8 – монета,
9 – клад,
Памятники каменного зодчества 10 – 13 вв.
1 – Десятинная церковь;
2 – дворцовое здание,
раскопанное в
3 – дворцовое здание,
раскопанное в
4 – дворцовое здание,
раскопанное в
5 – церковь Андрея в Янчине монастыре (местоположение не уточнено);
6 – церковь Федора в Вотче монастыре;
7 – церковь Воздвижения;
8 – церковь Василия;
9 – Батыевы (Софийские) ворота;
10 – собор Софии;
11 – стена Митрополичьего двора,
раскопанная в
12 – церковь, раскопанная в 1911 – 1912 гг. в усадьба Митрополичьего двора;
13 – церковь Георгия;
14 – церковь, раскопанная в 1833, 1846 и 1913-1914 гг. на углу Б.Владимирской и Ирининской улиц;
15 – дворцовое здание, раскопанное в 1913 – 1914 гг. на углу Б.Владимирской и Ирининской улиц;
16 – Золотые ворота;
17 – “Жидовские ворота”;
18 – Лядские ворота;
19 – собор Дмитрия в Дмитриевском (Изяславле) монастыре;
20 – церковь Петра в Дмитриевском монастыре;
21 – собор Михаила в Михайловском Златоверхом монастыре;
22 – церковь, раскопанная в
23 – церковь, раскопанная в
24 – церковь, раскопанная в
25 – церковь Успения на Подоле (“Пирогощая”);
26 – церковь, обнаруженная при
земляных работах в
27 – церковь, обнаруженная при
земляных работах в
28 – церковь на Иорданском
ручье, раскопанная в
29 – собор Кирилла в Кирилловском монастыре;
30 – церковь Николая (?);
31 – церковь Спаса на Берестове;
32- Успенский собор в Печерском монастыре;
33 – надвратная церковь Печерского монастыря;
34 – собор Михаила в Выдубицком монастыре.
План верхнего Киева и Подола
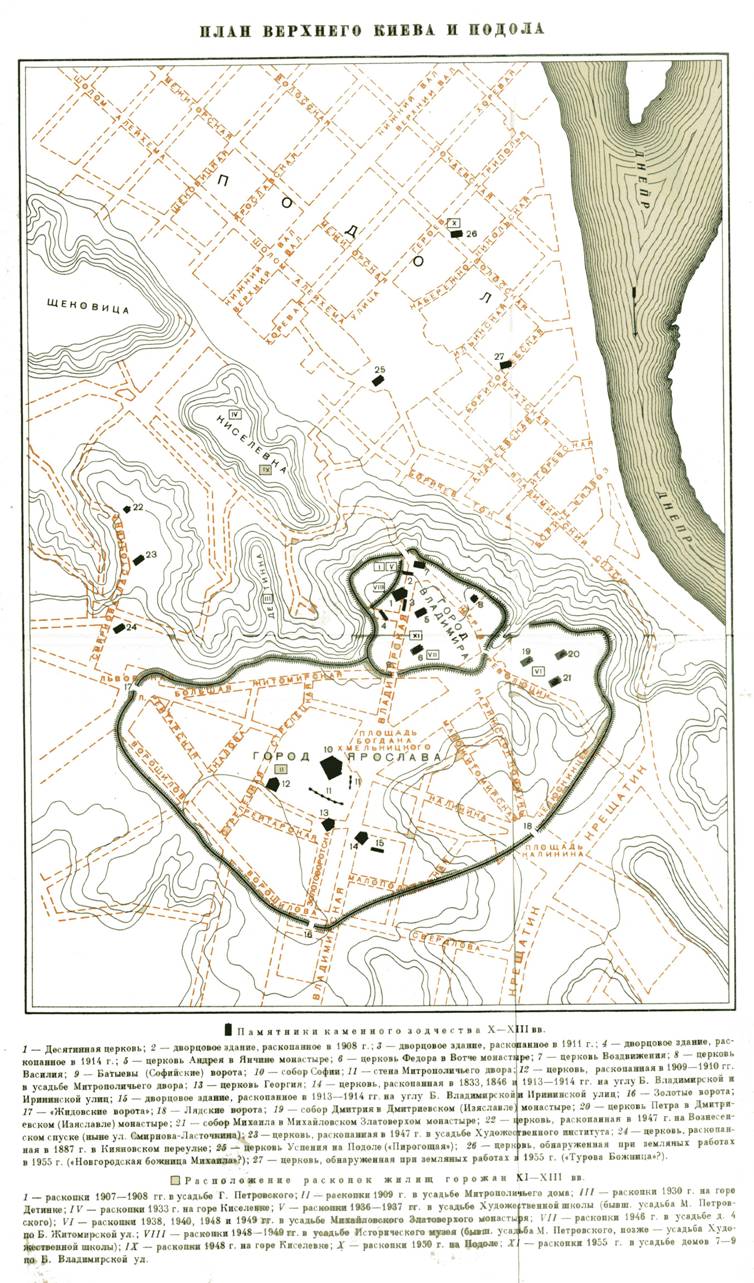
Памятники каменного зодчества 10 – 13 вв.
1 – Десятинная церковь;
2 – дворцовое здание,
раскопанное в
3 – дворцовое здание, раскопанное
в
4 – дворцовое здание,
раскопанное в
5 – церковь Андрея в Янчине монастыре;
6 – церковь Федора в Вотче монастыре;
7 – церковь Воздвижения;
8 – церковь Василия;
9 – Батыевы (Софийские) ворота;
10 – собор Софии;
11 – стена Митрополичьего двора;
12 – церковь, раскопанная в 1909 – 1910 гг. в усадьбе Митрополичьего двора;
13 – церковь Георгия;
14 – церковь, раскопанная в 1833,1846 и 1913 – 1914 гг. на углу Б.Владимирской и Ирининской улиц;
15 – дворцовое здание, раскопанное в 1913-1914 гг. на углу Б.Владимирской и Ирининской улиц;
16 – Золотые ворота;
17 – “Жидовские ворота”;
18 – Лядские ворота;
19 – собор Дмитрия в Дмитриевском (Изяславле) монастыре;
20 – церковь Петра в Дмитриевском (Изяславле) монастыре;
21 – собор Михаила в Михайловском Златоверхом монастыре;
22 – церковь, раскопанная в
23 – церковь, раскопанная в
24 – церковь, раскопанная в
25 – церковь Успения на Подоле (“Пирогощая”);
26 – церковь, обнаруженная при
земляных работах в
27 – церковь, обнаруженная при земляных
работах в
Расположение раскопок жилищ горожан 11 – 13 вв.
І – раскопки 1907-1908 гг. в усадьбе Г.Петровского;
II – раскопки
ІІІ – раскопки
IV – раскопки
V – раскопки 1936-1937 гг. в усадьбе Художественной школы (бывш.усадьба М.Петровского);
VI – раскопки 1938, 1940, 1948 и 1949 гг. в усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря;
VIІ – раскопки
VIII – раскопки 1948-1949 гг. в усадьбе Исторического музея (бывш.усадьба М.Петровского, позже – Художественной школы);
IX – раскопки
Х – раскопки
XІ – раскопки
Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.
Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.
Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.
Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.
Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.
Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,
академик Российской академии художеств
Сергей Вольфгангович Заграевский